Текст книги "Киногид извращенца. Кино, философия, идеология"
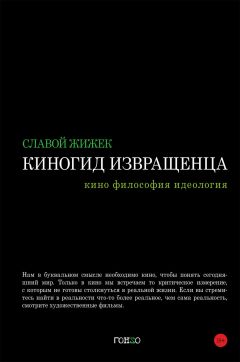
Автор книги: Славой Жижек
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 24 страниц)
Это измерение следует противопоставить морали. Со школьных времен я помню один жест моего хорошего друга, который тогда сильно меня потряс. Учительница задала нам написать эссе о том, «какое удовлетворение приносит добро, сделанное для своего соседа»: формулировка подразумевала, что каждый из нас должен описать глубокое удовлетворение, возникающее из осознания совершенного хорошего поступка. Мой друг, отложив бумагу и ручку, сидел неподвижно, пока весь класс бойко строчил. Когда учительница спросила у него, в чем дело, он ответил, что не может ничего написать, так как попросту никогда не чувствовал ни нужды в таких поступках, ни удовлетворения от них – он никогда не делал ничего хорошего. Учительница была так потрясена, что дала моему другу особую возможность написать свою работу дома после школы – конечно же, он обязательно вспомнит какой-нибудь хороший поступок… На следующий день мой друг пришел в школу с тем же чистым листом бумаги, заявив, что вчера днем он много думал, но такого хорошего поступка, который он мог бы вспомнить, просто не было. Тогда учительница в отчаянии выпалила: «Почему же ты просто не мог выдумать какую-нибудь историю на эту тему?», – на что мой друг ответил, что даже фантазировать о подобных вещах у него не получается. Учительница пригрозила, что из-за своего упрямства он получит низкую оценку, которая серьезно пошатнет его положение, но мой друг продолжал настаивать, что ничего не может поделать, что абсолютно бессилен, поскольку не способен размышлять на эту тему и в голове его совершенно пусто. Этот отказ идти на компромисс и менять свою позицию – этика в чистом виде, этика в противоположность морали, моральному состраданию. Нет необходимости добавлять, что на деле мой друг очень много помогал другим и был хорошим человеком, но ему казалось совершенно отвратительным, что он должен был находить нарциссическое удовлетворение в наблюдении за собственными добрыми делами, – по его мнению, подобный рефлексивный поворот приравнивался к глубочайшему этическому предательству.
С этой точки зрения тема Кеслёвского – это этика, а не мораль: во всех сериях «Декалога» происходит сдвиг от морали к этике. Отправной точкой всегда является моральная заповедь, именно через нарушение которой герой (героиня) обнаруживает истинное этическое измерение. «Декалог 10» является ярчайшим примером этого выбора между этикой и моралью, проходящим красной нитью через весь цикл Кеслёвского: два брата решают продолжить дело своего отца (коллекционирование почтовых марок) ценой нарушения моральных обязательств (старший брат не только бросает семью, но и продает свою почку, платя за символическое призвание хрестоматийным фунтом плоти). Подобный выбор, изображенный в своей чистейшей форме в «Двойной жизни Вероники», – выбор между призванием (ведущий к смерти) и тихой жизнью в довольстве (когда/если призвание приносится в жертву) – относится к давней традиции (вспомните историю Э. Т. А. Гофмана об Антонии, которая также выбирает пение и платит за этот выбор жизнью). Изображение этого выбора в повествовании Кеслёвского явно аллегорично: оно содержит указание на самого Кеслёвского. Разве не был его выбор выбором Вероники? – зная о своих проблемах с сердцем, он выбрал искусство/призвание (не пение, а кино) и позже действительно умер от сердечного приступа. Прообразом судьбы Кеслёвского служит уже его «Кинолюбитель» (Amator/Camera Buff, 1979), портрет человека, отказавшегося от счастливой семейной жизни ради отстраненного наблюдения и регистрирования реальности на экране. В финальной сцене фильма, когда героя навсегда покидает жена, он направляет камеру на себя и жену, регистрируя на пленке ее уход: даже в этот травматический интимный момент он не полностью вовлечен в происходящее, продолжая настаивать на своей позиции наблюдателя – окончательное доказательство того, что он действительно возвел создание фильмов в статус своего этического Дела… Контрапунктом к «Кинолюбителю» служит фильм «Покой» (The Calm, 1976), в котором изображена судьба Антека, только что вышедшего из тюрьмы. Все, что ему нужно от жизни, это такие простые вещи, как работа, чистое место для сна, еда, жена, телевизор и спокойствие. На новом рабочем месте его ловят за незаконными махинациями и избивают коллеги, и в конце фильма он просто бормочет: «Покой… покой». Герой «Покоя» не одинок: даже героиня «Красного» Валентина утверждает, что хочет одного – уйти с миром, без лишних профессиональных амбиций.
Этот выбор между этикой и моралью вновь делает ощутимой крайнюю неоднозначность матрицы Кеслёвского: спасение через повторение. С определенной точки зрения послание его фильмов кажется оптимистическим – нам дается второй шанс, мы можем учиться на ошибках прошлого. Однако невозможно игнорировать противоположного толкования темы повторного выбора, согласно которому «мудрое» повторение подразумевает этическое предательство, выбор «жизнь или Дело» (француженка Вероник жертвует своим желанием)[177]177
Такое Дело не обязательно должно быть «достойным»: в перевернутой версии ситуации Вероники Анна Моффо, прекрасная певица-сопрано, знаменитая в 1960-е гг., внезапно прервала свою карьеру, когда ей пришлось выбирать между оперным пением и активной беспорядочной половой жизнью, в частности фелляцией (доктора предупредили, что глотание семени убьет ее голос). Ходили упорные слухи, что Моффо выбрала фелляцию и согласилась погубить свой голос – se non è vero, è ben trovato. В силу своего чрезмерного, «иррационального» характера это анти-Дело, выбор анти-Вероники также является этическим.
[Закрыть]. В таком случае это объясняет различие между двумя Верониками: «риск жесткого непосредственного приближения к сути, увенчанного музыкальной mort (смертью) на совершенной, но неясной ноте» против «осознанного путешествия через литературную аллегорию», отраженного через опыт Другого (спроецированный роман кукловода)[178]178
Masson A. // Krzysztof Kieślowski. Textes réunis et présentés par Vincent Amiel. P. 108.
[Закрыть]. Таким образом, меланхоличности и склонности к рефлексии француженки Вероник противопоставляется прямой энтузиазм по отношению к Делу полячки Вероники; выражаясь языком Шиллера, Вероник сентиментальна, а Вероника – наивна. Дело не только в том, что знание о самоубийственном характере выбора Вероники оказывается полезным для Вероник, но и в том, что она совершает акт этического предательства. Присутствие этого трагического выбора не позволяет нам свести случай Вероник к истории о духовном поиске в стиле нью-эйдж – обскурантистский нью-эйджевский ремейк «Двойной жизни Вероники» Кеслёвского уже существует – это «Вероника решает умереть», бестселлер Пауло Коэльо 1999 г.[179]179
Примечательно, что среди почитателей Пауло Коэльо мы находим Билла Клинтона, Жака Ширака и Бориса Ельцина!
[Закрыть], история двадцатичетырехлетней библиотекарши, живущей – не стоит удивляться – в Любляне, Словения, здоровой, привлекательной и умной женщины, внезапно решившей умереть, поскольку лучшая пора ее юности уже позади и отныне ее ждет лишь медленное, но неумолимое угасание, вкус которого она ощущает, получая из СМИ очередную дневную порцию депрессивных новостей. К счастью, ее обнаруживают прежде, чем таблетки, которыми она собиралась отравиться, успевают полностью подействовать, и отправляют в психиатрическое отделение, где ей промывают желудок. Там она понимает, что кома все же оказала губительный эффект на ее сердце: она ощущает регулярные приступы сильного сердцебиения и узнаёт, что ей осталось жить всего пару дней. Лишь теперь она способна полностью оценить каждое оставшееся мгновение и насладиться им. Однако она не знает о том, что участвует в лечебном эксперименте своего мудрого и великодушного врача: он вызывает у нее сильное сердцебиение посредством безобидных лекарств, ставя на то, что лишь переживание близости смерти воскресит ее волю к жизни. Старое фортепиано, которое она находит в больнице, пробуждает ее давнюю страсть к музыке; вскоре она выписывается из больницы, полностью поправившись и намереваясь следовать своему музыкальному призванию. Отличие от версии Кеслёвского не может не броситься в глаза: у Коэльо полностью отсутствует понятие о неотъемлемом и неустранимом напряжении между удовлетворенной жизнью и следованием своему (музыкальному или иному) призванию, поскольку его вселенная – это вселенная, в которой царит предопределенная гармония этих двух измерений.
Этический выбор между Миссией и Жизнью, вокруг которого вращаются фильмы Кеслёвского, повторяется в различной форме в серии недавно вышедших фильмов, которым, однако, так и не удается достичь остроты, присущей Кеслёвскому. Разве не является «Хилари и Джеки» (1998) Ананда Такера, история Хилари и Джеки дю Пре, двух музыкальных дарований из Англии 1950-х, еще одной вариацией на ту же тему? Хилари решает завести семью, а Джеки быстро достигает международной славы, обзаводится множеством поклонников, страстно обожающих ее музыку, и вскоре выходит замуж за прославленного пианиста и дирижера Даниэля Баренбойма. Однако постоянные гастроли становятся Джеки в тягость: ей хочется более простой семейной жизни, которую построила Хилари; без предупреждения появившись в доме сестры, одинокая и подавленная Джеки обнаруживает, что также желает мужа сестры – и, в высочайшем акте милосердия, ее сестра угождает ей. (Этот самый «скандальный» момент отношений между Джеки и Хилари, этот роман, который Джеки с одобрения своей сестры заводит с ее мужем, так невыносим потому, что подразумевает инверсию стандартной левистроссовской логики, согласно которой женщины – это объекты обмена, совершаемого мужчинами, – в данном случае мужчина служит объектом обмена, совершенного женщинами.) Словно наказанная за свою бескомпромиссную преданность делу, Джеки умирает в результате долгой, изматывающей болезни, оборвавшей ее музыкальную карьеру и приковавшей ее к инвалидной коляске… Таким образом, фильм «Хилари и Джеки» является вариацией на тему Вероники: вместо двух Вероник мы получаем более «реалистическое» изображение двух сестер, представляющих разные варианты этического выбора[180]180
Возможно, здесь также присутствует сходство с «Глазом, привыкшим к темноте» Рут Ренделл, изображающим инцестуально близкие отношения двух сестер, хотя в романе Вера, «нормальная» сестра, убивает «роковую» Иден.
[Закрыть]. В отношениях Хилари и Джеки присутствует двойная истерия: каждая из двух сестер воспринимает другую как женщину, которая знает, как испытывать желание («субъект, который должен желать»), и, по крайней мере в какой-то момент, исключает себя из общей картины, рассчитывая на то, что ее отсутствие создаст идеальный образ пары или семьи. Для Джеки Хилари и ее семья – идеальная ячейка, за которой она с вожделением наблюдает, в то время как для Хилари образ Джеки, играющей с ее собственным мужем и детьми, является тем идеалом, в котором совершенно нет места для нее самой.
Фильм разделен на две части: история рассказывается сначала с точки зрения Хилари, а затем – Джеки. Такое деление полностью оправдывает тот факт, что пара Хилари – Джеки – это новейшая версия пары Исмена – Антигона, то есть «нормальная» в эмоциональном отношении женщина в противопоставлении женщине, полностью посвятившей себя своему Делу: сначала мы видим исключительную, даже чудовищную Объект-Вещь (Джеки) глазами ее «нормальной» сострадательной сестры; в конце мы переносимся на точку зрения само́й невозможной Вещи, субъективизация которой может состоять лишь из истории ее падения и краха. Нервный срыв Джеки во время выступления на концерте показан через инверсию стандартного метода «возвышенного» пресуществления, который переносит нас от дефективной, жалкой песни, исполненной в реальности, к совершенному волшебству пения или игры в фантастическом пространстве: на самом деле концерт Джеки проходит хорошо, но она воображает, что не попадает в ноты и производит отвратительные диссонирующие звуки.
Возможно, отношения Джеки с ее виолончелью лучше всего передает мотив «смерти и девушки»? Возможно, ее виолончель – это objet petit a, неполный объект, грозящий поглотить субъект, затащив его в свое смертельное не-фаллическое jouissance? Возможно, это Исключение с точки зрения интерсубъективных партнеров/любовников (не фаллическое исключение, а не-фаллическая избыточность), в котором мы имеем 1+1+1+1…+ a? Выражаясь языком наивной философии, загадка жизни Джеки такова: почему она, будучи веселой, сексуально раскрепощенной девушкой двадцати с чем-то лет, в качестве избранного произведения предпочла меланхолический концерт Элгара для виолончели, шедевр старой эпохи, и дала ему такую глубоко прочувствованную интерпретацию? Возможно, в этом она напоминает Оскара Уайльда, который, еще наслаждаясь громким успехом в обществе, уже предчувствовал свое окончательное падение (что ясно прочитывается в его «Дориане Грее»)? Это псевдотелеологическое предчувствие не следует сводить к идеологической цензуре, которая требует, чтобы женщина платила свою цену за полное погружение в искусство и за отношение к мужчинам как к серийным любовникам, – в нем есть нечто большее, интимная связь, которая, кажется, существует между женственностью и стремлением к смерти[181]181
Об этом говорит Элизабет Коуи, см.: Cowie E. Film noir and Women // Shades of Noir / ed. J. Copjec. London: Verso, 1993.
[Закрыть].
Фильм Нила ЛаБута «В компании мужчин» (In the Company of Men) представляет намного более зловещий вариант этого же выбора: его следовало бы официально объявить новой инсценировкой садистского проекта в духе сегодняшней идеологии виктимизации. Как заметил сам режиссер в одном интервью, идея фильма родилась из случайно услышанной им фразы: «Давай сделаем кому-нибудь по-настоящему больно!» Существенно, что понятие о «причинении кому-нибудь настоящей боли» больше не принадлежит к уровню физической пытки или даже экономического уничтожения – оно относится к тому, что обычно называют «психологической пыткой». Два менеджера, вынужденные провести шесть недель в небольшом городке на Среднем Западе, жалуются друг другу на то, как жестоко их бросили подружки, и в конце концов решают отомстить женщинам: они найдут одинокую уязвимую женщину, уже расставшуюся с надеждой на счастливую любовь, начнут одновременно страстно ухаживать за ней и попытаются ее соблазнить. Приятно удивленная этим двойным вниманием и неожиданной проблемой выбора между ними, женщина обретет в жизни новую надежду; тогда, в тот самый момент, когда она будет пребывать на вершине счастья, они оба сообщат ей одновременно, что все было игрой, чтобы сделать ей больно, и что им на нее плевать: обреченная на бессонные ночи, она уже не сможет оправиться от шока, ее жизнь будет навсегда разрушена и лишена всякой надежды. Таким образом, если любой из этих двух мужчин вновь получит отказ от женщины или будет унижен боссом, он найдет утешение в том факте, что его неприятности – ничто по сравнению с печальной судьбой этой женщины: по крайней мере однажды он сделал другому человеку намного больнее… После этого история разворачивается предсказуемым образом: они находят глухую офисную работницу, один из мужчин по-настоящему влюбляется в нее, а поскольку он непривлекателен и бедная девушка предпочитает другого, он, дабы завоевать ее, нарушает правила игры и прямо сообщает ей об эксперименте, жертвой которого она стала. Он обычный слабак, его зло в каком-то смысле «все еще человечно», в то время как Зло другого мужчины ближе к извращенной этической позиции: для него Зло – это Миссия, тогда как для слабака это средство выживания.
Важно то, что в конце фильма мы узнаём: по-настоящему злого мужчину вообще не бросала девушка – они все это время поддерживали связь, а его история была простой выдумкой. Его намерение сделать кому-то больно было не актом мести, а – в извращенном смысле – чисто этическим выбором. Но что, если настоящей целью его действий была не бедная девушка, а явно более «честный» и «человечный» мужчина? Что, если намерение злого мужчины заключалось в том, чтобы сделать больно ему, соучастнику преступления, унизить его и уничтожить остатки его чувства самоуважения? В конце фильма зритель вообще не может сказать, кто из двух злоумышленников хуже: на этот вопрос нет правильного ответа. Парень, нарушающий правила игры, «раскрывая себя» и выкладывая все девушке, в определенном смысле более жесток (например, он говорит ей, что из-за своей глухоты она не в том положении, чтобы выбирать партнера); хотя он не может исполнить свое намерение сделать кому-то по-настоящему больно, в действительности он ранит девушку даже сильнее, чем второй мужчина.
Два недавних фильма, которые сняты разными режиссерами, но которые следует толковать в паре – «Простая история» (The Straight Story) Дэвида Линча и «Талантливый мистер Рипли» Энтони Мингеллы, – изображают другие версии того же выбора. Само начало «Простой истории» Дэвида Линча, первые слова вступительных титров – «Уолт Дисней представляет фильм Дэвида Линча» – демонстрируют, вероятно, лучшее резюме этического парадокса, ознаменовавшего конец XX в.: частичное совмещение трансгрессии и нормы. «Уолт Дисней» – бренд консервативных семейных ценностей – берет под свое крыло Дэвида Линча, автора, олицетворяющего трансгрессию и изображающего порнографический теневой мир извращенного секса и насилия, скрывающийся под респектабельной поверхностью нашей жизни.
Сегодня самому культурно-экономическому аппарату, дабы воспроизводить себя в условиях рыночной конкуренции, все чаще приходится не только терпеть, но и напрямую стимулировать создание все более шокирующих эффектов и продуктов. Уместно вспомнить последние тенденции в изобразительном искусстве: те дни, когда у нас были обычные статуи и картины в рамах, прошли – теперь у нас есть выставки рам без картин, выставки мертвых коров и их экскрементов, видеозаписи происходящего внутри человеческого тела (гастроскопия и колоноскопия), дополнение экспозиции запахами и т. д. и т. п. Здесь, так же как и в сексуальной сфере, извращение больше не считается разрушительным: шокирующие крайности – часть самой системы, система питается ими, чтобы воспроизводить саму себя. Итак, если ранние фильмы Линча также оказались в этой ловушке, что можно сказать о «Простой истории», основанной на реальных событиях из жизни Элвина Стрейта, старого хромого фермера, отправившегося в путешествие по равнинам Америки на газонокосилке John Deere, чтобы навестить больного брата? Подразумевает ли эта неспешная история о стойкости отречение от трансгрессии и поворот к наивной непосредственности прямой этической позиции преданности? Само название фильма явно указывает на предыдущие опусы Линча: это простая, прямая (straight) история по сравнению с «отклонениями» в странный теневой мир «Головы-ластика», «Шоссе в никуда» и т. д. Но что, если «прямой» герой последнего фильма Линча на самом деле подрывает устои гораздо сильнее, чем странные персонажи его предыдущих фильмов? Что, если в нашем пост-современном мире, где радикальная этическая убежденность воспринимается как нелепая старина, он и есть подлинный изгой? Здесь стоит вспомнить старое выдающееся замечание Г. К. Честертона из его книги «В защиту детективной литературы» о том, что детективная история
в известном смысле способствует осмыслению того факта, что цивилизация сама является наиболее сенсационным из расколов, наиболее романтичным из восстаний… Когда сыщик в приключенческом полицейском романе с безрассудной отвагой заходит в воровской притон и противостоит в одиночку ножам и кулакам бандитов, это наверняка побуждает нас помнить, что оригинальная и поэтическая фигура – это блюститель социальной справедливости, а воры и грабители – это всего-навсего старые как мир, самоуспокоенные космические ретрограды, счастливо наслаждающиеся древней респектабельностью обезьян и волков. [Полицейская романтика] основана на том факте, что нравственность представляет собой самый тайный и смелый из заговоров[182]182
Chesterton G. K. A Defense of Detective Stories // The Art of the Mystery Story / ed. H. Haycraft. New York: The Universal Library, 1946. P. 6. (Цит. в переводе В. Воронина по изд.: Честертон Г. К. Как сделать детектив. М.: Радуга, 1990. С. 19. – Примеч. ред.)
[Закрыть].
В таком случае что, если это и есть окончательное послание фильма Линча: этика – «самый тайный и смелый из заговоров», а этический субъект – это тот, кто угрожает существующему порядку, в отличие от длинного ряда странных извращенцев Линча (Барон Харконнен в «Дюне», Фрэнк в «Синем бархате», Бобби Перу в «Диких сердцем»…), в конечном итоге поддерживающих его? Именно в этом смысле контрапунктом к «Простой истории» является «Талантливый мистер Рипли» Энтони Мингеллы, основанный на одноименном романе Патриции Хайсмит. «Рипли» рассказывает историю Тома Рипли, бедного и амбициозного молодого ньюйоркца, с которым заводит знакомство богатый магнат Герберт Гринлиф, ошибочно считающий, что Том учился в Пристоне вместе с его сыном Дики. Дики ведет праздный образ жизни в Италии, и Гринлиф нанимает Тома, чтобы тот отправился в Италию и вразумил его сына, убедив занять полагающееся ему место в семейном бизнесе. Однако, оказавшись в Европе, Том попадает под очарование не только самого Дики, но и изысканной, беззаботной и социально приемлемой жизни высшего общества, в котором обитает Дики. Все разговоры о гомосексуальности Тома здесь неуместны: Дики для Тома является не объектом желания, а идеальным желающим субъектом, субъектом переноса, который «должен знать (как желать)». Иными словами, для Тома Дики становится его идеальным эго, фигурой его воображаемой идентификации: вожделеющий взгляд, который несколько раз украдкой бросает на Дики Том, выдает не эротическое желание установить с ним сексуальную связь, обладать Дики, но его желание быть как Дики. Чтобы выйти из этого затруднительного положения, Том разрабатывает сложный план: во время прогулки на яхте он убивает Дики, а затем на некоторое время заимствует его личность. Ведя себя как Дики, он подстраивает так, чтобы после «официальной» смерти Дики унаследовать его состояние; когда эта цель достигнута, фальшивый «Дики» исчезает, оставляя после себя предсмертную записку самоубийцы, где расхваливает вновь объявляющегося Тома, который, таким образом, успешно избегает подозрительных следователей и даже заслуживает благодарность родителей Дики, а затем отправляется из Италии в Грецию.
Хотя роман был написан в середине 1950-х, можно утверждать, что Хайсмит предвидела сегодняшнее терапевтическое переписывание этических норм в «рекомендации», которым не стоит следовать слепо. Рипли просто сделал последний шаг в этом переписывании: не убивай – кроме случаев, когда у тебя точно нет другого пути к счастью. Или, как выразилась в одном интервью сама Хайсмит: «Его можно назвать психотиком, но я не назвала бы его безумным, поскольку его действия рациональны… Я, скорее, считаю его цивилизованным человеком, который убивает, когда абсолютно вынужден это сделать». Таким образом, Рипли – это не «американский психопат», а его преступления не маниакальные passages à l’acte, взрывы насилия, через которые он освобождает энергию, блокированную неудовлетворенностью повседневной жизни яппи. Его преступления основаны на простой прагматической аргументации: он делает то, что необходимо для достижения цели – спокойной богатой жизни в лучших пригородах Парижа. Пугает в нем, разумеется, то, что у него, похоже, по каким-то причинам отсутствует элементарное этическое чувство: в повседневной жизни он в основном дружелюбен и внимателен (хотя в его поведении и сквозит холодность), и, совершая убийство, он делает это с сожалением, быстро, максимально безболезненно, так, как обычно выполняют неприятную, но необходимую работу. Он – самый настоящий психотик, лучший пример того, что имел в виду Лакан, когда утверждал, что нормальность – это особая форма психоза – «свобода» от травматического плена символической паутины, от символического порядка.
Однако загадка Рипли, изображенного Хайсмит, выходит за пределы стандартного для американского менталитета мотива о способности человека радикально себя «переделать», стереть следы прошлого и принять совершенно новую личность, выходит за пределы постмодернистского «протеева Я». С этим связана окончательная неудача фильма по сравнению с романом: фильм «гетсбизирует» Рипли, превращая его в новую версию американского героя, использующего мрачный способ для создания своей новой личности. То, что здесь теряется, лучше всего видно в ключевом различии между романом и фильмом: в фильме у Рипли иногда просыпается совесть, в то время как в романе муки совести просто для него недоступны. Именно поэтому «явное изображение» в фильме гомосексуальных желаний Рипли также бьет мимо цели. Мингелла подразумевает, что в 1950-х Хайсмит пришлось проявить осторожность, чтобы представить персонажа широкой публике, в то время как сегодня мы можем говорить об этом открыто. Однако холодность Рипли – не следствие его гомосексуальных наклонностей – скорее наоборот. В одном из последних романов о Рипли мы узнаём, что он раз в неделю занимается любовью со своей женой Элоизой, словно выполняя регулярный ритуал – в нем нет никакой страсти, Том похож на Адама в раю до Грехопадения, когда, согласно святому Августину, он и Ева занимались сексом, но исполняли это как простую практическую задачу, подобную бросанию семян в поле. Поэтому один из способов объяснить Рипли – это сделать его ангелом, живущим во Вселенной до Закона и его преступления (греха), то есть до описанного апостолом Павлом порочного круга суперэго, в котором вина порождается самой нашей покорностью закону. По этой причине после совершения убийств Рипли не чувствует ни вины, ни даже сожаления: он еще не полностью познал символический Закон.
Парадокс этой неинтегрированности в том, что ценой, которую за нее платит Рипли, оказывается неспособность испытывать сексуальную страсть – явное доказательство того, что вне рамок символического Закона сексуальной страсти не существует. В одном из последних романов о Рипли герой видит на кухонном столе двух мух и, приглядевшись к ним и заметив, что они спариваются, с отвращением давит их. Эта небольшая деталь имеет огромное значение: Рипли Мингеллы никогда не сделал бы ничего подобного: Рипли Хайсмит в некотором роде изолирован от реальности плоти, испытывает отвращение к Реальности жизни, к ее циклу созидания и разрушения. Девушка Дики Мардж дает точную характеристику Рипли: «Ладно, может быть, он не педик. Он просто ничто – и это еще хуже. Он недостаточно нормален, чтобы вообще вести сексуальную жизнь». Поскольку подобная холодность характеризует определенную радикальную лесбийскую позицию, возникает искушение утверждать: парадокс Рипли заключается не в том, что он клозетный гей, а в том, что он мужчина-лесбиянка. (Здесь хочется вспомнить тот факт из биографии Хайсмит, что она сама была лесбиянкой: не удивительно, что она чувствовала такую близость к фигуре Рипли.) Настоящая загадка Рипли в том, почему он упорно хранит эту ледяную холодность, поддерживая психотическую невовлеченность в какую бы то ни было страстную человеческую привязанность, даже после того, как достигает своей цели и заново создает себя как уважаемого арт-дилера, живущего в богатом пригороде Парижа. Эта невовлеченная холодность, сохраняющаяся после любой смены личности (возможно, окончательная истина о «постсовременном субъекте»), почему-то потеряна в фильме.
Кроме того, киноверсия «Талантливого мистера Рипли» ясно показывает нам, в чем проблема базового постмодернистского хода «заполнения пробелов» (посредством сиквелов, приквелов, пересказа истории с другой точки зрения или простого заполнения пустот в оригинальном тексте), метода, проходящего через границу между высоким и низким, поскольку он может применяться как в продуктах популярной культуры, так и в высоком искусстве (две новые версии «Гамлета» – пьеса «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» Тома Стоппарда, пересказывающая историю второстепенных персонажей, и приквел «Гертруда и Клавдий» Джона Апдайка). Так что же принципиально не так с этим методом? Согласно четкому анализу, проведенному Ричардом Молтби[183]183
См.: Maltby R. «A Brief Romantic Interlude»: Dick and Jane go to 31/2 Seconds of the Classic Hollywood Cinema // Post-Theory / ed. D. Bordwell, N. Carroll. Madison: University of Wisconsin Press, 1996.
[Закрыть], «Касабланка» приводит в действие два различных диапазона толкования: «наивное» толкование, полностью отвечающее правилам печально известного Кодекса Хейса, и более утонченное толкование, при котором зритель различает в текстуре фильма многочисленные признаки трансгрессивного поведения. Таким образом, мы получаем «официальную» историю, в которой взор большого Другого как «невинного наблюдателя» не может найти ничего морально/идеологически проблемного, и целый ряд возможных альтернативных историй, воображаемых зрителем, явным образом нарушающих основные сексуальные, политические и т. д. запреты. Эти два толкования не просто противоречат друг другу: именно потому, что кинематографический текст усердно старается сохранить невинность в глазах большого Другого (все события и действия можно объяснить с точки зрения «официальной» истории), он может разрешить зрителю побаловать себя запретными удовольствиями[184]184
Возможно, здесь усматривается сходство с инверсией развития формы биржевых товаров у Маркса. Во-первых, официальная история дополнена рядом фантастических трансгрессивных толкований / эквивалентов; затем появляется инверсия универсального эквивалента, т. е. оказывается, что все различные фантастические альтернативы вращались вокруг Одной фундаментальной фантазии.
[Закрыть].
И разве сегодняшний читатель и/или писатель не сталкивается с искушением, которое вызывает, например, самая знаменитая новелла Клейста «Маркиза д’О», шокирующая уже своим первым абзацем:
В М. – крупном городе Северной Италии – вдовствующая маркиза д’О, женщина безукоризненной репутации и мать нескольких прекрасно воспитанных детей, поместила в газете следующее объявление: она по неизвестной ей причине оказалась в положении. Ей хотелось бы, чтобы отец ожидаемого ею ребенка открыл ей свою личность, и она намерена – из заботы о семье – выйти за него замуж[185]185
Kleist H. von. The Marquise of O and Other Stories. Harmondsworth: Penguin Books, 1978. P. 68.
[Закрыть].
Шокирующая непристойность этих строк основана на чрезмерном отождествлении героини с нормами морали: она доводит покорность сексуальным приличиям до нелепой крайности. У героини отсутствуют какие бы то ни было воспоминания о сексуальном контакте – невротических симптомов, которые указывали бы на подавление этих воспоминаний, также нет (поскольку, как нам известно благодаря Лакану, подавление и возвращение подавленного – это одно и то же); факт сексуального контакта не просто подавлен в воспоминаниях, он отсутствует. В фильме «Люди в черном» у тайных агентов, сражающихся с пришельцами, есть небольшой, похожий на ручку прибор, который они используют, когда обыватели контактируют с инопланетянами: вспышка этого прибора перед глазами человека полностью стирает его воспоминания о событиях последних нескольких минут (чтобы уберечь его от посттравматического шока). Возможно, похожая система лежит в основе механизма Verwerfung (отбрасывания). Разве Verwerfung не такой же воздействующий на психику прибор? Кажется, что маркиза д’О подверглась действию подобной стирающей воспоминания вспышки. Об этом радикальном стирании воспоминаний о сексуальном контакте говорит знаменитое тире в середине предложения, описывающего ее тяжелое положение: во время штурма русскими войсками крепости, которой командовал ее отец, она попала в руки подлых вражеских солдат, попытавшихся ее изнасиловать, но была спасена молодым русским офицером графом Ф., который затем
подал ей руку и отвел ее в другое крыло крепости, до которого еще не добрался огонь и где, уже онемевшая от ужаса выпавших на ее долю испытаний, она потеряла сознание. Затем – офицер приказал испуганным слугам маркизы, появившимся через некоторое время, послать за доктором; он заверил их, что она скоро придет в себя, надел шляпу и вернулся к сражению[186]186
Kleist H. von. Op. cit. P. 70.
[Закрыть].
Тире между словами «затем» и «офицер», разумеется, играет такую же роль, как трех-с-половиной-секундный план башни аэропорта ночью, следующий за страстными объятиями Ильзы и Рика, и затем вновь растворяющийся в кадрах, показывающих снаружи окно комнаты Рика. Произошло то, что граф поддался внезапному искушению, возникшему вследствие ее обморока (об этом говорит уже та интересная деталь описания, что граф «надел шляпу»). Поиски через газету приводят к тому, что граф является и делает предложение маркизе д’О, хотя она узнаёт в нем не своего насильника, а своего спасителя. Позже становится ясна роль ее беременности в истории: она продолжает настаивать на браке с ним, идя против воли своих родителей, готовая признать своим спасителем того, кто ее изнасиловал, – так же, как в конце своего «Предисловия» к «Основаниям философии права» Гегель, вторя Лютеру, советует нам видеть Розу (надежды и спасения) на утомительном Кресте современности: послание истории – это «истина» патриархального общества, которую в рамках гегелевского суждения можно было бы выразить как тождественность насильника и спасителя, задача которого – защищать женщину от изнасилования, или же, снова выражаясь языком Гегеля, как доказательство, что под видом борьбы с внешней силой Субъект борется с самим собой, с собственной неузнанной Субстанцией.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































