Текст книги "Киногид извращенца. Кино, философия, идеология"
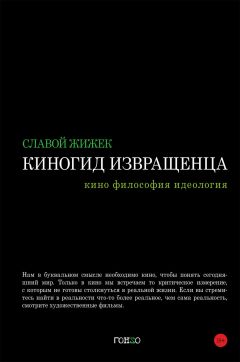
Автор книги: Славой Жижек
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц)
Однако же основополагающая мысль, которую не следует упускать из виду, состоит в оппозиции между этой истерической интерсубъективной истиной, то есть подлинной позицией субъекта, и истиной психотической, высказывающейся в финальном монологе «матери»: последнему недостает (и эта нехватка превращает его в психотический бред) как раз измерения интерсубъективности – «истина» Нормана не интегрирована в интерсубъективное поле.
Поэтому основной социально-идеологический урок «Психо» состоит в крахе самого поля интерсубъективности как среды для Истины в эпоху позднего капитализма, в распаде поля интерсубъективности на два полюса – знания специалистов и психотической «частной» истины. Но означает ли это, что сегодня в мире позднего капитализма психоанализ (который в конечном счете заключается в символической интеграции наших травм посредством рассказа о них психоаналитику, олицетворяющему большого Другого интерсубъективности) уже невозможен? Общественный интерес к таким фигурам, как Ганнибал Лектер, серийный убийца и каннибал из романа Томаса Харриса, дает луч надежды: этот интерес в конечном счете свидетельствует о сильном желании пройти психоанализ по Лакану. То есть Ганнибал Лектер олицетворяет собой возвышенную фигуру в строго кантианском смысле слова, отчаянную, в конечном итоге неудачную попытку «популярного» воображения представить себе идею лаканианского психоаналитика. Отношения между Лектером и психоаналитиком-лаканианцем прекрасно соответствуют отношениям, которые, по Канту, определяют опыт «динамического возвышенного»: между дикой, хаотической, неукротимой, бушующей Природой и сверхчувственной Идеей Разума без каких бы то ни было естественных ограничений. Разумеется, причиняемое Лектером зло (он не только убивает своих жертв, но и поедает их внутренности) напрягает до предела нашу способность представлять ужасы, которые мы можем навлекать на наших собратьев, и все же, даже прилагая неимоверные усилия в попытке представить себе жестокость Лектера, уловить подлинное измерение того, что проделывает психоаналитик, так и не удается: вызывая la traversée du fantasme, преодоление нашей первофантазии, он в буквальном смысле «крадет ядро нашего бытия», objet petit а, скрытое сокровище, agalma, которую мы считаем в нас наиболее ценным; психоаналитик изобличает все это как простую видимость. Лакан определяет objet petit a как фантазматическую «материю Я»; как то, что наделяет $, трещину в символическом порядке, онтологическую пустоту, которую мы называем «субъектом», онтологической непротиворечивостью «личности», подобием полноты бытия, – и как раз эту «материю» психоаналитик «проглатывает» и уничтожает. Таково разумное обоснование неожиданной «евхаристической» составляющей, действующей в лакановском определении психоаналитика, неоднократно повторявшийся им аллегорический намек на Хайдеггера: «Mange ton Dasein!» – «Съешь свое здесь-бытие!» В этом и состоит чарующая сила Ганнибала Лектера: самой своей неспособностью достичь абсолютного предела того, что Лакан называет «субъективным опустошением», это очарование дает нам некоторое предпонимание идеи психоаналитика. Поэтому в «Молчании ягнят» Лектер действительно каннибал, но не в отношении своих жертв, а в отношении Кларисы Старлинг, их взаимоотношения представляют собой издевательскую имитацию ситуации психоанализа, поскольку в обмен на свою помощь в поимке «Буффало Билла» он хочет, чтобы она доверила ему – что? Именно то, что пациент доверяет психоаналитику: ядро своего бытия, свою первофантазию (блеяние ягнят). Поэтому обмен, предлагаемый Лектером Кларисе, таков: «Я помогу тебе, если ты мне дашь съесть свое Dasein». Инверсия подлинно аналитических взаимоотношений состоит в том, что в качестве компенсации Лектер помогает ей разыскать «Буффало Билла». Лектер недостаточно жесток, чтобы стать психоаналитиком-лаканианцем: в психоанализе мы должны платить психоаналитику, чтобы он позволил нам принести ему наше Dasein на блюдечке…
II. Два модерниста
4
Андрей Тарковский,
или Вещь из внутреннего пространства
Жак Лакан определяет искусство в связи с Вещью: в своем семинаре по «Этике психоанализа» он утверждает, что искусство как таковое всегда организовано вокруг центра Пустоты невозможно-реальной Вещи, и это утверждение, вероятно, стоит читать как вариацию на тему старого тезиса Рильке о том, что Красота – это последний покров Ужасного[127]127
См. гл. 18 в книге: Lacan J. The Ethics of Psychoanalysis. London: Routledge, 1992.
[Закрыть]. Лакан указывает на то, как это окружение Пустоты функционирует в визуальных искусствах и архитектуре, но мы не будем говорить здесь о том, что поле видимого, поле образов – в том числе в киноискусстве – подразумевает отсылку к некой центральной и структурной Пустоте и к связанной с ней невозможности – в конце концов, в этом смысл понятия шва в теории кино. Я предлагаю сделать кое-что гораздо более наивное и неожиданное: проанализировать то, как мотив Вещи возникает в диегетическом пространстве кинематографического нарратива – короче говоря, обсудить фильмы, повествование которых связано с некоей невозможной/травматической Вещью, наподобие Чужого в научно-фантастических фильмах ужасов[128]128
Возможно, в каком-то смысле персонажи первых трех великих опер Вагнера – «Летучий голландец», «Тангейзер» и «Лоэнгрин» – также расщеплены своими роковыми Зонами (корабль-призрак, на котором обречен вечно скитаться по морям Голландец, грот Венеры, где бесконечно продолжаются сексуальные оргии, безмятежное и поэтому бесконечно скучное королевство святого Грааля)? Разве перед ними стоит не та же проблема: как сбежать из удушающего существования Зоны (от бесконечных лет одиночества на блуждающем корабле-призраке; от чрезмерных удовольствий грота Венеры; и, возможно, от самого ужасного и скучного варианта – вечного духовного блаженства царства Грааля) через преданную любовь смертной женщины?
[Закрыть]. Есть ли лучшее доказательство тому, что Вещь появляется из Внутреннего Космоса, чем первая сцена «Звездных войн»? Сначала мы видим только пустоту – бескрайнее темное небо, угрожающе безмолвную бездну Вселенной, в которой рассыпаны мерцающие звезды, являющиеся не столько материальными объектами, сколько абстрактными точками, отметками космических координат, виртуальными объектами; затем внезапно, в Dolby Stereo, мы слышим за своими спинами грохот, исходящий из самой глубины фона и позже воссоединяющийся с визуальным объектом, источником звука – гигантским космическим кораблем, своего рода космической версией «Титаника», торжественно вторгающимся в кадр экранной реальности. Таким образом, объект-Вещь явным образом изображается как часть нас самих, которую мы извергаем в реальность… Кажется, что это вторжение массивной Вещи приносит облегчение, устраняя horror vacui вглядывания в бесконечную пустоту Вселенной, – но что, если на самом деле имеет место прямо противоположный эффект? Что, если подлинный ужас – это боязнь Чего-то, вторжение некой чрезмерной, массивной Реальности, там, где мы ожидали встретить Ничто? Вероятно, из этого переживания «Чего-то (следа Реальности) вместо Ничто» рождается метафизический вопрос: «Почему существует что-то, а не просто ничто?»
Хрестоматийный пример Вещи, встречающийся во многих фильмах – от «Нечто» (The Thing) до более нового «Снежного чувства Смиллы» (Smilla’s Sense of Snow), – это, разумеется, загадочный, не живой и не мертвый, инопланетный объект, прилетающий из космоса, – объект, не являющийся человеческим существом и все же живой и зачастую даже обладающий собственной злой волей. Однако следует помнить, что в своем семинаре по «Этике психоанализа» Лакан в качестве примера das Ding приводил, в частности, Харпо Маркса, одного из «немых» братьев Маркс, названного им чудовищем, о котором никогда точно не знаешь, кто он: остроумный гений или полный имбецил – в нем детская невинность и доброта сочетаются с крайней развратностью и сексуальной развязностью, и поэтому мы никогда не знаем, что о нем думать: олицетворяет ли он эдемскую невинность до грехопадения или крайнюю степень эгоизма, не способного отличить Добро от Зла?[129]129
«Есть ли что-то способное лучше поставить насущный, неотложный, захватывающий, разрушительный, тошнотворный, рассчитанный на то, чтобы швырнуть все, что мы видим перед собой, в бездну или пустоту, вопрос, чем лицо Харпо Маркса, это его лицо с улыбкой, заставляющей нас сомневаться, что она означает: крайнюю развращенность или абсолютную простоту? Одного этого молчаливого человека было бы достаточно, чтобы поддержать атмосферу сомнения и радикального уничтожения, являющуюся сущностью выдающегося фарса и непрерывного потока шуток братьев Маркс и придающую смысл их деятельности» (Lacan J. The Ethics of Psychoanalysis. P. 55).
[Закрыть] Полная неразрешимость этого вопроса или скорее даже эта несопоставимость делает его чудовищной Вещью, Другим-Вещью, партнером не в интерсубъективном смысле, а партнером, полностью лишенным чего-либо человеческого. (Как было замечено, три брата идеально соответствуют фрейдистской триаде: Эго – Чико, Суперэго – Граучо и Ид – Харпо; поэтому четвертого брата, Зеппо, пришлось исключить – ему в этой триаде не было места.) Вещь также может быть ужасным животным – от Кинг-Конга и Моби Дика до гигантского Белого Бизона – очевидно, новой версии белого кита Моби Дика – из «Белого бизона» (The White Buffalo) Дж. Ли Томпсона. В этом странном, в высшей степени идиосинкразическом фильме старина Билл Хикок[130]130
Билл Хикок (Джеймс Батлер Хикок, также Дикий Хикок, 1837–1876) – герой Дикого Запада, прославившийся как отменный стрелок и разведчик во время Гражданской войны. Путешествуя по востоку США, участвовал в театральных постановках Буффало Билла – охотника на бизонов, который устраивал популярные зрелища «Дикий Запад». Вернулся на запад, где был застрелен во время игры в покер. – Примеч. ред.
[Закрыть] возвращается на Дикий Запад, преследуемый во снах призраком Белого Бизона (который также является священным животным коренных американцев). Весь фильм нацелен на выстраивание сцены последнего столкновения, когда на узкой горной дороге Бизон нападает на героя и убивает его. Примечательно, что Бронсон носит черные очки от солнца – символ слепого взгляда и импотенции, то есть кастрации (в фильме импотенция Бронсона обозначена ясно: встретив Покер Дженни, свою бывшую возлюбленную, он оказывается не способен оправдать ее ожиданий и вступить с ней в сексуальный контакт)[131]131
То же самое можно сказать о более раннем шедевре немца Макса Офюльса «Liebelei», где мы видим классический случай эдипова комплекса. Баронесса – немолодая любовница трагического героя – это замена матери, которую он хочет бросить ради юной женщины из низшего слоя общества. Следующая за этим дуэль с Бароном – это, разумеется, поединок с отцовской фигурой – дважды соперником. Однако здесь не стоит шаблонно трактовать акт отцовской фигуры (убийство героя на дуэли) как «кастрацию». Верно обратное: «импотентом», «кастратом» является отцовская фигура, а дуэль символизирует нелепую регрессию до воображаемого соперничества с отцом (об импотенции которого говорит странный взгляд и монокль): зачастую фигура, препятствующая осуществлению сексуального акта, – это нелепый кастрат, чья ярость – лишь маска, признак его импотенции. Таким образом, «Liebelei» рассказывает историю неудавшейся попытки героя разорвать инцестуальную замкнутость и перейти к «нормальному» обмену, т. е. уйти от инцестуального объекта к женщине со стороны. Таким образом, стандартное толкование характерной для фильмов Офюльса суровой отеческой или военной фигуры (о Бароне из «Liebelei» см.: White S. The Cinema of Max Ophüls. New York: Columbia University Press, 1995. P. 95) как «кастрирующего отца» полностью опровергается: эта суровая отцовская фигура в очках выполняет прямо противоположную функцию, он не кастрирует – он кастрирован, и его жесткость призвана скрыть нелепую безжизненность и импотенцию (почему Баронессе и нужен молодой любовник!). В целом следует заметить, что, по сути, деконструктивистская теория кино зачастую использует такие термины, как «фаллический» и «кастрация», с довольно грубой бесчувственностью…
[Закрыть]. (Здесь напрашивается элементарное фрейдистское толкование: Белый Бизон – это первобытный отец, еще не мертвый и блокирующий сексуальную силу героя: его отчаянный рев сродни звуку иудейского шофара; таким образом, герой пытается инсценировать отцеубийство.) Однако следующая центральная фигура – Вещь (Белый Бизон) – связана не только с мотивом половой импотенции, но и с разрушительной природой американского капитализма: когда Хикок достигает последней железнодорожной станции, он видит гору белых костей тысяч убитых бизонов (как мы знаем из фильма, он был в немалой степени ответствен за их массовое истребление); так что Белый Бизон – это, очевидно, своего рода мстительный призрак всех погибших бизонов. (Хикок представлен также как убийца индейцев, и его действия в фильме – дружба с индейским воином, тоже выслеживающим Бизона, – это попытки примириться со своим прошлым убийцы на службе у американской колонизации Запада…)
С психоаналитической точки зрения особый интерес представляет, разумеется, то, как Вещь – именно в силу своей бесполости – неразрывно связана с половыми различиями: возможно, гигантский вулканический выступ к северу от Мельбурна в «Пикнике у Висячей скалы» (Picnic at Hanging Rock) Питера Уира выступает как очередная версия такой Вещи, а точнее, как запретное царство (еще точнее – Зона), в котором обычные правила почему-то перестают действовать, – как только мы входим в это царство, мы получаем доступ к грязным тайнам сексуального удовольствия. «Пикник» рассказывает о странных событиях, произошедших в колледже Эппльярд – школе для девочек из высшего общества, расположенной к северу от Мельбурна, – в День святого Валентина, 14 февраля 1900 г., когда ученицы отправились на пикник к Висячей скале, природному памятнику из древней вулканической породы. (Несмотря на упорные слухи о том, что фильм основан на реальном загадочном исчезновении, подтверждений тому нет, и уже в этом кроется первый элемент тайны: как могла десятилетиями сохраняться вера, не подкрепленная никакими фактами?) Отправляясь на пикник, ангельского вида блондинка Миранда говорит своей осиротевшей подруге Саре, что не задержится в школе надолго. Во время пикника четыре девочки – Миранда, богатая наследница Ирма, рациональная Мэрион и непривлекательная Эдит – решают исследовать скалу. Эдит, устав, начинает капризничать и не хочет продолжать прогулку со всеми; ее что-то пугает, и она с криком бежит обратно к месту пикника. Остальные три девочки и одна из учительниц – мисс Маккроу – исчезают на скале. Двое молодых людей, видевших, как девушки подходили к скале, отправляются на их поиски. Во время поисков богатый юноша Майкл впадает в безумство и ранит себя о камни. Однако он находит Ирму: она жива, но совершенно не помнит, что с ней произошло. Миссис Эппльярд – директриса, страдающая пристрастием к выпивке, – решает, что Сара больше не будет учиться в школе, поскольку ее опекун перестал присылать деньги. Она сообщает Саре, что та отправится обратно в приют, и сталкивает ее с крыши (или же Сара совершает самоубийство?). Через несколько дней сама миссис Эппльярд погибает, пытаясь подняться на Висячую скалу. Привлекательной загадку Висячей скалы делает огромное множество возможных интерпретаций истории. Во-первых, существует пять вероятных объяснений на уровне «буквального» раскрытия загадки:
• простое природное объяснение: три девушки и учительница упали в глубокую трещину, образованную причудливым сложением горных пород, или были убиты кишащими там пауками и змеями;
• криминально-сексуальное объяснение: они были похищены, изнасилованы и убиты на скале либо злобными местными жителями, поджидавшими невинных гостей, либо Майклом и Альбертом – двумя молодыми людьми, соблазненными привлекательным видом девушек и позже спасшими одну из них;
• сексуально-патологическое объяснение: подавление эротических импульсов привело девочек к их жестокому, саморазрушительному истерическому выплеску;
• примитивно-религиозное сверхъестественное объяснение: дух скалы похитил незваных гостей, выбрав тех из них, кто был настроен на его волну (по этой причине он отверг четвертую, толстую девушку, не имеющую вкуса к чувственным тайнам);
• объяснение в духе похищения инопланетянами: девушки вошли в другую пространственно-временную Зону.
(Кстати, похоже, что Джоан Линдси – автор романа, на котором основан сценарий фильма, – отдавала предпочтение двум последним объяснениям, судя по заключительной, восемнадцатой главе романа под названием «Тайна Висячей скалы», опубликованной лишь в 1987 г., после ее смерти.)
Кроме того, существует как минимум два «метафорических» объяснения: история основана на противопоставлении атмосферы строгой дисциплины, царящей в викторианской закрытой школе, расположенной в аккуратном старом здании, и буйства естественной, ничем не ограниченной Жизни на диком выступе Скалы. Школьная атмосфера строгости резонирует с едва намеченным эротизмом (не вполне подавленная лесбийская тяга учениц к ученицам, учениц к учительницам и учительниц к ученицам…). В противоположность хрестоматийной викторианской строгости с ее подавленными желаниями Скала символизирует необузданные желания жизни во всех ее мельчайших, зачастую отвратительных формах (крупные планы ползающих вокруг девушек рептилий, змей, ассоциирующихся с грехопадением, не говоря уже о густой дикой растительности и стаях птиц[132]132
Любопытно было бы отметить, что сегодня понятие Зла снова раздвигает в обоих направлениях «средние» границы человеческого – как своего «законного» места пребывания: речь не только о новой актуальности понятия трансгуманизма, глобального Зла (например, в виде нависшей над нами глобальной экологической катастрофы, за которую ответственно человечество как таковое, которая не была задумана одним отдельным человеком), мы также все сильнее ощущаем Зло как угрозу, нависшую над нами на невидимом уровне, на уровне микроорганизмов (вроде новых вирусов, абсолютно невосприимчивых к антибиотикам). Эффект таких фильмов, как «Пикник у Висячей скалы», объясняется этой новой чувствительностью к таким измерениям Зла, которые, являясь глобальными, безличными, одновременно скрываются на микроуровне – например, в буйстве крошечных форм жизни на Скале.
[Закрыть]).
Итак, очевидней всего было бы прочесть эту историю исчезновения как вариацию на старую тему прорывающегося вовне викторианского подавления: фригидная мисс Маккроу, учительница математики, описывает рождение Скалы как «выталкивание из недр поднимающейся в тягучем состоянии» расплавленной лавы, что является больше описанием медленного пробуждения гормонов в достигших половой зрелости и вытесняющих свои желания девочках, чем природного явления, вулканического выступа, возникшего из земных глубин. Таким образом, Скала явно символизирует необузданную страсть жизни, долгое время сдерживаемую общественными нормами и наконец вырвавшуюся наружу… Можно также придать этой теме антиколониальный уклон: жестокий акт похищения на Скале символизирует сопротивление английской колонизации (хотя, конечно, подобное сексуализированное представление о мести Скалы больше говорит о фантазматическом содержании, которое колониалисты проецировали на колонизированного Другого, чем о самом Другом…). Согласно этому толкованию, Скала предупреждает об элементарных «пассионарных привязанностях», которые мстят, нанося удар по дисциплине и рутине школьной жизни: в конце фильма даже авторитарная директриса миссис Эппльярд утрачивает контроль над собой, отправляется на гору и совершает самоубийство, бросаясь вниз…
Хотя фильм не дает разгадки тайны, он предоставляет многочисленные подсказки в самых разных направлениях (странное красное облако, которое видели в момент исчезновения девушек, говорит о том, что действующей силой похищения был дух горы; часы, остановившиеся у всех во время пикника в полдень, полная амнезия выживших и одинаковые ранки на их лбах – стандартные признаки похищения пришельцами и перемещения в другую Временную Зону). Однако весь фильм пронизан атмосферой неотвратимого Рока (то, что случилось, было по каким-то причинам обязано случиться – это не серия несчастных случаев, и похоже, что у Миранды, девушки-ангела, ведущей группу в горы, было предчувствие этого Рока), отождествляемого с не-фаллическим, не-гетеросексуальным эротизмом: хотя эротизация Скалы и ее фатального притяжения очевидна (Ирма, единственная выжившая девушка, найденная полумертвой, полностью одета, но примечательно, что, когда ее раздевают, чтобы уложить в постель, на ней не оказывается корсета – символа викторианской скованности; мисс Маккроу, фригидную учительницу математики, также пропавшую на Скале, последний раз видели идущей по направлению к Скале без юбки, то есть в одних панталонах, и не замечающей ничего вокруг, словно Скала странным образом загипнотизировала ее…), в истории сделан акцент на том, что девушки не были изнасилованы (доктор, осматривавший выжившую Ирму, заверяет всех присутствующих, что ее девственная плева «совершенно не повреждена»). Скала символизирует скорее не стандартный фаллический сексуальный опыт, а изначальный опыт Либидо, опыт Жизни в ее необузданном цветении и, возможно, то, что Лакан имел в виду под jouissance féminine. (В этом заключается отличие данной истории от «Поездки в Индию», где также имеет место нераскрытая сексуальная тайна в пещере гигантской скалы: хотя «Поездка в Индию» гораздо больше сосредоточена на описании тупика колониализма, мы, без сомнения, имеем дело с сексуально неудовлетворенной героиней, страстно желающей нормального гетеросексуального опыта.)
Важно и то, что секс в фильме имеет место лишь между наименее утонченными и потому наименее склонными к подавлению желаний обитателями школы – слугами Томом и Минни, совершенно безразличными к чарам Скалы. Таким образом, стандартное объяснение должно заключаться в том, что чрезмерная, удушающая, фатальная чувственность Скалы воздействует лишь на тех, на кого наложены чары викторианского подавления… Но что, если перевернуть эту версию (подавление делает невозможным здоровое сексуальное удовлетворение и поэтому порождает смутную, проникнутую духом декаданса, извращенную глобальную сексуализацию) и постулировать, что сама «нормальная» гетеросексуальность основана на «подавлении» каких-то более древних «пассионарных привязанностей» к лицам своего пола? В таком случае, как ни парадоксально, само викторианское «подавление» гетеросексуальности оказывается поддержанным куда более радикально подавленными состояниями и делает возможным их возвращение. Фрейд подчеркивал, что вытеснение гетеросексуальных желаний может быть устойчивым лишь в том случае, если оно черпает энергию из реактивации гораздо более примитивных дофаллических побуждений: как ни парадоксально, вытеснение во имя культуры должно опираться на либидинальную регрессию. Здесь мы сталкиваемся с чистейшей либидинальной рефлексивностью: само вытеснение (фаллической) сексуальности сексуализируется, приводя в действие формы дофаллической извращенности. Вспоминается толкование, данное Элизабет Кауи знаменитой заключительной реплике, которую произносит Бетт Дейвис в фильме «Вперед, путешественник» (Now, Voyager), объясняя своему любовнику, почему в дальнейшем им следует воздерживаться от сексуальных контактов («Зачем тянуться к луне, если нашими могут быть звезды?»): зачем нужен нормальный гетеросексуальный половой акт, если, отвергнув его, я могу наслаждаться гораздо более горячими удовольствиями лесбийских «первобытных привязанностей»? Вот почему бедная мисс Маккроу, самая несексуальная учительница, модель фригидности (если применять гетеросексуальные стандарты), – единственная, кто присоединяется к трем девушкам и вновь появляется (в восемнадцатой главе) как загадочная непристойно-сексуальная «Женщина-клоун». Если мы до конца проследуем по этой линии рассуждений, мы неизбежно придем к интерпретации фигуры директрисы. Что, если, вместо того чтобы быть простой противоположностью Скалы, миссис Эппльярд в каком-то смысле и есть Скала? Что, если ее самоубийство в финале на склоне Скалы не говорит о ее поражении от первобытных страстей Скалы, а указывает на ее изначальную тождественность Скале?
В одном из недавней серии фильмов-катастроф о космосе, в «Столкновении с бездной» (Deep Impact, 1998) Мими Ледер, Вещь – это огромный камень, летящий в космосе: гигантская комета, грозящая через два года столкнуться с Землей и уничтожить все живое. В финале фильма Земля спасена благодаря героическому самоубийственному акту группы астронавтов и атомному взрыву – лишь небольшой осколок кометы падает в океан к востоку от Нью-Йорка, порождая огромную волну высотой в сотни метров, смывающую все северо-восточное побережье США, включая Нью-Йорк и Вашингтон. Эта Вещь-комета также создает пару, но совершенно неожиданную: инцестуальный союз молодой, подчеркнуто невротичной, сексуально неактивной телерепортерши (Теа Леони) и ее неразборчивого в половых связях отца (Максимилиан Шелл), разведенного с ее матерью и недавно женившегося на ровеснице дочери. Ясно, что, в сущности, этот фильм – драма о проблемных протоинцестуальных отношениях отца и дочери: угроза кометы очевидным образом предоставляет пространство для саморазрушительной ярости героини (у которой нет бойфренда, зато есть явная травматическая фиксация на собственном отце), пораженной повторной женитьбой отца и неспособной примириться с тем фактом, что он оставил ее ради ее сверстницы. Президент (которого, в соответствии с тенденциями политкорректности, играет Морган Фримен), в обращении к нации объявляющий о надвигающейся катастрофе, ведет себя как идеальная противоположность непорядочному реальному отцу, как заботливая отцовская фигура (без присутствующей в кадре жены!) – важно, что он отводит героине особую роль на пресс-конференции, позволив ей задавать вопросы первой. Связь кометы с темной и грязной, скрытой стороной отцовской власти становится очевидной благодаря действиям героини, устанавливающей контакт с президентом: в ходе расследования она обнаруживает признаки неминуемого финансового скандала (крупные нелегальные траты государственных средств), связанного с «Elle», и сначала решает, что речь идет о сексуальном скандале, в центре которого сам президент, то есть что «Elle» – имя его любовницы, но позже узнаёт правду: «E. L. E» – это кодовое название программы экстренных мер, которые должны быть приняты в случае катастрофы, способной привести к полному уничтожению жизни на Земле, так что правительство втайне тратило средства на постройку гигантского подземного убежища, где миллион американцев сможет пережить катастрофу. Таким образом, приближающаяся комета – это метафорическое изображение неверности отца, либидинальной катастрофы, нависшей над дочерью, столкнувшейся с тем фактом, что ее бесстыдный отец предпочел ей другую молодую женщину. Итак, весь механизм глобальной катастрофы запускается для того, чтобы молодая жена оставила отца и он бы вернулся (не к жене, матери героини, а) к своей дочери. Кульминация фильма – сцена, в которой героиня воссоединяется с отцом, в одиночестве ожидающим приближения волны в своем роскошном доме на побережье. Она находит его идущим вдоль береговой линии, они примиряются, обнимаются и молча ждут появления волны; когда волна приближается и уже накрывает их своей огромной тенью, героиня прижимается к отцу и нежно выкрикивает: «Папочка!», словно ища в нем защиты, воссоздавая сцену из детства, когда любящие объятия давали маленькой девочке чувство безопасности. Через секунду гигантская волна обрушивается на них обоих. Но пусть вас не обманывает беспомощность и уязвимость героини: она – злой дух, дергающий ниточки скрытого либидинального механизма, приводящего в движение нарратив фильма, и эта сцена, где она находит смерть в покровительственных объятиях отца, – исполнение ее заветного желания…[133]133
Примечательно, что другой снятый в 1998 г. блокбастер – вариация на тему гигантской кометы, угрожающей Земле, – «Армагедон» также вращается вокруг инцестуальных отношений отца и дочери. Здесь, однако, чрезмерную привязанность к дочери испытывает отец (Брюс Уиллис): разрушительная мощь кометы предоставляет пространство для его ярости, вызванной любовными отношениями дочери с мужчиной ее возраста. Примечательно, что развязка тут более «позитивна», не саморазрушительна: отец жертвует собой, чтобы спасти Землю, т. е., в сущности, на уровне скрытой либидинальной экономики стирает себя с общей картины, благословляя таким образом брак своей дочери с ее молодым любовником.
[Закрыть] Здесь мы имеем дело с крайностью, противоположной крайности «Запретной планеты» (The Forbidden Planet): в обоих случаях мы видим инцестуальные отношения отца и дочери, и все же в «Планете» монстр-уничтожитель материализует инцестуальное стремление отца к смерти, тогда как «Столкновение с бездной» материализует инцестуальное стремление дочери к смерти. Сцену на берегу, в которой гигантская волна накрывает обнимающихся дочь и отца, следует толковать на фоне стандартного голливудского мотива (прославленного фильмом Фреда Циннемана «Отныне и во веки веков» – From Here to Eternity) – пара (Берт Ланкастер и Дебора Керр), занимающаяся сексом на пляже в мягких волнах прибоя: здесь пара по-настоящему смертельно-инцестуальна, а не стандартно-гетеросексуальна, поэтому волна – это гигантская волна-убийца, а не мерно укачивающий прибой…[134]134
Однако, говоря об идеологическом вписывании Голливудом глобальной катастрофы в рамки мотива «создания пары», не следует забывать, что не каждая подобная связь является идеологической eo ipso. Когда мы имеем дело с тем, что Ален Бадью назвал бы объявлением Любви как События-Истины, как вспышки измерения Бессмертной Истины внутри процесса порождения и разрушения, единственный способ сделать видимым, изобразить это измерение безусловного движения вперед – это использовать «бессмысленное», «чудесное» понятие стазиса: при вспышке События-Истины само течение времени словно ненадолго приостанавливается. Нечто похожее на это чудо есть даже в банальной мелодраме Клода Лелуша «Viva la vie» («Да здравствует жизнь!», 1984), где внезапно прекращается вращение Земли вокруг своей оси: в центре Парижа так и не наступает утро – там царит вечная ночь; пораженные люди собираются в общественных местах и просто смотрят на темное небо… В финале фильма это чудо/катастрофа красиво объясняется сном главного героя, желавшего «остановить течение времени», чтобы не пропустить встречи со своей возлюбленной.
[Закрыть]
Далее я хотел бы сосредоточить внимание на особой версии Вещи: Вещь как Пространство (священная/запретная Зона), в котором не существует разрыва между Символическим и Реальным, то есть такое Пространство, в котором, грубо говоря, наши желания получают непосредственное воплощение (или, выражаясь языком трансцендентального идеализма Канта, Зона, в которой наша интуиция становится непосредственно продуктивной, состояние вещей, характеризующееся, согласно Канту, лишь бесконечным божественным Разумом).
Это понятие о Вещи как Ид-Машине, механизме, напрямую материализующем наши неосознанные фантазии, имеет длинную, хотя и не всегда респектабельную историю. Ее началом в кинематографе была «Запретная планета» (1956) Фреда Уилкокса, перенесшая на далекую планету сюжетный скелет шекспировской «Бури»: отец живет на пустынном острове вместе со своей дочерью (которая никогда не видела другого мужчины), но их мирное существование нарушается вторжением экспедиции. В «Запретной планете» сумасшедше-гениальный ученый (Уолтер Пиджон) живет вдали от людей вместе со своей дочерью (Энн Фрэнсис), но их мирное существование нарушается прибытием группы космических путешественников. Вскоре начинают происходить странные нападения невидимого монстра, и к концу фильма становится ясно, что монстр – не что иное, как материализация разрушительных импульсов отца, направленных на незваных гостей, потревоживших его инцестуальный покой. (Таким образом, мы можем ретроактивно истолковать саму бурю из пьесы Шекспира как материализацию разъяренного отцовского суперэго…) Ид-Машиной, которая без ведома отца создает монстра-разрушителя, оказывается гигантский механизм, скрытый под поверхностью этой далекой планеты, таинственный артефакт древней цивилизации, сумевшей создать инструмент, напрямую материализующий мысли, и таким образом уничтожившей себя… Здесь Ид-Машина прочно укоренена во фрейдистском либидинальном контексте: монстры, которых она создает, это воплощение инцестуальных разрушительных импульсов первобытного отца по отношению к другим мужчинам, угрожающим его симбиозу с дочерью.
Возможно, наиболее завершенной вариацией мотива Ид-Машины является «Солярис» Андрея Тарковского, основанный на романе Станислава Лема, в котором эта Вещь также связана с тупиком сексуальных отношений. «Солярис» – это история Кельвина, психолога из космического агентства, отправленного на полузаброшенный космический корабль, который висит над недавно открытой планетой Солярис и на котором недавно начали происходить странные вещи (ученые сходят с ума, видят галлюцинации и сводят счеты с жизнью). Солярис – это планета, поверхность которой покрыта океаном – постоянно перемещающейся жидкостью, время от времени воспроизводящей узнаваемые формы (не только сложные геометрические фигуры, но и тело гигантского ребенка или человеческие постройки); хотя все попытки установить контакт с планетой терпят неудачу, ученые рассматривают гипотезу о том, что Солярис – это гигантский мозг, способный загадочным образом читать мысли людей. Вскоре после прибытия на корабль Кельвин обнаруживает рядом в постели свою покойную жену Хари, покончившую с собой много лет назад на Земле, после того как он оставил ее. Он не может избавиться от нее, все попытки терпят крах (он отправляет ее в космос на ракете, но на следующий день она вновь материализуется); анализ ее тканей показывает, что она состоит не из атомов, как обычные человеческие существа, – на определенном микроуровне в ней нет ничего, лишь пустота. Наконец Кельвин догадывается, что Хари – это материализация его собственных глубинных травматических фантазий. Это объясняет загадку странных провалов в памяти Хари – разумеется, она не знает всего, что должен знать реальный человек, поскольку не является таким человеком – она лишь материализация его фантазматического представления о ней во всей его непоследовательности. Проблема в том, что именно в силу отсутствия собственной субстанциальной идентичности Хари обретает статус Реального, вечно утверждающего себя и возвращающегося на свое место: подобно огню в фильмах Линча, она всегда «идет с героем», прилипнув к нему и никогда не отпуская его. Хари, этот хрупкий призрак, эта чистая видимость, не может быть стерта: она – «нежить», вечно, вновь и вновь возникающая в пространстве между двумя смертями. Не возвращает ли это нас к классическому антифеминистскому понятию Вейнингера о женщине как симптоме мужчины, материализации его вины, его грехопадения, которая может освободить его (и себя) лишь через собственное самоубийство? Таким образом, «Солярис» подчиняется классическим правилам научной фантастики воплощать в самой реальности, преподносить как материальный факт представление о том, что женщина всего лишь материализует мужские фантазии: трагизм положения Хари в том, что ей становится известно об отсутствии у нее самой какой бы то ни было субстанциальной идентичности, она узнаёт, что она сама по себе Ничто, поскольку существует лишь в мечтах Другого – и лишь до тех пор, пока фантазии Другого сосредоточены на ней, – именно эта проблема превращает ее самоубийство в подлинно этический акт: осознав, как Кельвин страдает от ее постоянного присутствия, Хари в конце концов уничтожает себя, проглотив химический состав, делающий невозможным ее восстановление. (Сцена, достойная фильма ужасов, происходит в картине в тот момент, когда Хари оживает после своей первой неудачной попытки самоубийства на Солярисе: наглотавшись жидкого кислорода, она лежит на полу в глубокой заморозке и внезапно начинает двигаться – ее тело, выдерживая невыносимую боль, корчится, поражая одновременно своей эротической красотой и жалким ужасом – можно ли вообразить что-то более трагичное, чем подобная сцена неудавшегося самоуничтожения, когда мы превращены в непотребный сгусток, против своей воли вынужденный оставаться в кадре?) В конце романа мы видим Кельвина, в одиночестве глядящего с космического корабля на загадочную поверхность океана Соляриса…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































