Текст книги "Киногид извращенца. Кино, философия, идеология"
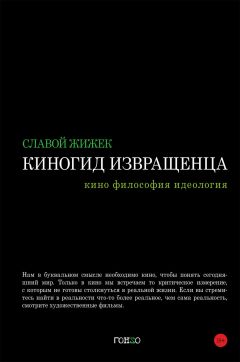
Автор книги: Славой Жижек
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
«Большого Другого не существует»
По размышлении можно обнаружить большого Другого и в области здравого смысла. Его последним философским вариантом является теория коммуникативного общества Хабермаса с ее регулятивным идеалом согласия. И этот большой Другой сегодня теряет свою значимость, и мы наблюдаем определенный раскол: с одной стороны, речь экспертов и ученых больше не переводится на доступный всем язык, но присутствует в нем виде фетишизированных формул, которые никто толком не понимает, но которые формируют наше художественное и массовое воображение («черная дыра», «Большой взрыв», «суперструны», «квантовые колебания»). Не только в естественных, но и в экономических и других общественных науках профессиональный жаргон воспринимается как объективное понимание, которое невозможно оспорить и которое в то же время невозможно перевести на наш повседневный опыт. Проще говоря, разрыв между научным знанием и здравым смыслом непреодолим, и именно эта пропасть делает из ученых популярных культовых фигур, которые «должны знать» (как пример, феномен Стивена Хокинга). С другой стороны, в культурном плане мы сталкиваемся со множеством моделей поведения, которые непереводимы друг для друга. Этот разрыв идеально отражен в феномене гиперпространства. Предполагалось, что оно объединит нас всех внутри своеобразной Глобальной Деревни, однако вместо этого мы оказались атакованы множеством посланий из несовместимых и несовмещающихся вселенных, – и вместо «Большой деревни» – большого Другого – мы получаем множество «маленьких других», множество отдельных племенных идентификаций. Чтобы избежать недопонимания, поясню: Лакан здесь далек от соотнесения науки с тем или иным нарративом, равно как и от мифической политкорректности и т. п.: наука действительно «прикасается к Реальному», ее знание – это действительно «знание в сфере реального»; проблема заключается в том факте, что научное знание не может выполнять функцию символического большого Другого. Разрыв между современной наукой и здравым смыслом аристотелевской онтологии здесь непреодолим: он возникает уже во времена Галилея и достигает апогея в эпоху квантовой физики, когда нам приходится иметь дело с правилами и законами, которые работают, но которые тем не менее не могут быть ретранслированы в опыте представимой нами реальности.
Концепция «общества риска» и его глобальной рефлексивизации, по сути, права в одном: сегодня мы оказались на другом конце классической идеологии Просвещения, заключавшей в себе предположение о том, что в перспективе все фундаментальные вопросы можно решить, обратившись к «объективному знанию» экспертов: когда мы сталкиваемся с противоположными точками зрения на возможные экологические последствия какого-то нового продукта (например, генетически модифицированных овощей), мы тщетно стремимся узнать окончательное мнение эксперта. И дело не только в том, что окончательное решение туманно, поскольку наука испорчена финансовой зависимостью от больших корпораций и госучреждений, – наука сама как таковая не может дать точный ответ. Пятнадцать лет назад экологи предсказали исчезновение лесов – а сейчас проблема, скорее, в том, что их слишком много. Недостаток теории «общества риска» в том, что она акцентирует иррациональную затруднительную ситуацию, в которой мы оказываемся: мы вновь и вновь вынуждены принимать решение, хотя прекрасно понимаем, что не можем решать, что наше решение будет случайным. Ульрих Бек и его последователи говорят здесь о демократичном обсуждении всех точек зрения и достижении консенсуса, однако это не разрешает дилемму, которая заводит нас в тупик: почему демократичное обсуждение, в котором участвует большинство, должно привести к лучшему результату, если большинство невежественно? Отсюда становится понятна политическая фрустрация большинства: их призывают принимать решения и в то же время дают понять, что они не способны сделать это эффективно, то есть объективно взвесить все «за» и «против». Таким образом, возникающие «теории заговоров» – это отчаянные попытки выбраться из этой западни, попытки хотя бы в минимальной степени достичь того, что Фредрик Джеймисон назвал «когнитивной картографией».
Джоди Дин[257]257
Во многом мои рассуждения здесь основаны на работе: Dean J. Aliens in America. Conspiracy Cultures from Outerspace to Cyberspace. Ithaca; London: Cornell University Press, 1998.
[Закрыть] привлекла внимание к любопытному феномену, который отчетливо можно наблюдать в «диалоге немых» между официальной («серьезной», «академической») наукой и всевозможными так называемыми псевдонауками, начиная от уфологии и заканчивая теми, что пытаются расшифровать загадки пирамид: поразительно, что именно ученые мужи от официальной науки ведут себя снисходительно и безапелляционно, в то время как псевдоученые ссылаются на факты и аргументы, лишенные каких-либо предрассудков. Конечно, объяснить это можно лишь тем, что авторитетные ученые говорят от лица и с позволения большого Другого научного мира, но проблема здесь в том, что именно этот ученый большой Другой снова и снова обнаруживает себя как всеобщая символическая фикция. Поэтому когда мы сталкиваемся с «теориями заговора», нам следует относиться к ним в полном соответствии с адекватным прочтением «Поворота винта» Генри Джеймса: внимательный читатель не станет ни признавать существование призраков как части (нарративной) реальности, ни трактовать их в псевдофрейдистском духе как проекцию истерической сексуальной фрустрации героини. «Теории заговоров», разумеется, не могут восприниматься как «факт», но и сводить их к феномену современной массовой истерии не стоит. Подобное представление тоже опирается на большого Другого, на модель «нормального» восприятия общей социальной реальности, не принимая в расчет того, что именно само понятие реальности на сегодня подорвано. Проблема не в том, что уфологи и конспирологи опустились до паранойи и не в состоянии принять (социальную) реальность, а в том, что сама реальность становится параноидальной. Сегодняшний опыт вновь и вновь сталкивает нас с ситуациями, когда мы вынуждены замечать, насколько широко наше ощущение и отношение к реальности опирается на символические фикции – иными словами, насколько большой Другой, определяющий для нас, что считать нормой и правдой и как далеко простирается горизонт смысла в том или ином обществе, не связан напрямую с фактами вопреки научному «знанию в сфере реального». Давайте представим традиционное общество, в котором современная наука еще не поднялась до уровня господствующего дискурса: если в его символическом пространстве кто-то начнет отстаивать положения современной науки, его сочтут сумасшедшим – и важно то, что недостаточно сказать, что он «на самом деле не сумасшедший», что в такую позицию его ставит невежественное общество, – в определенном смысле то, что к тебе относятся как к безумцу, то, что тебя отлучают от социального большого Другого, фактически равносильно тому, что ты безумен. То, что называется «безумием», не может быть обосновано прямой отсылкой к «фактам» (в том смысле, что безумец неспособен воспринимать вещи такими, какие они есть, поскольку находится в ловушке собственных галлюцинаций), а только отношением к большому Другому. Лакан обычно акцентирует противоположный аспект этого парадокса: «нищий, который уверен, что он король, не более безумен, чем король, который думает, что он король». То есть безумием называется уничтожение дистанции между Символичным и Реальным, это непосредственная идентификация с символическим мандатом. Или, если взять другой его пример: если патологически ревнивый муж одержим мыслью, что его жена спит с другим, его навязчивая идея останется патологической чертой, даже если выяснится, что он прав и у жены действительно есть любовник. Смысл таких парадоксов очевиден: причины патологической ревности не в принятии ложных фактов, а в том, как эти факты встраиваются в либидинальную экономику субъекта. Единственное, что здесь этот парадокс следовало бы переиграть в обратном направлении: общество (а именно его социально-символическая область – большой Другой) остается «здоровым», «нормальным» даже тогда, когда факты доказывают обратное. (Может быть, именно в этом смысле поздний Лакан называл себя «психотиком»: в конце концов, он таким и был, поскольку его дискурс невозможно было встроить в область большого Другого.)
Весьма соблазнительно здесь провозгласить в духе кантианства, что главная ошибка «теории заговора» в чем-то сродни «паралогизму чистого разума», смешению двух уровней: подозрения (о полученном научном, социальном и т. п. здравом смысле) как формально-методологической позиции – и позитивации этого подозрения в еще одной всеобъясняющей глобальной паратеории.
Экрани(зи)руя Реальное
С другой стороны, Матрица также играет роль «экрана», который отделяет нас от Реального и позволяет вынести жизнь в «пустыне реальности». Однако здесь не нужно забывать о радикальной двойственности понятия «Реальное» у Лакана: это не только абсолютный референт, который следует скрыть/облагородить/освоить с помощью экрана фантазии, Реальное – это также (и прежде всего) сам экран, преграда, которая здесь и сейчас искажает наше восприятие референта, реальности, находящейся вовне. Говоря философским языком, именно здесь заключается разница между Кантом и Гегелем: Кант понимал Реальное как ноуменальную область, которую мы воспринимаем «схематизированно» через «экран» трансцендентальных категорий; для Гегеля же, как он сам утверждает, к примеру, во введении к «Феноменологиии духа», это кантовское противопоставление ошибочно. Здесь Гегель вводит три термина: когда между нами и Реальным встает «экран», это всегда порождает то, что называется «вещь в себе», то, что находится по ту сторону экрана (явления). Таким образом, разрыв между явлением и «вещью в себе» бытийно существует «для нас». Следовательно, если мы вычтем из Вещи искажение Экрана, мы потеряем саму Вещь (говоря религиозным языком, смерть Христа – это смерть Бога в нем самом, а не только его человеческого воплощения). Вот почему для Лакана, который следует здесь примеру Гегеля, «вещь в себе» – это сам взгляд, а не воспринимаемый объект. Таким образом, возвращаясь к Матрице, можно сказать, что сама Матрица – это Реальное, которое мешает нашему восприятию реальности.
Здесь может быть полезен приведенный Леви-Строссом в «Структурной антропологии» показательный анализ пространственного расположения построек в селении виннебаго – одного из индейских племен в районе Великих озер. Племя делится на две подгруппы («половины»): «люди Верха» и «люди Низа». Если попросить кого-то из них нарисовать на листе бумаги или на песке план его деревни (расположение жилищ в пространстве), мы получим два совершенно разных результата в зависимости от того, к какой подгруппе он принадлежит. И те и другие воспринимают деревню в виде круга, но для представителей одной подгруппы внутри этого круга существует еще один круг из главных построек (таким образом, получаются две концентрические окружности), а у представителей второй подгруппы этот круг четкой линией разделен надвое. Иными словами, человек, принадлежащий к первой подгруппе (назовем ее «консервативно-корпоративной»), воспринимает деревню как кольцо строений, расположенных более или менее симметрично вокруг центрального храма, в то время как для члена второй подгруппы («революционно-оппозиционной») деревня предстает в виде двух скоплений жилищ, разделенных невидимой границей[258]258
Lévi-Strauss C. Do Dual Organizations Exist? // Structural Anthropology. New York: Basic Books, 1963. P. 131–163 (иллюстрации – p. 133–134). (Изд. на рус. яз.: Леви-Стросс К. Структурная антропология. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. С. 137–170 (иллюстрации – на с. 138–139). – Примеч. ред.).
[Закрыть]. Леви-Стросс подчеркивает, что этот пример ни в коем случае не следует сводить к культурному релятивизму, в соответствии с которым восприятие социального пространства зависит от принадлежности к той или иной группе: само разделение на два «релятивистских» восприятия подразумевает скрытую отсылку к некой константе – не к объективному, «фактическому» расположению построек, а к травматическому ядру, фундаментальному антагонизму, который жители деревни не смогли выразить в символе, понять, «усвоить», принять, к нарушению баланса в социальных отношениях, которое мешает обществу быть стабильным, гармоничным целым. Два видения устройства деревни – всего лишь две взаимоисключающие попытки справиться с травмирующим антагонизмом, залечить раны через формирование сбалансированной символической структуры. Нужно ли уточнять, что то же самое происходит в отношении разницы полов: «мужское» и «женское» – как два плана построек в деревне Леви-Стросса. И дабы не обольщаться насчет того, что наша «развитая» вселенная не подчиняется все той же логике, достаточно вспомнить, что наше политическое пространство делится на «правых» и «левых», и ведут они себя точно так же, как представители двух подгрупп индейской деревни Леви-Стросса. «Левый» и «правый» не только занимают разные позиции внутри политического пространства, они по-разному воспринимают само его расположение: «левый» – как область, по природе своей разделенную фундаментальным антагонизмом, «правый» – как естественное единство Общества, нарушаемое лишь внешними вторжениями.
Однако здесь Леви-Стросс делает критическое замечание: поскольку обе подгруппы так или иначе составляют одно единое племя, живущее в одной деревне, их идентичность должна быть каким-то образом выражена в символе – но каком, если все символическое выражение, все социальные институты племени не нейтральны, а определяются этим фундаментальным и конструктивным антагонистическим разрывом? Леви-Сторсс оригинально назвал это «ноль-институцией» – нечто вроде институционального аналога знаменитой «маны», пустое означающее, не содержащее определенного смысла, поскольку оно лишь отмечает наличие смысла как такового в противоположность его отсутствию. Это специфическая институция, не имеющая никакой положительной, заданной функции; ее единственная функция – чисто негативная: сигнализировать о наличии и актуальности социальной данности как таковой, в противовес ее отсутствию и досоциальному хаосу. Именно эта причастность к «ноль-институции» позволяет всем членам племени чувствовать себя частью единого сообщества. И не является ли тогда эта «ноль-институция» идеологией в самом чистом виде – непосредственным воплощением идеологической функции обеспечения нейтрального всеобъемлющего пространства, из которого удален социальный антагонизм и в котором все члены общества признают друг друга? И разве борьба за гегемонию не является борьбой за то, как будет сверхдетерминирована и каким смыслом будет «окрашена» эта «ноль-институция»? Приведу конкретный пример: современное понятие «нация» является такой «ноль-институцией», которая появилась вместе с распадом социальных связей, укорененных в непосредственных семейных и традиционных символических матрицах, иными словами, в тот момент, когда под натиском модернизации социальные институты все больше теряли связь с естественной традицией и все больше пользовались «договорами»[259]259
См.: Mocnik R. Das “Subjekt, dem unterstellt wird zu glauben” und die Nation als eine Null-Institution // Denk-Prozesse nach Althusser / ed. H. Boke. Hamburg: Argument Verlag, 1994.
[Закрыть]. Здесь важное значение имеет тот факт, что национальная идентичность воспринимается, как минимум, как «естественная», как порождение «крови» и «земли» и, таким образом, противоположна «искусственной» принадлежности к социальным институтам (положение, профессия и т. п.). Домодерные институты функционировали как «естественное» символическое целое (как институты, основанные на неоспоримых традициях), современные же воспринимались как социальные артефакты. Так возникла потребность в «естественной» ноль-институции, которая бы играла роль нейтральной общей основы.
Возвращаясь к разнице полов, рискну предположить, что та же логика ноль-институции может быть применена не только к общественному единению, но и к его антагонистическому расколу: что, если половое различие – не что иное, как ноль-институция в социальном разрыве человечества, минимальное естественное ноль-различие, разрыв, который прежде всего сигнализирует не о каких-то конкретных социальных отличиях, а о том, что такие отличия вообще имеют место? Таким образом, борьба за гегемонию – это опять-таки борьба за то, как это ноль-различие будет сверхдетерминировано другими характерными социальными различиями. Если принять это предположение за основу, то можно разглядеть важную черту в лакановской теории означающего, которую обычно упускают из виду: Лакан изменил стандартную схему знака у де Соссюра (над разделительной линией – слово «arbre», под ней – рисунок дерева), поместив сверху друг под другом два слова: «homme» и «femme», а снизу – два одинаковых изображения двери. Чтобы подчеркнуть различающий характер этого означаемого, Лакан сначала подменил одиночный сигнификат у Соссюра парным, оппозицией мужчина/женщина, противопоставлением по полу; но самое удивительное, что на уровне воображаемого референта нет никакой разницы (в итоге мы получаем не графическое отображение полового различия – вроде схематического рисунка мужчины и женщины на дверях сегодняшних уборных, – а ту же самую дверь, изображенную дважды). Можно ли утверждать, что, проще говоря, половые различия не обозначают какого-либо биологического противопоставления, основанного на «реальных» признаках, а представляют собой чисто символическую оппозицию, которую в обозначенных объектах не отражает ничего, кроме Реального некоего неопределенного «Икс», который нельзя запечатлеть в изображении означаемого?
Возвращаясь к примеру Леви-Стросса о двух изображениях деревни: здесь видно, как именно Реальное вторгается в смысл посредством анаморфоза. Сначала мы имеем «фактическое», «объективное» расположение домов, затем появляются два разных символических изображения, которые нарушают его своим анаморфированным искажением. Однако «реальное» здесь – не фактическое расположение построек, а травматическое ядро социального антагонизма, которое искажает восприятие племенем фактически существующего антагонизма. Таким образом, Реальное – это дезавуированный «Икс», возникающий в результате искажения нашего восприятия реальности. (Этот трехступенчатый диспозитив, кстати, идеально соответствует трехуровневому диспозитиву интерпретации снов у Фрейда: подлинным ядром сновидения является не его скрытый смысл, который переводится/смещается в отчетливую структуру сна, а бессознательное желание, которое именно через искажение этой скрытой мысли прописывает себя в этой структуре.)
То же самое можно сказать о сегодняшнем искусстве: оно не есть возвращение Реального в виде шокирующе отвратительного вторжения фекальных объектов, изуродованных трупов, дерьма и т. п. Разумеется, всему этому здесь не место, – но для того, чтобы быть не на месте, это (пустое) место уже должно здесь существовать, – и оно существует благодаря искусству «минимализма», начавшемуся с Малевича. Именно это и объединяет две противостоящие иконы высокого модернизма: «Черный квадрат» Казимира Малевича и инсталляцию объектов реди-мейд как объектов искусства Марселя Дюшана. В основе возведения Малевичем заурядного предмета в категорию арт-объектов лежит идея о том, что стремление быть предметом искусства не является внутренним свойством этого предмета, именно художник, извлекая этот (да и вообще любой) предмет и помещая его в определенное место, делает его таковым. Быть произведением искусства – это не вопрос «почему?», а вопрос «где?». Минималистским размещением предмета в пространстве Малевич всего лишь представляет – изолирует – это место как таковое; пустое место (или рама) волшебным образом трансформирует любой объект внутри себя в произведение искусства. Короче говоря, где нет Малевича, там нет Дюшана: только после того, как искусство изолирует раму/место как таковое, освобождая его от какого-либо содержания, становится возможным погружение в процесс создания объектов реди-мейд. До Малевича писсуар Дюшана остался бы писсуаром, даже если бы его выставили в самой именитой галерее.
Таким образом, появление фекальных объектов не на своем месте в точности соотносится с появлением места, лишенного какого-либо объекта, с появлением пустой рамы как таковой. Следовательно, Реальное в современном искусстве обладает тремя измерениями, которые каким-то образом повторяют в пределах Реального триаду «Воображаемое – Символическое – Реальное». Реальное предстает здесь прежде всего как анаморфное пятно, как анаморфное искажение непосредственного образа реальности – как искаженный образ, чистое подобие, которое «субъективизирует» объективную реальность. Далее, Реальное предстает как пустое место, опыт как таковой, структура, конструкция, которой нет, но которую можно реконструировать в обратном порядке и которая должна предполагаться как данность, – Реальное как символическая конструкция. И наконец, Реальное – это та самая оскорбляющая нас фекальная Вещь, находящаяся не на месте, – Реальное «само по себе». Это последнее Реальное, будучи изолированным, становится всего лишь фетишем, чье притягательное/завораживающее присутствие маскирует структурное Реальное, – точно так же, как в нацистском антисемитизме еврей, будучи фекальной Вещью, являлся Реальным, которое маскировало невыносимое «структурное» Реальное социального антагонизма. Эти три измерения Реального идут от трех способов дистанцироваться от «обычной» реальности: один – подвергнуть ее анаморфическому искажению, другой – поместить в нее неуместный объект, а третий – вычесть/удалить из нее все содержание (все объекты) реальности, так чтобы все, что осталось, была бы сама пустота, которую эти объекты заполняли.
Немного Фрейда
Ошибочность «Матрицы», пожалуй, самым непосредственным образом явлена в позиционировании Нео как «Избранного». Кто такой Избранный? Фактически такое звено существует в социальной связи. Прежде всего, Избранный выступает как Главное Означающее, как символическая власть. Даже в самых ужасных формах социальной жизни, в воспоминаниях выживших в концлагерях неизменно упоминается Избранный – человек, который не сломался, который в невыносимых условиях, вынуждающих всех прочих вести эгоистичную борьбу за элементарное выживание, чудом сумел сохранить и распространить вокруг себя «иррациональное» благородство и чувство собственного достоинства, – говоря языком Лакана, здесь мы имеем дело с функцией Y a de l’Un: даже здесь был Избранный, который поддержал минимальную солидарность, которая и определяет собственно социальную связь в противоположность коллаборационизму в рамках стратегии выживания в чистом виде. Здесь важно отметить два момента. Во-первых, такой человек всегда воспринимается как единственный (его не бывает во множестве, словно бы по какой-то скрытой необходимости это необъяснимое чудо солидарности должно быть заключено в одном Избранном). Во-вторых, дело было не столько в том, что этот Единственный делал для других, сколько в самом его присутствии среди них (им помогало выжить само осознание того, что, даже если их жизнь сведена к механизмам выживания, среди них есть Единственный, кто сохранил человеческое достоинство). По аналогии с закадровым смехом мы имеем здесь своего рода закадровое чувство собственного достоинства: Другой (Избранный) сохраняет мое чувство собственного достоинство для меня, вместо меня или, если быть точнее, я сохраняю свое достоинство через Другого, меня могут довести до жестокой борьбы за выживание, но само осознание того, что есть Избранный, который сохраняет свое достоинство, помогает мне сохранять минимальную связь с человечностью. Часто, когда такой Избранный не выдерживал или оказывался подставным лицом, другие заключенные теряли желание выжить и превращались в «мусульман» – безразличных ходячих мертвецов. Как это ни парадоксально, их готовность к борьбе за жизнь поддерживалась самим ее отклонением, самим фактом наличия Единственного, который не опустился до того же уровня. Таким образом, когда это отклонение исчезало, борьба теряла свою силу. Разумеется, это означает, что Единственного выделяли не за его «реальные» качества (на этом уровне таких, как он, могло бы быть и больше, или же могло выясниться, что он притворщик, играющий роль): его исключительность – это, скорее, трансфер (перенос), то есть он занимает место, предназначенное для него другими.
В «Матрице» же, напротив, Избранный – это тот, кто обладает способностью видеть, что каждодневная реальность нереальна, что это лишь закодированная виртуальная вселенная, и, следовательно, тот, кто может от нее отключаться, манипулировать ее правилами и отменять их (например, летать, останавливать пули и т. д.). Главной функцией этого Избранного является виртуализация реальности: реальность – это искусственная конструкция, правила которой можно отменить или, по крайней мере, переписать, – здесь кроется параноидальное представление о том, что Избранный может преодолеть сопротивление Реального («я могу пройти сквозь толстую стену, если захочу», другими словами, неспособность большинства из нас пройти сквозь стену сводится к недостатку воли). Однако, опять же, фильм не развивает эту мысль достаточно глубоко: в запоминающейся сцене в приемной Пифии, которая должна сказать, является ли Нео Избранным, ребенок, который взглядом и силой мысли гнет ложку, говорит изумленному Нео, что секрет не в том, чтобы убедить себя, что ты можешь согнуть ложку, а в том, чтобы убедить себя, что никакой ложки нет… Но что же тогда насчет себя? Может ли быть, что следующий шаг – принять буддистское утверждение о том, что меня как субъекта не существует?
Чтобы выявить следующую ошибку в «Матрице», необходимо отделить элементарную техническую невозможность от фантастической недостоверности: путешествия во времени (скорее всего) невозможны, но фантастические сценарии об этом тем не менее «правдивы» в своей интерпретации либидинальных тупиков. Следовательно, проблема «Матрицы» – не в научной наивности ее фокусов: идея перехода из реальности в виртуальную реальность с помощью телефона имеет смысл, поскольку нам нужен проход/дыра, через которые мы могли бы сбежать. (Возможно, унитаз был бы здесь лучшим решением: разве дыра, куда исчезают экскременты после того, как мы спустили воду, не является метафорой ужасной и величественной запредельности первобытного, добытийного Хаоса, куда исчезает все? Таким образом, Реальное – это топологическая дыра или спираль, которая «закручивает» пространство нашей реальности так, что мы воспринимаем/воображаем, что экскременты исчезают в иное измерение, не являющееся частью нашей повседневности.) Проблема здесь в еще более радикальном фантастическом несоответствии, когда Морфеус (темнокожий лидер группы сопротивления, который верит, что Нео – Избранный) пытается объяснить все еще озадаченному Нео, что такое Матрица, и связывает ее с изъяном в структуре Вселенной.
Морфеус: Ты испытывал это чувство всю свою жизнь. Чувство, что с миром что-то не так. Ты не знаешь, что это, но оно сидит занозой в мозгу, сводя с ума. <…> Матрица повсюду, она окружает нас, даже сейчас в этой комнате. <…> Это мир, напяленный на твои глаза, чтобы скрыть от тебя правду.
Нео: Какую?
Морфеус: Что ты раб, Нео. Что ты, как и все прочие, рожден скованным и с рождения пребываешь в тюрьме, которую не можешь ни почувствовать, ни ощутить, ни потрогать. В тюрьме своего сознания.
Здесь фильм неожиданно обнаруживает свое главное противоречие: предполагается, что ощущение нехватки/несоответствия/помехи должно служить доказательством того, что ощущаемое нами как реальность – на самом деле фальшивка, – однако ближе к концу фильма агент Матрицы Смит дает другое, более фрейдистское объяснение:
Знаете, ведь первая Матрица создавалась как идеальный человеческий мир, где бы никто не страдал, где бы все были счастливы. И полный провал. Люди не приняли программу, всех пришлось уничтожить. Некоторые считали, что у нас нет языка программирования, чтобы описать ваш идеальный мир. Но я думаю, что люди как биологический вид не представляют свою реальность без мучений и нищеты. Идеальный мир был сном, от которого ваш примитивный мозг пытался пробудиться. Вот почему Матрица воссоздана такой – это пик вашей цивилизации.
Таким образом, несовершенство нашего мира является одновременно и знаком его виртуальности, и показателем его реальности. Можно было бы заявить, что агент Смит (не будем забывать, что он не человек, как другие, а непосредственное виртуальное воплощение самой Матрицы – большого Другого) выступает во внутренней вселенной фильма как аналитик: его вывод состоит в том, что для людей существование непреодолимой преграды является непременным условием, чтобы воспринять что-то как реальность: в конечном счете реальность – это то, что оказывает сопротивление.
Мальбранш в Голливуде
Следующая несообразность касается смерти: почему человек умирает «на самом деле», если умирает он только в виртуальной реальности, управляемой Матрицей? Фильм дает туманное разъяснение. Нео: «Если тебя убьют в Матрице, ты умрешь и здесь?» (то есть не только в виртуальной реальности, но и в реальной жизни). Морфеус: «Тело не может жить без разума». Согласно логике такого разъяснения, ваше «реальное» тело может жить (функционировать), только поддерживая связь с разумом, то есть с той ментальной вселенной, в которую вы погружены: таким образом, если вы находитесь в виртуальном пространстве и вас там убивают, эта смерть поражает и ваше настоящее тело… Следующее отсюда обратное утверждение (вы умираете по-настоящему, только когда вас убивают в реальности) тоже недостаточно. Загвоздка вот в чем: полностью ли погружен субъект в управляемую Матрицей виртуальную реальность – или он все же знает или хотя бы подозревает, каково действительное положении вещей? Если верно последнее, тогда простой уход в догреховное Адамово состояние отстранения сделал бы нас бессмертными в виртуальной реальности и, следовательно, Нео, уже освободившийся от полного погружения в виртуальное пространство, должен выжить в схватке с агентом Смитом, которая происходит внутри Матрицы (точно так же, как он останавливает пули, Нео по идее должен уметь виртуализовать удары, которые ранят его тело).
По этой причине очень важно оставить открытым вопрос об изначально неоднозначном влиянии, которое способно оказать на нашу жизнь киберпространство: это зависит не от технологий как таковых, а от того, как оно впишется в социум. Погружение в виртуальное пространство может усилить наши телесные ощущения (новый уровень чувственности, новое тело с дополнительными органами, новая сексуальная идентичность…), но при этом оно дает возможность тому, кто им управляет, в буквальном смысле украсть наше (виртуальное) тело, лишив нас контроля над ним, так что мы больше не будем воспринимать тело как «свое собственное». Здесь в полной мере ощущается двусмысленность понятия «медиатизация»[260]260
Об этой двойственности см.: Virilio P. The Art of the Motor. Minneapolis: Minnesota University Press, 1995.
[Закрыть]: изначально это слово обозначало действие, посредством которого человек лишался своего прямого и непосредственного права принимать решения. Великим мастером политической медиатизации был Наполеон, который оставлял побежденным монархам видимость власти, в то же время лишая их положения, в котором они могли бы ее применить. Обобщая, можно сказать, что такая «медиатизация» характеризует конституционную монархию: при ней монарх низводится до формально-символической фигуры «заверителя», расставляющего точки над i, удостоверяющего своей подписью и тем самым дающего исполнительную силу указам, содержание которых определял выборный руководящий орган. И нельзя ли сказать то же самое mutatis mutandis о нашей сегодняшней, прогрессирующе компьютеризирующейся повседневной жизни, в которой человек делается все более и более «медиатизированным», лишенным своей силы при ее кажущемся возрастании? Когда наше тело «медиатизируется» (будучи поймано в электрическую медиасеть), оно становится уязвимым для угрозы радикальной «пролетаризации»: человек как субъект (S) потенциально сводится к денежному знаку $, в то время как механический Другой крадет, подчиняет и регулирует его переживания. Здесь можно заметить, что перспектива радикальной виртуализации ставит компьютер в позицию, совершенно схожую с позицией Бога в окказионализме Мальбранша: поскольку компьютер управляет отношениями между моим мозгом и тем, что я ощущаю как движения своего тела (в виртуальной реальности), легко можно представить, как компьютер сходит с ума и начинает вести себя как Злой Бог у Мальбранша, разрушая связь между моим телесным самоощущением и мозгом: если сигнал «поднять руку», идущий от моего мозга, замедляется или даже прерывается в (виртуальной) реальности, то подрывается само фундаментальное ощущение тела как «моего»… Похоже, что киберпространство с успехом воплотило параноидальные фантазии немецкого судьи Шребера, чьи мемуары анализировал Фрейд[261]261
Идею об этой взаимосвязи между киберпространством и психотичной вселенной Шребера мне подсказала Венди Чан (Принстон).
[Закрыть]. Эта «сетевая вселенная» действительно «психотична», она материализовала галлюцинации Шребера о божественных лучах, через которые Бог напрямую контролирует человеческий разум. Другими словами, не является ли экстернализация большого Другого в компьютере причиной параноидального измерения, присущего сетевой вселенной? Или иначе: в киберпространстве способность закачивать сознание в компьютер в конце концов делает людей свободными от их тел – но и машины делает свободными от «их» людей.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































