Текст книги "Киногид извращенца. Кино, философия, идеология"
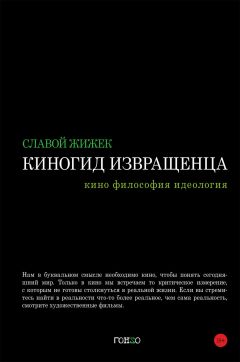
Автор книги: Славой Жижек
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
В Кристе Т. действительно есть что-то странное, что-то поразительно иное, выделяющее ее из ее времени (подобная чудесная жизнеутверждающая энергия женского персонажа является также темой двух лент, которые, вероятно, можно назвать архетипическими восточно-германскими фильмами: «Die Legende von Paul und Paula»[197]197
Несмотря на кажущуюся банальность «Die Legende», этот фильм примечателен по крайней мере по трем моментам: (1) активная роль женщины в соблазнении – мужчины сведены к «объектам желающего взгляда»; (2) сверхъестественно мрачный финал: после якобы счастливой развязки (Паула воссоединяется с Паулом и ждет ребенка) Паула выходит на улицу и спускается в подземку, исчезая в темноте, в то время как анонимный рассказчик сообщает нам, что вскоре она умрет во время родов; (3) сцена финального примирения Паулы и Паула изображена как общий, коллективный опыт: когда Паул собирается сломать дверь квартиры Паулы, сосед с радостью одалживает ему топор; затем Паул входит в квартиру вместе с дюжиной соседей, с одобрением наблюдающих за сломом сопротивления дующейся Паулы и страстными объятиями пары. Несмотря на манипулятивный эффект подобных сцен в коммерческих фильмах (вспомним финальную сцену на станции метро в «Крокодиле Данди» и сцену примирения в уборной между Камерон Диас и Джулией Робертс в «Свадьбе моего лучшего друга»), в них всегда остается крошечный освободительный потенциал.
[Закрыть], 1973, Хейнера Кэроу и «Solo Sunny», 1980, Конрада Вольфа).
Выражаясь языком Альтюссера, ее история – это история неудавшейся идеологической интерпелляции, неспособности – или, по крайней мере, отсутствия решимости – полностью распознать собственную социально-идеологическую идентичность:
Когда ее позвали по имени: «Криста Т.!», она встала, пошла и сделала то, чего от нее ожидали; был ли кто-то, кому она могла рассказать о том, что звучание ее имени заставило ее о многом задуматься: действительно ли имеют в виду меня? Или просто было использовано мое имя? Перечисленное в ряду других имен, старательно поставленное перед знаком «равно»? И если бы меня здесь не было, заметил бы это кто-нибудь?[198]198
Wolf Ch. The Quest for Christa T. New York: Farrar, Straus & Giroux, 1970. P. 55.
[Закрыть]
Разве этот жест: «Я есть то имя?», это исследование собственной символической идентичности, переданное цитатой из Йоханнеса Р. Бехера: «Это становление-собой – что это такое?», которую Вольф поставила в самом начале своего романа, не является чистой воды истерической провокацией? Следовало бы немедленно заключить, что «Криста Т.» – это неудачная версия Ankunftsroman, романа о «входе в (новую социалистическую) реальность», новая гэдээровская версия старой традиции, заданной Bildungsroman, в котором группа молодых восточных немцев понимает, что лучше отбросить чрезмерные романтизированные ожидания и принять реальность ГДР как место своей самореализации. (Возможно, это лишь совпадение, но ключевая фигура этой традиции, Бригитта Рейманн, автор «Ankunft im Alltag», 1961, также умерла от лейкемии примерно в том же возрасте, что и Криста Т.) «Расколотые небеса», ранний роман-прорыв Вольф, все еще находится в координатах Ankunftsroman, в его конце героиня Рита преодолевает свой суицидальный кризис и принимает реальность ГДР, в частности свой рабочий коллектив – как место, являющееся источником единства, необходимого для преодоления личного кризиса. В «Кристе Т.» «входа в реальность» не происходит, так что роман заканчивается бессмысленной смертью[199]199
Именно по этой причине «Криста Т.» – ключевой роман Вольф: он уже отказывается от полного приятия реальности Ankunftsroman, но еще избегает простого выхода через экофеминистскую идеологию, характерного для следующих работ Вольф.
[Закрыть].
Как в таком случае нам следует трактовать огромный жизненный потенциал Кристы Т.? Он разрушает противопоставление идентификации с «официальной» идеологией и покорное циническое отступление в личную жизнь: он представляет собой наивную преданность утопическому потенциалу «официальной» социалистической идеологии – и, в окончательном варианте, само (женское) желание. Сон Фрейда об инъекции Ирмы – это тот самый сон, сон, ознаменовавший начало (inaugural dream), в силу своей рефлексивности: его послание в том, что он разрушает собственное желание Фрейда (сновидящего) справиться с истерическим субъектом (Ирмой). Так каким же в конечном счете является желание, реализованное в нем, в самом провале желания Фрейда справиться с Ирмой? Желанием как таковым, истерическим желанием Ирмы. Этот сон изображает вступительную сцену возникновения (женского) желания в его нарушающем установленные рамки измерении, остающегося непроницаемым, неподконтрольным мужчине-Господину. Таким образом, желание буквально реализуется – не «исполняется», а актуализируется, делается видимым как желание. Вероятно, что-то похожее происходит в «женских» фильмах Кеслёвского. Разве они, в конечном итоге, не рассказывают историю рождения женского желания из духа печали и меланхолии?
Существует, однако, и еще один, более радикальный уровень, на котором «Три цвета» знаменуют разрыв и указывают на возникновение нового измерения в работах Кеслёвского. Фильмы Кеслёвского – от ранних документальных работ до «Вероники» – соединены прямой линией размышлений о фундаментальном этическом выборе между Миссией и Жизнью: спонтанный поток жизни, стремящийся к спокойствию, прерывается насильственным вторжением Интерпелляции. Если в случае (идеологической) интерпелляции, как и в случае паранойи, субъект «слышит голос», который зовет его, то в чем тогда разница между ними? Напрашивается наивный и прямой ответ: в случае интерпелляции зов «реален», в то время как при паранойе он воображаем, то есть субъект слышит несуществующий голос – но не слишком ли просто такое объяснение? Разве сама идея большой Другой «реальности», обращающейся к нам извне, не является определением паранойи, так что такое различие заставляет вспомнить, как (согласно описанию Леви-Стросса[200]200
См.: Lévi-Strauss C. The Symbolic Efficiency // Structural Anthropology. New York: Basic Books, 2000.
[Закрыть]) заслуженные колдуны индейских племен отказывают в доверии своим менее квалифицированным подражателям: они прекрасно понимают, что и сами жульничают, но, по крайней мере, делают это надлежащим образом… Итак, необходимо произвести инверсию терминов: в «нормальном» случае субъект интерпелляции знает, что голос, обращающийся к нему, «на самом деле не существует», что он возникает внутри субъекта, что он вымышленный, в то время как параноик верит, что источник голоса действительно находится вовне. Иными словами, если, как объясняет Альтюссер, интерпелляция (распознавание в призыве) перформативна в смысле расположения самого́ большого Другого, в призыве которого субъект «распознаёт» себя, тогда, возможно, интерпелляция параноидальна сама по себе? Нет: именно при паранойе Голос, который слышит субъект, полностью реален (является галлюцинацией). Различие, таким образом, связано со статусом голоса: является ли он частью (отвергнутого) большого Другого, символического порядка, или же он исходит из (расположен в) Реальности?
Трилогия «Три цвета» вводит в выбор между Жизнью и Интерпелляцией новый элемент, третий термин, «нулевой уровень» крайнего сжатия/самоудаления, символической смерти, которая не является ни Миссией, ни Жизнью, но их неясным основанием, «исчезающим посредником». Все части трилогии сосредоточены на путешествии от определенного способа радикального самоудаления к принятию других, реинтеграции в социальную вселенную: в «Синем» Жюли совершает путешествие от «ночи мира» к агапэ; в «Белом» Кароль – от положения изгоя общества (экономического и сексуального провала) к возвращению своего состояния и жены; в «Красном» судья – от холодного циничного наблюдения к помощи ближнему. Перед нами три способа входа в (прохождения через) сферу между двумя смертями: Жюли уходит от мира, уединяется, умирает для символического сообщества; Кароль превращается в ничто, лишенный жены и всей своей собственности, и, в качестве первого шага к реинтеграции, позже инсценирует собственные похороны, хороня купленный труп русского; судья, этот озлобленный одинокий наблюдатель, уходит из общественной жизни. Возможно, по сравнению с «Синим» и «Белым» «Красный» идет на шаг дальше:
• в «Синем» сексуальный акт, во время которого на Жюли нисходит откровение, изображен как ее собственная одинокая фантазия, подобное сну событие, не подразумевающее настоящего контакта с другим человеком (это парадигма многих сексуальных актов у Кеслёвского, особенно в «Двойной жизни Вероники»: женщина переживает их как одинокую мечту);
• в «Белом» примирение обретает внешнюю форму, изображается как успешное «сведение счетов», из которого возникает обновленная любовь жены. Однако пара по-прежнему разделена, и, хотя язык жестов говорит о том, что она все еще любит его и готова выйти за него замуж после окончания своего тюремного срока (это предчувствие подтверждается в финальной сцене «Красного»), слезы Кароля также можно истолковать как часть извращенной стратегии: сначала он посадил свою любимую за решетку по ложному обвинению, затем он «искренне» жалеет ее. Возможно, «Белый» – это вариация Кеслёвского на тему голливудского жанра, который Стэнли Кавелл окрестил «комедией о повторном браке»: лишь второй брак является подлинным символическим актом;
• настоящее примирение происходит лишь в «Красном» – что важно, в виде немого общения между героиней и фигурой, символизирующей для нее отца, судьей, окончательным воплощением умиротворяющего образа отца, того самого отца, к которому возвращается Вероник в финале «Двойной жизни», того самого отца, к которому возвращается дочь после взрыва инцестуальной страсти в «Декалоге 4». Этот уникальный образ озлобленного судьи, с одной стороны, является последней аллегорической заменой самого Кеслёвского, мастера-кукловода, управляющего судьбами своих творений, и, с другой (возможно, более важной) стороны, заменой бессильного Гностического Бога, способного лишь наблюдать за пороками мира, но не имеющего возможности радикально изменить положение вещей. (Нам не следует игнорировать иронию того факта, что он также является юристом: фигура, олицетворяющая сам Закон, получает непростой урок искусства любви за пределами Закона.)
Таким образом, «Три цвета» также можно толковать в связи с гегелевской триадой семьи, гражданского общества и Государства: в «Синем» примирение происходит на интимном семейном уровне, в форме неотложности любви; «Белый» осуществляет единственное примирение, возможное в гражданском обществе, примирение формального равенства или «сведение счетов»; в «Красном» мы достигаем высочайшего примирения, примирения «братства» в обществе как таковом.
Согласно стандартной психологии цвета, синий представляет аутическое отделение, холод интровертности, ухода-в-себя, и «Синий» действительно является историей женщины, оказавшейся в такой ситуации[201]201
Визуальный мотив, изображающий женщину, плавающую в синем бассейне ночью, как «объективный коррелят» ее одиночества и прото-психотической исключенности из общества, также используется в «Детях меньшего бога» Рэнды Хейнс, чтобы подчеркнуть (само)исключение озлобленной глухонемой героини.
[Закрыть]. Ее травматическое столкновение с Реальностью разрушает символические связи и ставит ее перед лицом радикальной свободы. В таком состоянии человек гораздо сильнее подвержен мимолетным «случайным встречам», которых мы не замечаем, когда вовлечены в символические ритуалы. Итак, парадоксальным образом, вместо того чтобы изолировать нас от реальности, подобный выход из социально-символической сети раскрывает нас перед ней, перед ее ударами. Лишь по-настоящему одинокие люди полностью ощущают малейшие сигналы, исходящие из их окружения; те же, кто поглощен собой, не одиноки – они живут в собственном мире, ни в чем не испытывая нужды, утратив контакт с окружающей реальностью, подобно матери Жюли в «Синем» – она не свободна, а, как часто говорят, в действительности является заложницей собственных воспоминаний[202]202
В основном одиноким персонажам Кеслёвского (доктор из «Декалога 2», любовница из «Декалога 3», профессор этики и портной из «Декалога 8») не дают покоя пережитые в прошлом травмы.
[Закрыть].
Таким образом, мать в высшей степени несвободна, и эта несвобода противопоставляется присущей Жюли «абстрактной свободе» жизни в абсолютном настоящем, в полной открытости бессмысленным совпадениям повседневной жизни.
Среди работ Кеслёвского предтечей «Синего» является фильм «Без конца»: хотя «Без конца» и «Синий» в высшей степени разные фильмы, они оба рассказывают историю женщины, которая после смерти мужа отчаянно желает порвать с прошлым и стереть собственные воспоминания. В обоих случаях прошлое (муж) преследует ее под видом невыполненной миссии (в «Без конца» молодой диссидент просит Урсулу продолжить его дело, Оливье просит Жюли завершить сочинение ее мужа). Подобно тому как «Без конца» заставляет нас поверить, что Урсула была подлинной деятельной силой, стоявшей за профессиональным успехом ее мужа, «Синий» намекает, что Жюли была творческим духом, если не настоящим автором музыки своего мужа. В «Без конца» попытка стереть прошлое принимает почти комические масштабы, когда, стремясь удалить память об Антеке из своего сознания, то есть устранить его призрачное присутствие, Урсула ищет гипнотизера. Попытка проваливается, Урсула осознаёт, что присутствие Антека останется с ней до конца ее жизни, так что она совершает самоубийство, чтобы присоединиться к своему мужу в вечности. Таким образом, развязка «Без конца» противоположна финалу «Синего»: самоубийство – вместо успешной реинтеграции в социальное пространство, что указывает на необходимость совместного толкования «Без конца» и «Синего» как еще одного примера альтернативных концовок.
Не является ли ситуация Жюли ситуацией двойной потери? Она теряет не только своего мужа (и ребенка), но и, узнав о том, что у мужа была любовница, которая теперь беременна, она теряет саму потерю, идеализированный образ своего мужа, – так же как в рассказе Роальда Даля, экранизированном Хичкоком, молодая женщина, чей муж разбился насмерть на швейцарском леднике, посвящает свою жизнь его идеализированной памяти; когда же двадцать лет спустя таяние ледника открывает замерзшее тело ее мужа, она обнаруживает в его бумажнике фотографию другой женщины, его настоящей любви. Существует верная догадка о сущности двойной петли истории Даля: если человек сохраняет травматическую привязанность к отношениям прошлого, идеализируя их, возвышая их до стандарта, которому не могут соответствовать ни одни новые отношения, можно быть абсолютно уверенным: за такой чрезмерной идеализацией скрывается тот факт, что с этими отношениями было что-то не так. Единственный надежный признак отношений, по-настоящему приносящих удовлетворение, заключается в том, что после смерти одного из партнеров второй готов двигаться дальше и найти нового партнера. После того как Жюли удаляется в уединение, в ее повседневной жизни появляется постоянная угроза, постоянные (в основном музыкальные) вторжения из Прошлого, которое ей хочется стереть. Ее борьба с музыкой – это борьба с прошлым, а следовательно, главным признаком приятия ею Прошлого является то, что она завершает сочинение своего покойного мужа, вновь помещая себя в музыкальные жизненные рамки.
Борьба Жюли с музыкальным прошлым также объясняет странные внезапные затмения в середине сцены. При вторжении музыки экран темнеет, изображение постепенно исчезает, так как Жюли действительно проходит через исчезновение (афанизис), на пару секунд теряет сознание. Когда она вновь берет себя в руки и успешно подавляет бунт музыкального прошлого, свет опять загорается – и продолжается предыдущая сцена… Так какова же настоящая функция этих вторжений прошлого? Что они такое: симптомы (возвращение подавленного, того, что Жюли пытается стереть) или фетиши? В сущности, фетиш – это своего рода обратная сторона (envers) симптома. То есть симптом – это исключение, нарушающее спокойствие поверхности ложной видимости, точка, в которой прорывается подавленная Другая Сцена, в то время как фетиш является воплощением Лжи, позволяющей нам выдержать невыносимую истину. Давайте рассмотрим пример смерти любимого человека: если речь идет о симптоме, я «подавляю» эту смерть, пытаюсь не думать о ней, но подавленная травма возвращается в виде симптома; если же речь идет о фетише, я, напротив, «рационально» полностью принимаю эту смерть, и все же цепляюсь за фетиш, за какое-то качество, являющееся для меня воплощением отрицания этой смерти. В этом смысле фетиш может играть в высшей степени конструктивную роль, позволяя нам совладать с жестокой реальностью: фетишисты – это не мечтатели, заблудившиеся в своих личных мирах, а настоящие «реалисты», способные принять истинное положение вещей, поскольку у них есть фетиш, за который они могут ухватиться, чтобы смягчить тотальное воздействие реальности. В мелодраматическом романе Невила Шюта о Второй мировой войне «Requiem for a WREN» героиня переживает смерть своего возлюбленного без видимых травматических последствий, она продолжает жить и даже способна рационально говорить о его смерти, поскольку с ней остается собака, которую очень любил покойный. Когда же через некоторое время собаку случайно сбивает грузовик, героиня переживает полный упадок духа, весь ее мир рушится… В этом строгом смысле деньги являются для Маркса фетишем: я притворяюсь рациональным, практическим субъектом, прекрасно понимающим истинное положение вещей, но воплощаю свою отвергнутую веру в деньги-фетиш… Иногда граница между симптомом и фетишем почти неразличима: объект может выполнять функции симптома (или подавленного желания) и практически одновременно – функции фетиша (воплощая убеждение, от которого мы официально отказываемся). Например, останки умершего, кусочек его одежды могут выполнять функции фетиша (в них умерший магическим образом продолжает жить) и симптома (тревожащей детали, напоминающей о его смерти). Разве это двусмысленное напряжение не сходно с напряжением между объектом фобии и фетиша? В обоих случаях структурная роль объекта одна: если этот исключительный элемент испорчен, вся система разваливается на части. Ложная вселенная субъекта рассыпается, если он вынужден лицом к лицу столкнуться со смыслом симптома, но верно и обратное: «рациональное» приятие субъектом положения вещей также рассыпается, когда он лишается своего фетиша. Возможно, это противопоставление имеет половые особенности: женский (истерический) симптом против мужского (извращенного) фетиша? Итак, возвращаясь к «Синему», возможно, эти вторжения музыкального прошлого являются и тем и другим одновременно, колеблются между симптомом и фетишем? Они – возвращение подавленного и одновременно детали-фетиши, в которых магическим образом живет умерший муж.
В середине фильма, во время визита в дом умершего мужа, Жюли видит, как плачет их старая прислуга; когда Жюли спрашивает о причине ее слез, та отвечает: «Потому что вы не плачете!» Это далекое от обвинения замечание демонстрирует, что старая верная прислуга полностью осознаёт глубину отчаяния Жюли: ее плач не работает как «заготовленные слезы» (как у нанятой родственниками умершего плакальщицы) – Жюли находится в таком шоковом состоянии остановки, что не только не способна плакать сама, но и другие также не способны по-настоящему плакать за нее. Таким образом, «Синий» – это фильм не о скорби, а о создании условий для скорби: лишь в последней сцене фильма Жюли способна начать скорбеть. Это похоже на обычные переживания маленьких детей: когда они начинают плакать, можно быть уверенным, что травматический эффект от пережитого ими неприятного шока исчерпан, что они возвращаются к нормальному состоянию.
До обнаружения этой способности скорбеть Жюли видит себя «между двух смертей»: она мертва, хотя все еще жива. Лучший пример этого состояния показан в недооцененном фильме «Бесстрашный» (Fearless) Питера Уира: чудесным образом выживший при крушении самолета герой (Джефф Бриджес), оказавшийся в состоянии остановки, освобождается от общей участи смертных (у него больше нет страха смерти, у него больше нет аллергии на клубнику…). Тема «между двух смертей» также отражена в «Двойном просчете» (Double Jeopardy) Брюса Бересфорда, структурной инверсии «Двойной страховки» – классического произведения Билли Уайлдера в стиле нуар: жена (Эшли Джадд) отправляется в тюрьму за то, что якобы убила своего мужа, в тюрьме она случайно выясняет, что ее муж жив, и узнаёт о так называемом «вторичном привлечении» – человека нельзя дважды осудить за одно и то же преступление, а значит, теперь она может безнаказанно убить своего мужа. Это изображение фантазматической ситуации, когда человек обнаруживает себя в пустом пространстве, где становится возможным акт, за который субъект не несет никакой символической ответственности. В фильме это пространство неоднократно называется «между двух смертей»: когда героиня попадает в руки к своему мужу, он закрывает ее в гробу на кладбище Нового Орлеана, так что теперь она оказывается в позиции живого мертвеца. Кроме того, в погоне за убийцей великодушный защитник героини, полицейский-надзиратель (Томми Ли Джонс), грозит ее мужу той же ловушкой – создать видимость, что она убита, в то время как она будет жить на свободе, хотя и числиться официально мертвой. Наконец, разве посыл «Идеального шторма» Себастьяна Юнгера, реальной истории экипажа рыболовного судна, погибшего в 1991 г. в шторме к югу от Ньюфаундленда, заключается не в том, как он сосредотачивается на моменте, непосредственно предшествующем смерти: на коротком, но страшном промежутке, когда еще живые члены экипажа уже были уверены, что их смерть неотвратима?
В «Дэйве» Айвана Райтмана тема «между двух смертей» тонко сочетается с мотивом двойника: секретная служба просит обычного парня, невероятно похожего на президента США (Кевин Клайн), заменить его во время появления на публике; когда в тот же вечер с президентом случается приступ, навсегда обрекающий его на растительное существование, манипулятор – шеф по персоналу – вынуждает Клайна продолжить исполнять роль президента, чтобы удержать настоящую власть в своих руках. История развивается по предсказуемому сценарию в стиле Фрэнка Капры: Клайн оказывается простым, хорошим парнем, который, обнаружив, что обладает реальной силой принимать решения, предпринимает ряд прогрессивных шагов, призванных улучшить положение бездомных и безработных; в финале фильма, разрушив коварный план шефа по персоналу, он инсценирует собственное исчезновение (в конце концов становится известно о смерти настоящего президента, и Клайн возвращается к своей обычной жизни, в которой к нему присоединяется нелюбимая жена президента, чью любовь он ненароком завоевал). Таким образом, исполнение Клайном роли президента буквально находится «между двух смертей»: между «реальной» смертью президента (или, более точно, равной смерти полной потерей трудоспособности) и своей символической смертью (публичным объявлением о смерти президента). В триаде «настоящего» президента, его двойника и президентства как символического места, которое могут занимать различные реальные люди, ключевым является образ нетрудоспособного «настоящего» президента, подключенного к медицинским приборам и ведущего растительное существование в тайной комнате в подвале Белого дома, так что в конечном итоге между двух смертей находится сам «настоящий» президент: он все еще жив, но социально мертв, обреченный на чисто биологическое, растительное существование. Теоретическое заключение, которое следует из этого извлечь, состоит в том, что подобная констелляция совсем не удивительна, а, напротив, является «нормой», и возникновение ее описано Фрейдом в его мифе об убийце первобытного отца: чтобы человек мог занять место символической власти, где-то еще, внизу, должен находиться живой труп, труп «естественного» носителя власти.
Как всем нам известно, горизонт событий – это область пространства, окружающая черную дыру: это невидимая (но реальная) граница – если вы ее пересекаете, пути назад уже нет, вас засасывает черная дыра. Если мы представим себе Вещь Лакана как психический аналог черной дыры, ее горизонтом событий будет то, что Лакан в своем толковании «Антигоны» определял как измерение ate, ужасающее пространство между двумя смертями. Когда Жюли удаляется в «абстрактную свободу» этого пространства, ключевая деталь – мышь в задней комнате ее новой горестной квартиры на улице Муфтар, рожающая уйму малышей. Вид этого буйства жизни вызывает у Жюли отвращение, поскольку оно представляет Реальность жизни в ее цветущей, сочащейся жизнеспособности. Ее отношение отвращения – это то, что пятьдесят с лишним лет назад было превосходно описано Сартром в его раннем романе «Тошнота», – отвращение к инертному присутствию жизни. Ничто не передает ее субъективное состояние в тот момент лучше, чем это отвращение, свидетельствующее об отсутствии фантазматических рамок, которые служили бы связующим звеном между ее субъективностью и сырой Реальностью жизненной субстанции: жизнь становится отвратительной, когда разрушается фантазия, служащая посредником между нами и жизнью, так что мы напрямую сталкиваемся с Реальностью. В конце фильма Жюли удается именно это восстановление рамок фантазии[203]203
Хотя легко увидеть в этой тошноте классовый элемент (Жюли оставляет заботу за мышами своим соседям, принадлежащим к низшему классу, словно низший класс по какой-то причине ближе к зарождению и разрушению жизни), не следует поддаваться «классовому редукционизму» и считать саму эту тошноту смещенной формой отвращения, вызываемого столкновением с людьми, принадлежащими к низшему классу, словно тошнота вообще «на самом деле означает» тошноту, вызываемую низшим классом: переживание тошноты от жизни как таковой – это изначальный онтологический опыт, и его смещение на «низший класс» в конечном итоге является своего рода защитной мерой, способом дистанцироваться от объекта посредством помещения «низшего класса» между нами и жизнью.
[Закрыть].
Это восстановление происходит в финальной сцене фильма, когда павлианская агапэ находит свое завершенное кинематографическое выражение. Пока Жюли сидит в постели после занятия любовью, камера показывает, медленно переплывая от одной к другой, четыре различные сцены в одной непрерывной последовательности (под строки о любви из «Первого послания к коринфянам» в исполнении хора). В этих сценах изображены люди, с которыми у Жюли была близкая связь: Антуан, мальчик, бывший свидетелем автокатастрофы, в которой погибли муж и дети Жюли; мать Жюли, тихо сидящая в своей комнате в доме для престарелых; Люси, подруга Жюли, молодая стриптизерша, выступающая на сцене ночного клуба; Сандрин, любовница ее покойного мужа, на последнем месяце беременности, прикасающаяся к своему обнаженному животу, в котором она носит нерожденного ребенка своего погибшего любовника… Непрерывное перемещение от одной сцены к другой (их разделяет лишь замутненный темный фон, по которому движется камера) создает эффект загадочной синхронности, некоторым образом напоминающий знаменитый поворот камеры на триста шестьдесят градусов в «Головокружении» Хичкока: после того как Джуди полностью превращается в Мадлен, пара страстно обнимается; пока камера совершает полный оборот вокруг них, сцена темнеет и фон, указывающий на место действия (комната Джуди в отеле), сменяется местом, где Скотти в последний раз обнимал Мадлен (конюшня миссии Хуан-Баутиста), а затем снова становится комнатой отеля, словно в неразрывном пространстве, напоминающем пространство сна, камера перемещается из одной сцены в другую по смутному ландшафту сновидения, в котором из темноты возникают отдельные сцены. Как в таком случае следует нам толковать этот уникальный эпизод «Синего»? Разгадка заключается в отношении между этим эпизодом и другим уникальным эпизодом из начала фильма, в котором Жюли после автокатастрофы безмолвно лежит в больничной постели в атавистическом состоянии полного шока. Камера сильно приближается – и почти весь кадр заполняется крупным планом ее глаза, и мы видим объекты в больничной палате, отраженные в глазу, как дереализованные призрачные образы частичных объектов, – кажется, будто этот кадр изображает знаменитый отрывок из Гегеля о «мировой ночи»:
Человек есть эта ночь, это пустое ничто, которое содержит все в своей простоте, богатство бесконечно многих представлений, образов, из которых ни один не приходит ему на ум или же которые не представляются ему налично. Это – ночь, внутреннее природы, здесь существующее – чистая самость. В фантасмагорических представлениях – кругом ночь; то появляется вдруг окровавленная голова, то какая-то белая фигура, которые так же внезапно исчезают. Эта ночь видна, если заглянуть человеку в глаза – в глубь ночи, которая становится страшной; навстречу тебе нависает мировая ночь[204]204
Hegel G. W. F. Jenaer Realphilosophie // Frühe politische Systeme. Frankfurt: Ullstein, 1974. S. 204; более подробный разбор этого отрывка см. в главе 1: The Ticklish Subject. (Цит. по изд.: Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет. В двух томах. Т. 1. М.: Мысль, 1972. С. 289. – Примеч. ред.)
[Закрыть].
Здесь вновь напрашивается сравнение с «Головокружением»: в (заслуженно) знаменитых титрах графические фигуры, словно знаменующие «странные аттракторы» теории хаоса (разработанной через несколько десятилетий после того, как был снят фильм), появляются из тьмы глаза женщины. Крупный план глаза в «Синем» обозначает символическую смерть Жюли: не реальную (биологическую) смерть, а прекращение связи с ее символическим окружением, тогда как последний эпизод обозначает повторное утверждение жизни. Таким образом, становится ясна взаимосвязь между этими двумя эпизодами: оба они изображают фантазматическую сцену – в обоих случаях мы видим частичные объекты, парящие на темном фоне Пустоты (в первом случае – гла́за, во втором – неясной тьмы экрана). Однако у них разная тональность: от сведения всей реальности к призрачному отражению в глазе мы приходим к нематериальному свету сцен, реальность которых (их встроенность в конкретные жизненные ситуации) также подавлена, однако в направлении чистой синхронности, почти мистической остановки, безвременного Сейчас, в котором эти сцены, вырванные из своего конкретного контекста, вибрируют друг в друге. Таким образом, эти две сцены изображают два противоположных аспекта свободы: «абстрактную» свободу чистой негативности, ухода-в-себя, разрывающего связи с реальностью, и «конкретную» свободу любящего приятия других, переживания себя как свободного и находящего полную самореализацию в отношениях с другими существа. Если говорить языком Шеллинга, переход от первого эпизода ко второму – это переход от крайнего эгоистического сжатия к бесконечному расширению. Так что когда в конце финальной сцены Жюли плачет (чего она до сих пор не могла сделать), ее работа скорби завершается, она примиряется со Вселенной (здесь имеет особое значение утверждение Кеслёвского о том, что он боится реальных слез: мы имеем дело с вымыслом!); ее слезы – это не слезы грусти или боли, это слезы агапэ, «да!», сказанного жизни в ее загадочном синхроническом многообразии. Если когда-либо существовала попытка изобразить в кино богоявление, это именно такая попытка. Таким образом, это панорамирование напрямую изображает фундаментальное понятие Кеслёвского о «солидарности грешников», о сообществе, целостность которого поддерживается общим опытом вины и страдания, любящим приятием других во всем их несовершенстве: «Такая солидарность может иметь христианский смысл, поскольку из нее вытекает понятие любви, способной принять человека целиком, со всеми его слабостями, даже с преступлениями»[205]205
Sobolewski T. Ultimate concerns // Coates P. Op. cit. P. 28.
[Закрыть]. Вероятно, все художественное развитие Кеслёвского можно описать формулой «от Солидарности к солидарности», от политической вовлеченности, выраженной в названии «Solidarność», к более всеобъемлющему деполитизированому переживанию «солидарности грешников». Ключевую роль здесь играет фильм «Случай», в котором происходит этот самый переход: хотя фильм все еще изобилует прямыми актуальными политическими отсылками, они уже явно подчинены метафизически-экзистенциальному видению бессмысленных случайностей, определяющих исход наших жизней. (Однако суть фильма не просто в том, что наша жизнь зависит от чистой случайности, – следует также помнить о том, что во всех трех альтернативных вселенных Витек, в сущности, остается одним и тем же достойным и внимательным человеком, который старается не причинять вреда другим.)
Тем не менее эта сцена обладает свойствами, на которые часто не обращают внимания, но которые, однако, играют важнейшую роль в создаваемом ею эффекте. Во-первых, не следует забывать о том очевидном факте, что сводная панорама, изображающая таинство агапэ, имеет место тогда, когда Жюли занимается сексом, – таким образом, мы возвращаемся к понятию Лакана о том, что любовь дополняет несуществование сексуальных отношений. Обычно считается, что предполагаемый «пансексуализм» Фрейда означает: «Что бы мы ни делали и ни говорили, мы в конечном итоге думаем об этом» – ссылка на половой акт является конечным горизонтом смысла[206]206
Если принять понятие о сексуальных отношениях как окончательную ссылку, возникает искушение переписать всю историю современной философии в ее терминах:
Декарт: «Я трахаюсь, следовательно, существую», т. е. я переживаю всю полноту своего бытия лишь в интенсивной сексуальной активности («децентрирующий» ответ Лакана на это утверждение был бы таким: «Я трахаюсь там, где меня нет, и меня нет там, где я трахаюсь», т. е. это не я трахаюсь, а «оно трахается» во мне);
Спиноза: в Абсолюте как Трахе (coitus sive natura) следует различать – в соответствии с различием между natura naturans и natura naturata – активное трахающее проникновение и объект трахания – т. е. тех, кто трахает, и тех, кого трахают;
Юм вводит эмпирическое сомнение: откуда нам знать, что трах как отношение вообще существует? есть лишь объекты, движение которых кажется скоординированным;
ответ Канта на эту проблему: «условия возможности траха одновременно являются условиями возможности объектов траха / трахающихся объектов»;
далее Фихте радикализирует кантианскую революцию: трах – это самоустанавливающася безусловная активность, разделяющая себя на трахающего и трахаемый объект, т. е. само трахание утверждает объект, трахаемое;
Гегель: «крайне важно понимать Трах не только как Субстанцию (овладевающее нами субстанциональное побуждение), но и как Субъект (рефлексивную активность, встроенную в контекст духовного смысла)»;
Маркс: от идеалистической философской мастурбации следует вернуться к реальному траху, т. е., согласно его буквальному утверждению в «Немецкой идеологии», реальная, настоящая жизнь находится в том же отношении с философией, что и реальный секс – с мастурбацией;
Ницше: Воля в своей самой радикальной форме является Волей к Траху, вершина которой – это Вечное возвращение утверждения «я хочу еще», траха, продолжающегося вечно;
Хайдеггер: так же как в сущности технологии нет ничего «технологического», сущность траха не имеет никакого отношения к траху как к простой онтической активности; скорее, «сущность траха – это трах самой Сущности», т. е. дело не только в том, что мы, люди, прое*али понимание Сущности, но и в том, что сама Сущность уже прое*ана (она противоречива, отказывается от себя, заблуждается);
и наконец, догадка о том, что сама Сущность прое*ана, приводит нас к утверждению Лакана: «Нет такой вещи, как сексуальные отношения».
[Закрыть]. Этой банальности следует противопоставить то, что фрейдистская революция заключается в полностью противоположном жесте: это досовременная идеологическая вселенная «сексуализировала» всю Вселенную, представляя себе саму фундаментальную структуру космоса как напряжение между мужским и женским «началами» (инь и ян), напряжение, повторяющее себя на различных, все более высоких уровнях (свет и тьма, небо и земля), так что сама реальность кажется результатом космической «копуляции» этих двух начал. Фрейд же добивается радикальной десексуализации Вселенной: психоанализ делает крайние заключения из современной «расколдованной» Вселенной, Вселенной как бессмысленного случайного многообразия. Понятие Фрейда о фантазии указывает именно в этом направлении: проблема не в том, что мы думаем, когда занимаемся другими, обычными вещами, а в том, о чем мы думаем (фантазируем), когда «делаем это», – понятие Лакана о том, что «сексуальных отношений не существует», в конечном итоге означает, что, когда мы «делаем это», непосредственно участвуя в сексуальном акте, мы нуждаемся в фантазматическом дополнении, нам приходится думать (фантазировать) о чем-то еще. Мы не можем просто «полностью погрузиться в сиюминутное удовольствие от того, что делаем» – если мы сделаем так, приятное напряжение пропадет. Это «что-то еще», поддерживающее сам сексуальный акт, – материал фантазии – обычно некая «извращенная» деталь (от особенности тела любовника или особенности места, в котором мы делаем «это», до воображаемого взгляда, наблюдающего за нами).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































