Текст книги "Киногид извращенца. Кино, философия, идеология"
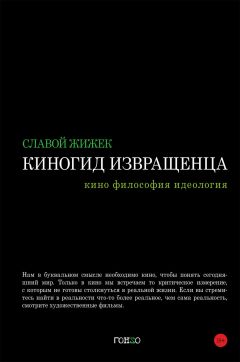
Автор книги: Славой Жижек
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 24 страниц)
Тарковский прекрасно понимает, что действенное и эффективное жертвоприношение должно быть в некотором роде «бессмысленным», жестом «иррациональности», бесполезными издержками или ритуалом (например, переходом через пустой бассейн с зажженной свечой или сжиганием собственного дома), – идея в том, что только такой жест простого спонтанного «делания», жест, не подкрепленный никакими рациональными соображениями, может восстановить непосредственную веру, которая освободит нас и исцелит от духовного недуга современности. Здесь у Тарковского жертва субъекта – это буквально его собственная кастрация (отречение от здравого смысла и доминирования, добровольное возвращение к незрелому «идиотизму», подчинение бессмысленному ритуалу), играющая роль инструмента освобождения большого Другого: похоже, что лишь совершением абсолютно бессмысленного и «иррационального» акта субъект может спасти глубинный, глобальный Смысл всей Вселенной.
Можно также поддаться искушению и сформулировать эту присущую Тарковскому логику бессмысленного жертвоприношения в терминах хайдеггеровской инверсии: предельный Смысл жертвоприношения – это жертвоприношение самого Смысла. Суть в том, что объект, приносимый в жертву (сжигаемый) в конце «Жертвоприношения», это самый главный объект фантазматического пространства Тарковского, деревянная дача, символизирующая безопасность и подлинные деревенские корни Дома – одной этой причины достаточно для того, чтобы «Жертвоприношение» было достойно стать последним фильмом Тарковского[146]146
Хотя сложно представить себе более различные вселенные, чем вселенные Тарковского и Дэвида Линча, любопытно, что между ними можно и даже полезно установить связь на уровне конкретных визуальных и т. п. синтомов: деревянный дом сгорает в финале «Жертвоприношения», так же как и в финале «Шоссе в никуда». Разумеется, эти акты имеют противоположный смысл: для Тарковского дом символизирует подлинную безопасность Дома (Home), тогда как Дом (House) Линча – это исходное место грязных преступлений и jouissance.
[Закрыть]. Означает ли это, что мы тем не менее имеем здесь дело со своего рода «преодолением фантазии» по Тарковскому, отречением от главного элемента, появление которого в гуще чужой местности (на поверхности другой планеты, в Италии) в финале «Соляриса» и «Ностальгии» создавало саму формулу окончательного фантазматического единства? Нет, поскольку это отречение состоит на службе у большого Другого как искупительный акт, предназначенный для восстановления духовного Смысла Жизни.
Над дешевым религиозным обскурантизмом Тарковского поднимает тот факт, что он лишает акт жертвоприношения трогательного и священного «величия», изображая его как неумелый, нелепый поступок (в «Ностальгии» Доменико не сразу удается зажечь огонь, в котором он сгорит, и прохожие не обращают внимания на его объятое пламенем тело; «Жертво-приношение» заканчивается комическим танцем медицинских работников, гоняющихся за героем, чтобы забрать его в лечебницу, – сцена снята как детская игра в догонялки). Было бы слишком просто истолковать этот нелепый и неумелый аспект жертвоприношения как указание на то, что оно должно казаться таковым – нелепым и неумелым – обычным людям, занятым своими обычными делами и неспособным оценить трагическое величие данного акта. Скорее, Тарковский здесь следует давней русской традиции, хрестоматийным примером которой служит «идиот» из одноименного романа Достоевского: показательно, что Тарковский, фильмы которого обычно полностью лишены юмора и шуток, приберегает насмешки и сатиру именно для сцен, изображающих священнейший жест высочайшего жертвоприношения (в этом духе была снята уже знаменитая сцена распятия в фильме «Андрей Рублев»: она перенесена в русскую зимнюю деревню и сыграна плохими актерами с нелепым пафосом и слезами)[147]147
См.: Vaecque A. de. Op. cit. P. 98.
[Закрыть]. Итак, приходится снова спросить: говорит ли это о том, что, выражаясь языком Альтюссера, в кинематографической текстуре произведений Тарковского есть измерение, подрывающее его заявленный напрямую идеологический замысел или, по меньшей мере, позволяющее дистанцироваться от него, обнаруживая его изначальную невозможность и обреченность на провал?
В «Ностальгии» есть сцена, заставляющая вспомнить Паскаля: Эуджения наблюдает в церкви шествие простых крестьянок в честь Мадонны дель Парто – они обращаются к святой, умоляя послать им детей, то есть благословить их брак деторождением. Когда растерянная Эуджения, признающая, что неспособна понять привлекательности материнства, спрашивает у наблюдающего за шествием священника, как человек обретает веру, он отвечает: «Сначала ты должна встать на колени» – явная отсылка к знаменитому высказыванию Паскаля: «Преклони колени, и этот акт сделает тебя слабоумным» (то есть избавит от ложной интеллектуальной гордыни). (Интересно, что Эуджения пытается это сделать, но безуспешно: она не способна исполнить формальный жест коленопреклонения.) Здесь мы видим тупик, в котором оказываются герои Тарковского: может ли современный интеллектуал (хрестоматийным примером которого является Горчаков из «Ностальгии») – человек, отделенный от наивной духовной уверенности пропастью ностальгии, удушающим экзистенциальным отчаянием, – может ли он вернуться к непосредственному погружению в религию, вернуть себе ее несомненность? Иными словами, не приводит ли необходимость в безусловной Вере, в ее искупительной силе к типично современному результату, к децизионистскому акту формальной Веры вне зависимости от ее конкретного наполнения, то есть к своего рода религиозному контрапункту к политическому децизионизму Шмитта, согласно которому факт того, что мы верим, первичен по отношению к тому, во что мы верим? Или еще хуже: не ведет ли в конечном итоге эта логика безусловной веры к парадоксу любви, на котором играл печально известный преподобный Мун? Ни для кого не секрет, что преподобный Мун самостоятельно выбирал брачных партнеров для не состоящих в браке членов своей секты: обосновывая свои решения собственным особым видением законов божественного Космического Порядка, он заявлял, что способен опознать супруга, предопределенного для человека непреложным Порядком Вещей, и просто оповещал по почте членов своей секты, с каким незнакомцем (как правило, из другой страны) им предстоит сочетаться браком, так что словенцы женились на кореянках, американцы – на индианках и т. д. Настоящее чудо, разумеется, в том, что этот обман работает: при наличии безусловного доверия и веры случайное решение внешнего авторитета может создать любовную пару, соединенную самой интимной и страстной связью. Почему? Потому что любовь «слепа», случайна и не имеет никаких видимых обоснований, и то непостижимое je ne sais quoi, которое решает, когда я должен влюбиться, также может быть полностью вынесено во внешний мир, становясь непостижимым решением некоего авторитета.
Так что же фальшивого в жертвоприношении Тарковского? Не следует забывать, что для Лакана окончательная цель психоанализа состояла не в том, чтобы позволить субъекту принять необходимость жертвоприношения («принять символическую кастрацию», отречься от незрелых нарциссических привязанностей и т. п.), а в том, чтобы противостоять чудовищному притяжению жертвоприношения – притяжению, которое, разумеется, является не чем иным, как нашим суперэго. В конечном итоге жертвоприношение – это жест, посредством которого мы стремимся компенсировать вину, возложенную на нас предписаниями суперэго («смутный бог», о котором говорит Лакан, – еще одно название суперэго), которые невозможно исполнить. На этом фоне очевидно, почему именно рассматриваемая в двух последних фильмах Тарковского проблематика жертвоприношения ложна и обманчива: хотя сам режиссер, без сомнения, отверг бы такое определение, компульсивные побуждения к совершению бессмысленного жертвенного акта, которые ощущают герои позднего Тарковского, являются чистейшими побуждениями суперэго. Окончательное доказательство этого заключается в «иррациональном», бессмысленном характере жеста: суперэго – это указание наслаждаться, и, как выразился Лакан в первой лекции своих «Encore», в конечном итоге jouissance не служит ничему[148]148
Во избежание непонимания: смысл нашего признания жертвенного жеста как ложного не в том, чтобы свести его к скрытой «патологической» мотивации. Психоанализ как таковой вовсе не стремится «подорвать» этическое величие акта выявлением его обыденных причин (объяснениями вроде: «жертвенное самоубийство героя было просто результатом его чувства вины, связанного с неразрешенным эдиповым комплексом…»): для Лакана акт как таковой является жестом, который невозможно объяснить, обосновать отсылками к его «историческому (социальному, психологическому) контексту», поскольку он представляет собой вмешательство, которое «из ниоткуда» задним числом меняет сами контуры того, что считается «контекстом». Итак, когда мы сталкиваемся с жестом наподобие того, что совершила Мэри Кей Летурно (36-летняя школьная учительница, посаженная в тюрьму за страстный роман со своим 14-летним учеником, – одна из великих любовных историй последних лет, в которой секс по-прежнему связан с трансгрессией социальных запретов), задача психоанализа не в том, чтобы «объяснить» этот акт как результат действия неких скрытых бессознательных механизмов, за которые субъект в конечном счете не несет никакой ответственности, а, напротив, в том, чтобы сохранить достоинство акта.
[Закрыть].
5
Материалистическая теология Кшиштофа Кеслёвского
Смещенные заповеди
Как именно «Декалог» Кеслёвского связан с десятью заповедями? Большинство толкователей утешают себя предполагаемой неоднозначностью этого отношения: не следует соотносить каждый эпизод с отдельной заповедью – это соотношение более рыхлое, иногда история указывает на несколько заповедей… Такому простому выходу из положения следует противопоставить строгое соответствие между эпизодами и заповедями: каждый эпизод указывает лишь на одну заповедь, но со смещением: «Декалог 1» указывает на вторую заповедь, и т. д., и, наконец, «Декалог 10» возвращает нас к первой заповеди[149]149
Одна из самых убедительных гипотез о соотношении десяти заповедей с эпизодами «Декалога» Кеслёвского гласит, что Кеслёвский пропустил вторую заповедь, запрещающую создание изображений (возможно, это ироничный рефлексивный кивок в сторону того факта, что сам «Декалог» состоит из движущихся изображений), и разделил последнюю заповедь на две части: не желай ни жены ближнего твоего («Декалог 9»), ни его материальной собственности («не желай марок ближнего твоего», «Декалог 10»). Согласно такому прочтению (разработанному Вероник Кампан – см.: Campan V. Dix brèves histoires d’image. Paris: Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1993), «Декалог 1» изображает первую заповедь «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим»: отец наказан за почитание ложного бога науки и технологии. Однако в этом прочтении теряется парадоксальное «бесконечное суждение», возникающее, если толковать как изображение первой заповеди «Декалог 10»: отождествление Бога (высочайшего Существа) с марками, случайным материальным объектом, возвышенным до положения Вещи.
[Закрыть]. Такой décalage (смещение, сдвиг, разрыв) указывает на смещение, с которым Кеслёвский изображает заповеди. Этот приём Кеслёвского очень похож на то, что сделал Гегель в своей «Феноменологии духа»: Кеслёвский взял заповеди и «поставил» их, реализовал в характерной жизненной ситуации, таким образом показав их «истину», их неожиданные последствия, разрушающие исходные условия. У нас почти возникает искушение заявить, что в строгом гегелевском смысле смещение заповеди порождает следующую заповедь.
ОДИН – «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим». «Декалог 10» изображает эту заповедь через ее противоположность – неограниченную, «страстную привязанность» к банальному занятию коллекционирования марок. Здесь мы видим логику сублимации в самом простом ее виде: обычное занятие (коллекционирование марок) возвышается до положения Вещи, ради которой человек жертвует всем – работой, семьей, счастьем и даже собственной почкой. Таким образом, «Декалог 10» основан на предпосылке гегелевского «бесконечного суждения», согласно которой возвышенное совпадает с низким: почитание Бога = коллекционирование марок[150]150
Что может быть гегелевским «бесконечным суждением» в музыке? Возможно, австралийская «королева йодля» Мэри Шнайдер максимально приблизилась к нему в своем альбоме «Классика в стиле йодль» (Yodelling the Classics, Koch Classics, 1999), уникальном упражнении в высоком искусстве безвкусицы, на котором представлены версии увертюры к «Вильгельму Теллю» Россини, «Венгерских танцев» Брамса и даже «Менуэта» Бетховена в стиле йодль – напряжение между формой и содержанием здесь абсолютно, так что слушателю остается лишь колебаться между смехом и крайним отвращением.
[Закрыть]. Не удивительно, что вступительная песня (в исполнении младшего сына) – единственное место во всем «Декалоге», где упоминается список заповедей – что важно, в перевернутом виде призыва к нарушению заповедей: «Убивай, насилуй, воруй, избей свою мать и своего отца…» За этим низвержением запрета до гнусного призыва к нарушению Закона следует совершенно формальная процедура «инсценировки закона»[151]151
Coates P. The curse of the law: “The Decalogue” // Lucid Dreams: The Films of Krzysztof Kieślowski / ed. P. Coates. Trowbridge: Flick Books, 1999. P. 105.
[Закрыть], применяемая Кеслёвским: поскольку запретительный Закон сам по себе является сверхчувственной Идеей, его драматическая постановка автоматически отменяет (чисто интеллектуальное) отрицание, смещая центр внимания на эффектное изображение акта – например, акта убийства – вне зависимости от его этической подоплеки (+ или —, рекомендовано или запрещено), – подобно бессознательному по Фрейду, драматическая постановка не знает отрицания. В своих знаменитых размышлениях о негативности и «Декалоге» Кеннет Бёрк толкует заповеди через противопоставление уровня понятий и уровня образов: «хотя запрет “Не убивай” по сути своей является идеей, в роли образа он непременно вызывает образ: “Убивай!”»[152]152
Burke K. Language As Symbolic Action. Berkeley: University of California Press, 1966. P. 431.
[Закрыть]. Это чистейшее противопоставление в духе Лакана символического Закона преступным призывам суперэго: любые запреты бессильны и превращаются в антизапреты, так что остается лишь навязчивое эхо: «Убивай! Убивай!»…
Этот переворот запрета и его превращение в приказ – строго тавтологический жест: уже апостол Павел утверждает, что сам Закон вызывает желание его нарушить[153]153
Alain Masson // Krzysztof Kieślowski. Textes réunis et présentés par Vincent Amiel. Paris: Positif, 1997. P. 92.
[Закрыть]. Следовательно, появляющийся здесь Бог – это «жестокий» Бог Разделения, Бог из Евангелия от Матфея (10:37, 10:34–35 и 23:9) – Бог, пришедший сделать так, чтобы «восстали дети на родителей», Бог, отменяющий любой позитивный порядок, Бог абсолютной негативности. Поэтому, когда Иисус говорит: «Отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах», происходит отмена метафорической цепи отцовской власти (Отец на Небесах, находящиеся под ним правители, отцы наших сообществ и, наконец, отец семьи) – функция Божественного Отца совершенно и окончательно отрицательна, то есть он отнимает власть у всех земных отцов[154]154
Однако, словно в противоположность этой отмене, «Декалог 10» заканчивается воплощением отождествления с отцом: оба сына идут к тому, чтобы стать коллекционерами марок, приняв отцовский мандат, т. е. следуя по стопам покойного отца.
[Закрыть]. «Истина» первой заповеди следует далее, в запрете на создание изображений, поскольку лишь Бог евреев не имеет изображения – все остальные боги присутствуют в виде образов или идолов.
ДВА – «Не делай себе кумира… ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов». В «Декалоге 1» «кумир» воплощается в компьютере как фальшивом машинном боге, генерирующем иконы и, таким образом, представляющем собой величайшее нарушение запрета на создание изображений. В результате Бог наказывает отца, «наказывает дитя за вину отца» – сын тонет во время катания на коньках по тонкому льду[155]155
В связи с этим возникает искушение упомянуть «Шоа» Клода Ланцмана как кинематографический аналог суперэго. В каком-то смысле этот фильм был создан для того, чтобы не быть увиденным: его непомерная продолжительность гарантирует, что большинство зрителей (включая тех, кто превозносит этот фильм) не видели и никогда не увидят его полностью и вечно будут чувствовать свою вину за это. Эта вина за недосмотренный фильм явно служит аналогом нашей вины за то, что мы не можем видеть всего ужаса холокоста. Кроме того, эту выдающуюся продолжительность следует рассматривать в совокупности с тем фактом, что «Шоа» явным образом представляет себя как окончательный, непревзойденный и непревосходимый фильм о холокосте, заставляя нас почувствовать свою вину и скрыто обвиняя нас как минимум в неуважении к жертвам, если мы получаем удовольствие от других фильмов о холокосте – от таких, которые показывают его в рамках стандартного художественного повествования (вспомните ставшее притчей во языцех агрессивное, достойное ветхозаветного Бога ревнителя презрение Ланцмана к спилберговскому «Списку Шиндлера»). Разве «Шоа», этот парадокс документалистики, добровольно наложивший на себя ограничение полностью отказаться от использования документальных кадров, не воплощает всех парадоксов иконоборческого запрета, являющегося важной частью иудаизма? «Не делай себе кумира… ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель» – да не снимешь и/или не посмотришь ты художественного произведения и не используешь документальных кадров холокоста, ибо я, Ланцман, ревнивый Автор… И разве не подрывает эту претензию тот широко известный, но неопровержимый факт, что такие голливудские продукты, как телевизионный мини-сериал 1970-х «Холокост» (с Мерил Стрип), являясь коммерческим мелодраматическим произведением (и, возможно, именно по этой причине), безусловно, сделали больше для информирования о холокосте широких слоев населения, особенно в самой Германии, чем «Шоа»? (В более подробном анализе «Шоа» следовало бы упомянуть тот важный факт, что, несмотря на выдающуюся продолжительность фильма, большинство его толкователей сосредотачивают свое внимание лишь на паре сцен, таких как интервью со старыми поляками с места, где находился лагерь Аушвиц, до сих пор бравирующих своими антисемитскими взглядами. Исходное допущение этого интервью, делающее его глубоко двусмысленным, заключается в том, что причины, повлекшие за собой холокост, сохраняются и сегодня – но разве это же самое допущение не скрывает в себе опасности приравнивания широко распространенной, популярной антисемитской обиды к несравненно более ужасающему, систематическому организованному нацистским государством «окончательному решению»?) Получается так, словно неоспоримый характер холокоста как предельного преступления смещен в самом фильме Ланцмана: преимущественно в сегодняшних академических кругах бытует неписаное правило, запрещающее вести нормальные дискуссии о «Шоа» и критиковать его – этим фильмом можно только восхищаться.
[Закрыть]. «Истина» этой заповеди – это диалектическое разрушение самой противоположности между миром и изображением: запрет на изображения приводит к запрету на произнесение даже имени Бога, и это подводит нас к третьей заповеди.
ТРИ – «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно». В «Декалоге 2» старый озлобленный доктор, вынужденный ответить на вопрос женщины о том, выживет ли ее муж, лжет и клянется Богом, чтобы предотвратить аборт – смертный грех. (Ключевые реплики оставлены за рамками фильма – их можно найти только в сценарии: «У него нет шансов». – «Поклянитесь именем Бога». – [Доктор молчит.] – «Поклянитесь в этом именем Бога». – «Бог мне свидетель!»[156]156
Kieślowski K., Piesiewicz K. Decalogue. The Ten Commandments. London: Faber and Faber, 1991. P. 45.
[Закрыть]) Борьба за жизнь нерожденного ребенка создает связь между «Декалогом 1» и «Декалогом 2»: в первой части ребенок внезапно погибает, в то время как во второй – внезапно остается жив (то есть рождается); в обоих случаях причина – чудесный разрыв порядка причинно-следственных связей: неожиданно тает лед, неожиданно выживает больной раком муж. (Еще одна связь: из-за нарушения работы системы отопления в многоквартирном доме в «Декалоге 2» у жильцов начинаются проблемы с горячей водой: в разговоре с Доротой доктор спрашивает, откуда она берет горячую воду, – избыток горячей воды в «Декалоге 1» симметрично сопоставляется с ее недостатком в «Декалоге 2».) «Истина» этой заповеди заключается в том, что, поскольку человек не может даже произнести полное божественное имя, единственное, что ему остается, – это всецело воздерживаться от любой деятельности в день шабата, таким образом обозначая Бога самим отсутствием какой бы то ни было деятельности.
ЧЕТЫРЕ – «Помни день субботний, чтобы святить его». В «Декалоге 3» герой нарушает запрет (покидает семью в священный день Рождества, когда человеку следует временно приостановить свой бег и забыть о заботах обыденной жизни), чтобы спасти жизнь бывшей любовницы. Своей тональностью и настроением «Декалог 3» предвещает «Три цвета времени: Синий»: в нем не только преобладает синий цвет, но и сама его вселенная кажется холодной и равнодушной. Однако здесь, в отличие от «Синего», холод и отстраненность «объективируются»: они не указывают на пропасть, разделяющую героев, а относятся к самому кинематографическому методу изображения героев. Мы не можем полностью отождествить себя с ними (как с Жюли из «Синего», что позволяет нам переживать холодную, отстраненную тональность как выражение ее собственного отчуждения): «Декалог 3» снабжает нас подсказками, но не дает нам «отождествить себя с людьми, для которых они имеют значение, и узнать, что именно они могут для них значить»[157]157
Coates P. Op. cit. P. 100.
[Закрыть]. Даже когда в конце фильма мы узнаём о печальном положении, в котором находится Эва, мы почему-то не можем испытать настоящего сочувствия к ней. Таким образом, «Декалог 4» представляет собой уникальный пример блокировки полного эмоционального или этического вовлечения зрителя: нам приходится принять позицию следователя, который, опираясь на редкие подсказки, должен догадаться, что на самом деле происходит с Эвой. «Истина» этой заповеди в том, что, поскольку Бог присутствует лишь в своем отсутствии, единственный способ надлежащим образом прославлять его заключается не в том, чтобы обращаться к нему напрямую, а в том, чтобы правильно обращаться со своими ближними, особенно со своими родителями.
ПЯТЬ – «Почитай отца твоего и мать твою». В «Декалоге 4» представлен ироничный поворот этой заповеди: «почитание отца» дочерью принимает форму жгучего кровосмесительного желания. Вновь возникает вопрос: возможно, некоторых вещей лучше не знать (и сжечь письмо, в котором дается ответ на вопрос о том, действительно ли он ее отец)? «Истина» этой заповеди в том, что, поскольку семья служит окончательной гарантией общественного порядка, отсутствие почтения к собственным отцу и матери ведет к разрушению всех ограничений: когда исчезает родительская власть, дозволено все, вплоть до предельного преступления, убийства (как показывает контрапункт Дэвида Линча к «Декалогу 4» – «Твин Пикс: Огонь, иди со мной», – инцест, непочитание отца приводят к убийственному насилию).
ШЕСТЬ – «Не убивай». «Декалог 5» также показывает ироничный поворот заповеди: является ли повторение убийства государственным аппаратом убийством, а значит, нарушением заповеди? Кеслёвский не только противопоставляет шок исключительного травматического столкновения усыпляющему повседневному ритму повторов, – настоящая сила его фильмов заключается в том, как он подвергает повторению саму исключительную травму, со всем ее эмоциональным насилием. Это не приводит к «ренормализации» травмы: хотя сквозь повторение травматическое событие воспринимается с холодной, бесстрастной дистанции, как часть бессмысленной глобальной машины, автоматически движущейся по своему пути, такое смещение делает результат еще более невыносимым – по-настоящему невыносимо в «Декалоге 5» второе убийство (наказание)[158]158
См.: Amiel V. Kieślowski. Paris: Rivages, 1995. P. 77. Возможно, здесь существует параллель с «Психо» Хичкока, где настоящей травмой также становится второе убийство, снятое с холодной дистанции, «с точки зрения Бога».
[Закрыть]. «Истина» этой заповеди заключена в самом противопоставлении убийства и любви: действительно ли любовь является противоядием от убийства, или же в собственнической / импотентной любви также скрывается убийственное измерение (по крайней мере, отчасти)? «Любовь женщины возможна лишь тогда, когда она не связана с ее реальными качествами и поэтому способна заменить действительную физическую реальность иной, воображаемой реальностью. Попытка обрести собственный идеал в женщине, вместо самой женщины, непременно уничтожает эмпирическую личность женщины. Поэтому подобные попытки являются жестокими по отношению к женщине: эгоизм любви пренебрегает женщиной, полностью игнорируя ее настоящую внутреннюю жизнь… Любовь – это убийство»[159]159
Weininger O. Sex and Character: Authorized translation from the sixth German edition. London: William Heinemann; New York: G. P. Putnam’s Sons. S. a. P. 249.
[Закрыть]. Или же, как пишет Лакан в последней главе «Четырех основных понятий психоанализа»: «Я люблю тебя, но поскольку – необъяснимым образом – я люблю в тебе нечто большее, чем ты сама – objet petit a, я калечу тебя»[160]160
Lacan J. The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis. Harmonds-worth: Penguin, 1979. P. 264.
[Закрыть]. Переход от «Декалога 5» к «Декалогу 6» можно сформулировать и противоположным образом: несмотря на ограниченность и бесчувственность Яцека, у него есть искупительная черта – его поиск любви; он убивает таксиста из-за отсутствия любви, это его (извращенный) способ завоевать любовь. Логичным продолжением является следующий эпизод, напрямую обращающийся к любви и раскрывающий ее убийственную силу.
СЕМЬ – «Не прелюбодействуй». Следует быть внимательными к сверхъестественному сходству между двумя молодыми людьми: Яцеком из «Декалога 5» (и его длинной версии – «Короткого фильма об убийстве») и Томека из «Декалога 6» (и его длинной версии – «Короткого фильма о любви»), который также можно было бы назвать «Коротким фильмом о самоубийстве»: любовь Томека к Магде глубоко фальшива, это нарциссическая идеализация, неизбежной оборотной стороной которой оказывается почти очевидное смертельное измерение. Таким образом, «Декалог 6» следует толковать в соотношении с фильмами-слэшерами, в которых подглядывающий мужчина преследует женщину, причиняющую ему боль, домогается ее и в конце концов нападает на нее с ножом: «Декалог 6» – это своего рода интровертный слэшер, в котором мужчина, вместо того чтобы напасть на женщину, направляет свою убийственную ярость на самого себя. Краткая формула финального урока «Декалога 6» такова: (полной, взаимной) любви не существует – есть лишь огромная нужда в любви, и всякое настоящее любовное взаимодействие терпит крах и опрокидывает нас обратно в наше одиночество[161]161
Pernod P. // Krzysztof Kieślowski. Textes réunis et présentés par Vincent Amiel. Paris: Positif, 1997. P. 75.
[Закрыть]. «Истина» этой заповеди уже содержится в психоаналитическом клише, согласно которому человек, не получающий любви, совершает кражу (чтобы получить другую вещь, которую он может получить) – вспомним, что в первой сцене «Короткого фильма о любви» Томек вламывается в кладовую и крадет телескоп, чтобы наблюдать за Магдой.
ВОСЕМЬ – «Не кради». Особый взгляд на эту заповедь, представленный в «Декалоге 7», открывается в проходном диалоге между Майкой и ее бывшим партнером: «Ты никого не обокрала, не убила». – «А как можно украсть свою собственность?» Биологическая мать (по имени Майка, что на словенском означает «мать») крадет маленькую Анну у женщины, которая выполняет социальную роль ее матери (причем эта символическая мать является биологической матерью Майки). Не может не броситься в глаза симметрия относительно понятия Лакана о любви: в любви ты даешь то, чего у тебя нет, тогда как в «Декалоге 7» ты крадешь то, что уже твое, – возможно, это тоже любовь? «Истина» этой заповеди в том, что, поскольку кража может произойти лишь внутри порядка собственности, то есть символических обязательств, вор в своем общественном взаимодействии вынужден «произносить ложное свидетельство на ближнего» – проблема воровства в первую очередь не в присвоении чужой материальной собственности, а в явном нарушении вором символической достоверности.
ДЕВЯТЬ – «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». В «Декалоге 8» вся жизнь пожилой женщины, профессора этики, запятнана тем, что в молодости, во время Второй мировой войны, она «произнесла ложное свидетельство на ближнего», как и она сама, борца Сопротивления, которого она несправедливо заподозрила в сотрудничестве с нацистами. В этом во всех смыслах слабейшем эпизоде «Декалога» есть интересный поворот: во время университетского семинара студентка профессора описывает в точности ту же моральную дилемму, которая изображена в «Декалоге 2»; профессор же комментирует ее так: «Здесь самое главное, что ребенок жив». Ирония, разумеется, в том, что в сложной ситуации во время Второй мировой войны сама она поступила иначе, словно есть вещи более важные, чем выживший ребенок. Можно рассуждать о том, что она стала профессором этики, посвятив свою жизнь философии, чтобы очиститься от своей ошибки, то есть объяснить, почему и как в критический момент она сделала ошибочный выбор. (И разве нельзя сказать, что то же самое относится к Полю де Ману: его активные теоретические изыскания после Второй мировой войны были попыткой объяснить – и стереть – ошибку его пронацистской деятельности в военное время?) «Истина» этой заповеди связана со строго диалектическим напряжением между правдой и ложью: можно говорить ложь под видом правды (как это делают люди, страдающие навязчивыми состояниями, скрывающие свои желания в утверждениях, фактически являющихся истинными, или не признающие их), можно говорить правду под видом лжи (истерический способ поведения или простая оговорка, выдающая подлинное желание субъекта). Таким образом, «ложное свидетельство на ближнего» – это в первую очередь вопрос не фактической истинности, а желания, на которое опираются мои формулировки, когда я говорю правду (или ложь): например, когда я доношу своему соседу на его жену, обвиняя ее в измене, и таким образом (возможно) разрушаю их жизнь, такое обвинение, даже если оно фактически «истинно», является ложным, если – в той мере, в которой оно опирается на мое желание этой женщины, на «желание жены ближнего», – я сделал это из ревности, поскольку она не выбрала в качестве любовника меня.
ДЕСЯТЬ – «Не желай жены ближнего твоего». В «Декалоге 9», самом хичкоковском из всех фильмов Кеслёвского, угол, под которым изображается заповедь, схож с углом «Декалога 7»: муж-импотент желал свою собственную жену (аналогичным образом Майка крадет то, что уже ее). Можно было бы предположить, что заповедь относится к молодому студенту физики, любовнику жены, «желавшему жены ближнего», однако Кеслёвский по-настоящему гениальным штрихом перенаправляет ее на самого обманутого мужа. Является ли исход фильма – восстановление отношений через двойную боль – единственно возможным? Можно ли было достичь того же результата через пустой жест – жест, сделанный для того, чтобы быть отвергнутым? Что, если бы муж-импотент предложил своей жене свободу спать с любыми другими мужчинами, не сообщая об этом ему, ожидая, что она отвергнет это предложение? Или же – противоположный пустой жест – что, если бы она предложила ему полностью отказаться от секса, ожидая, что он позволит ей спать с другими? «Истина» этой заповеди в том, что, пока человек находится внутри границ межличностных отношений, выхода из тупика нет: даже желать собственную жену – это грех. Единственный выход – то, что Брехт в своей «Матери» назвал «хвалой третьей Вещи» (Lob der dritten Sache), – бегство из тупика посредством сосредоточения на Третьей силе, которая, в сущности, является Самим Богом; таким образом, круг замыкается, и мы возвращаемся к первой заповеди[162]162
Разве не в точности такое же решение изображено в «Касабланке»? Рик преодолевает желание, которое испытывает к Ильзе, жене своего ближнего (Виктора Ласло), решив принять участие в более масштабном с исторической точки зрения Деле борьбы с фашизмом. Здесь, разумеется, работает сложная логика вынужденного выбора: лишь убедительно продемонстрировав любимой женщине отсутствие рабской зависимости от нее, покинув ее ради высшего Дела, можно сохранить ее любовь. Напрямую выбирая женщину, мужчина теряет ее (уважение и любовь) – лишь выбрав Долг, он сохранит то, что осталось от ее любви.
[Закрыть].
1. Сеть
«Декалог 1» и «Декалог 10» выделяются среди остальных эпизодов: первый – это история нулевого уровня о травмирующем вмешательстве бессмысленной случайной Реальности, в которой отсутствует интерсубъективное напряжение других серий; последний же – сатирическая пьеса, вводящая комический мотив в мрачный по большому счету сериал. Поскольку подробный разбор всех десяти серий не входит в задачи этой работы[163]163
Более подробный разбор «Декалога 6» см.: Žižek S. There Is No Sexual Relationship // Gaze and Voice as Love Objects (SIC 1) / ed. R. Salecl, S. Žižek. Durham: Duke University Press, 1996.
[Закрыть], мы ограничимся рассмотрением некоторых мотивов, обеспечивающих связь между эпизодами, начиная с мотива самой связи, невидимой сети, соединяющей людей. Во вступительной сцене «Красного», последнего фильма Кеслёвского, после того, как рука набирает телефонный номер, камера следит за путешествием звонка к месту назначения – по проводу до гнезда розетки, по кабелям, идущим под землю и уходящим под воду, и оттуда до мигающих красных огоньков местной телефонной станции, говорящих нам, что линия занята. Это четко обозначает тему фильма: исследование скрытых сил, влияющих на коммуникацию между людьми.
Однако, несмотря на виртуозное исполнение, попытка этой вступительной сцены сделать видимым непредставимый поток сигналов доходит почти до нелепости: она не просто находится в одном шаге от наивной антропоморфизации цифровой схемы в стиле диснеевского «Трона», где электронные сигналы изображаются в виде маленьких человекоподобных существ, бегущих по дорожкам микрочипа, основная проблема здесь в отношении между этой «внешней» электронной сетью, поддерживающей коммуникацию, и «глубинным» понятием нью-эйджа о невидимой руке некоей нематериальной сети, соединяющей людей загадочным и непостижимым образом, дергая за ниточки их судеб (например, в самом «Красном» Судьба таинственным образом выбирает героев трилогии «Три цвета» в качестве единственных выживших в катастрофе на пароме, а две Вероники способны на экстрасенсорное общение друг с другом)[164]164
Вероятно, «Магнолия» Пола Томаса Андерсона – самый близкий голливудский аналог фильмов Кеслёвского: в ней есть все – от идеи «сети», множества параллельных линий повествования, связанных случайными встречами, создающими видимость сверхъестественных совпадений и оставляющими у зрителя противоречивые ощущения, с одной стороны, чистой бессмысленной случайности – и понимания существования некой невидимой Судьбы, управляющей нашими жизнями, с другой, – до идеи Судного дня, окончательной катастрофы, в ходе которой всем придется заплатить по счетам («Магнолия» прибегает к более странной версии катастрофы, чем катастрофы Кеслёвского, такие как затопление парома в финале «Красного» или запланированный взрыв, уничтожающий целое здание, – во время проливного дождя с неба начинают сыпаться лягушки). Есть и более тонкое сходство между «Декалогом» и «Магнолией»: в обоих случаях кажется, словно мы находимся в замкнутой вселенной, где взаимодействует ограниченное число людей – нам не удается познакомиться с их более широким социальным окружением, словно мы заперты в закрытом общественном пространстве, где поставлен непонятный социальный эксперимент для внешнего наблюдателя, которым могут быть как обычные зрители (как видно из недавнего примера «Большого брата»), так и, в предельном варианте, сам Бог.
[Закрыть].
Не удивительно, что Кеслёвского часто воспринимают (и отвергают) как проповедника обскурантизма нью-эйджа: в силу самой непредставимости того, что происходит по ту сторону экрана монитора, киберпространство с самого начала было колонизировано гностическим воображением и воспринималось как пространство, где обитают и проявляются таинственные духовные силы. Перспектива возникновения цифровой Глобальной сети не только породила обновленную гностическую духовность нью-эйджа (в частности, ту духовность, которая ассоциируется с поздними фильмами Кеслёвского), но сама эта духовность активно поддерживала развитие цифровых технологий – понятие «техгнозиса» полностью оправдано как обозначение того, что Луи Альтюссер назвал бы «спонтанной идеологией киберученых». Как мы уже видели, сама присутствующая у Кеслёвского тема альтернативных реальностей намекает на цифровые технологии.
Таким образом, крайне важно не толковать «Декалог 1» лишь как утверждение о ненадежной и обманчивой природе «ложного Бога» разума и науки: его урок не в том, что, когда наше доверие к ложному идолу Науки (символом которого является персональный компьютер отца) рушится, перед нами открывается «более глубокое» религиозное измерение; напротив, когда наука нас подводит, религиозные основы также подрываются – именно это испытывает на себе доведенный до отчаяния отец в конце «Декалога 1». Разве не эта же структура отражается в изменениях работы Кеслёвского с изображением? Как мы уже видели, первым шагом Кеслёвского была борьба с ложным изображением (отсутствие адекватного образа социальной реальности) в польском кинематографе посредством документальных фильмов; затем он заметил, что, когда ты отпускаешь ложные изображения и напрямую подходишь к реальности, ты теряешь саму реальность, и поэтому ушел из документального кино и обратился к художественному. Более того, возможно, сама его своевременная/безвременная кончина связана с этой же структурой? Когда он отрекся от создания фильмов, он потерял и их противоположность – саму спокойную «реальную жизнь». Разве не подтвердил он этим, что вне создания фильмов для него не существовало никакой «простой жизни»?
Распутать нити смысла фильмов Кеслёвского часто помогает сравнение самого фильма с его сценарием[165]165
См.: Kieślowski K., Piesiewicz K. Decalogue.
[Закрыть]. В сценарии «Декалога 1» явным образом указана причина, по которой в компьютерных расчетах толщины льда произошла ошибка (находящаяся неподалеку электростанция ночью слила в озеро горячую воду), в то время как фильм не дает этому никакого объяснения, оставляя обширное пространство для метафизических догадок, например о таинственном «ангеле» (похожий на Иисуса бородатый бездомный молодой человек, появляющийся в качестве молчаливого наблюдателя в ключевые моменты большинства историй «Декалога»), который греется у костра на берегу озера, – быть может, лед растаял из-за его костра? Таким образом, в этом фильме горячая вода, ставшая причиной катастрофы, это, скорее, янсенистское чудо, воспринимаемое как таковое только теми, у кого есть вера. Среди других появлений этого персонажа стоит отметить «Декалог 3», где он предстает в виде странным образом светящегося водителя трамвая, чья улыбка в последний момент останавливает Януша и Эву от самоубийственного столкновения их автомобиля с трамваем; «Декалог 4», где он проходит мимо Анки в критические моменты принятия решения, когда она собирается сжечь письмо матери и когда, в финале, она говорит правду отцу; и «Декалог 5», где он появляется непосредственно перед тем, как Яцек жестоко убивает водителя такси, – в качестве последнего предупреждения, последнего шанса на спасение. Возможно, этот ангельский персонаж не просто похожая на Христа фигура, а добрый Бог гностицизма? (Поскольку наша материальная вселенная была создана злым Демоном и управляется им, этот Бог уменьшается до роли бессильного наблюдателя: неспособный вмешаться в наши сложные ситуации и предотвратить катастрофу, он может лишь сочувствовать нашим страданиям.) Разве тот факт, что этот персонаж появляется в самой первой сцене «Декалога 1», не делает его идеальным бессильным/сострадательным зрителем всего сериала, который, подобно нам, удобно устроившимся к своих креслах, не способен эффективно вмешаться и предотвратить трагический исход, а может лишь имитировать хрестоматийного «примитивного» зрителя, который, видя героя, не подозревающего о приближающейся опасности, кричит экрану: «Повернись! Смотри! Тебя сейчас ударят!»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































