Текст книги "Киногид извращенца. Кино, философия, идеология"
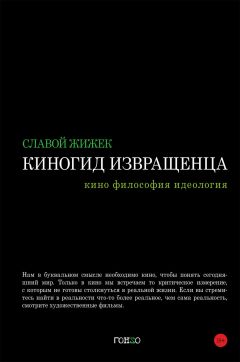
Автор книги: Славой Жижек
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
Летом 2000 г. в больших городах Германии были развешаны волнующие рекламные плакаты: на них изображалась девочка позднего подросткового возраста, которая сидела, держа в правой руке пульт управления телевизором, и смотрела на своих зрителей покорным и одновременно провоцирующим взглядом; юбка не прикрывала полностью ее слегка раздвинутые бедра, так что можно было ясно видеть темный участок между ними. Подпись к этой огромной фотографии гласила: «Kauf mich!» («Купи меня!»). Так что же рекламировал этот плакат? При ближайшем рассмотрении становилось понятно, что он не имел никакого отношения к сексуальности: он пытался помочь молодым людям, играющим на бирже и покупающим акции. Двусмысленность, благодаря которой он работал, заключалась в том, что первое впечатление, в соответствии с которым мы, зрители, слышим призыв купить саму молодую девушку (по всей видимости, в сексуальных целях), вытесняется «истинным» посланием: это она покупает, а не ее покупают. Разумеется, эффективность плаката основана на первоначальном сексуальном «недопонимании», которое, несмотря на последующее преодоление, продолжает отдаваться эхом, даже когда становится видно «истинное» послание. Это и есть сексуальность в психоанализе: это не окончательная точка привязки, но обходной путь изначального недопонимания, которое продолжает отдаваться эхом даже тогда, когда мы добираемся до «истинного» асексуального послания.
Одно из анти-антифеминистских предубеждений связано с приписываемым Лакану утверждением о том, что, поскольку желание и Закон – две стороны одного и того же явления, символический Закон, вместо того чтобы остужать желание, формирует его, так что только мужчина, полностью интегрированный в символический Закон, способен по-настоящему желать, в то время как женщина обречена на истерическое «желание желания». Такое толкование не отражает смысла, заложенного Лаканом: самая радикальная форма желания есть рефлексивное «желание желания». Однако возникает искушение дополнить этот тезис квазисимметричным противоположным тезисом о фантазии: лишь женщина способна по-настоящему фантазировать, в то время как мужчина обречен на совершенно пустую «фантазию о фантазии». Вспомним «С широко закрытыми глазами» Стэнли Кубрика: лишь фантазия Николь Кидман действительно является фантазией, фантазия же Тома Круза – рефлексивная подделка, отчаянная попытка искусственным образом воссоздать фантазию/достичь фантазии, фантазирование, спровоцированное травматическим столкновением с чужой фантазией, мучительные потуги разгадать загадку фантазии другого человека: что за воображаемая сцена/встреча оказала на нее такое воздействие? В свою ночь приключений Круз занят своего рода разглядыванием витрин фантазий: каждая ситуация, в которой он оказывается, может быть истолкована как исполнившаяся фантазия – сначала фантазия о том, чтобы быть объектом страстного любовного интереса дочери своего пациента; затем фантазия о встрече с такой проституткой, которой даже не нужны от него деньги; позже встреча со странным сербом (?) – владельцем магазина по прокату масок, одновременно являющимся сутенером для своей юной дочери; наконец, большая оргия на загородной вилле… Это объясняет на удивление смягченный, застывший, даже «импотентный» характер сцены оргии, в которой его приключение достигает своей кульминации, – то, что многие критики отвергают как нелепо-стерильное и устаревшее изображение оргии, идет фильму на пользу, указывая на паралич «способности к фантазии» героя. Это также объясняет эффектность кадров со спящей Николь Кидман, рядом с которой, на подушке ее мужа, лежит маска: в этой вариации на тему «смерть и девушка» она действительно «крадет его сны», совокупляясь с его маской, изображающей его фантазматического призрачного двойника. И наконец, это также полностью оправдывает явно вульгарную концовку фильма: после того как Круз признаётся Кидман в своих ночных приключениях, то есть когда они оба лицом к лицу сталкиваются с чрезмерностью своего фантазирования, Кидман, убедившись, что теперь они полностью проснулись, вернулись в реальность дня и что если не навсегда, то очень надолго останутся в ней, сдерживая свою фантазию в узде, говорит ему, что они должны что-то сделать как можно скорее. «Что?» – спрашивает он, и она отвечает: «Потрахаться». Конец фильма, финальные титры. Природа passage à l’acte как ложного выхода, как способа избежать столкновения с ужасом фантазматического потустороннего мира никогда еще не обозначалась в фильме так грубо: не способный обеспечить им реальное телесное удовлетворение, которое сделало бы излишними пустые фантазии, переход к действию, скорее, представлен как паллиатив, как отчаянная превентивная мера, направленная на то, чтобы держать в узде призрачный потусторонний мир фантазий. Она словно говорит: давай потрахаемся как можно скорее, чтобы задушить расцветшие фантазии, прежде чем они вновь овладеют нами… Остроумное замечание Лакана о пробуждении к реальности как побеге от реальности, увиденной во сне, оказывается наиболее уместным в отношении сексуального акта: мы не мечтаем о трахе, если не способны трахаться, – скорее, мы трахаемся, чтобы избежать избыточного мечтания, которое в противном случае овладело бы нами.
Итак, возвращаясь к «Синему»: то, что предстает перед нами в финальной длинной сцене, является чистейшей фантазией, то есть восстановленными рамками фантазии, которые позволяют Жюли поддержать невозможный/реальный секс, – эта панорама в некотором роде замыкает круг, мы возвращаемся к началу (за панорамой вновь следует крупный план глаза Жюли) с тем ключевым отличием, что теперь глаз является не указанием на «мировую ночь», на субъект, напрямую сталкивающийся с дофантазматической воображаемой реальностью частичных объектов, а центральной точкой восстановленной фантазии, через которую субъект вновь получает доступ к реальности. И последнее, но не менее важное: это повторение крупного плана глаза указывает на то, что отношение между «абстрактной» свободой абсолютного ухода-в-себя, «мировой ночи» и «конкретной» свободой Любви, веры в других, приятия других, мистического единства с ними не является отношением простого выбора: последний урок фильма не только в том, что Жюли, повергнутая своей травмой в пустоту «мировой ночи», должна проделать болезненный путь желаемого повторного вхождения в социальную вселенную, но и в том, что для достижения этого мистического единства агапэ мы должны сначала пройти через нулевую точку «мировой ночи». Именно несчастный случай в начале фильма, повергающий Жюли в пустоту чистого взгляда, расчищает пространство для возникновения мистического единства: человек должен сначала потерять все, чтобы потом обрести это в высочайшей мистической форме агапэ – таким образом отчетливо утверждается связь между сублимацией и влечением к смерти. Возникает искушение описать траекторию «Синего» как противоположность психоаналитического лечения: не как продвижение сквозь фантазию, но как постепенное реконструирование фантазии, позволяющее нам получить доступ к реальности.
После несчастного случая и связанной с ним потери Жюли лишается защитного экрана фантазии, а это означает, что она напрямую сталкивается с сырой Реальностью – или, точнее, с двумя Реальностями. Ступор Жюли объясняется тем фактом, что две эти Реальности разделены, что она не в состоянии установить связь между ними: между «внутренней» Реальностью своей «психической реальности» (призрачной Реальностью травматической потери, преследующей ее в виде музыкальных фрагментов-галлюцинаций, внезапное вторжение которых вызывает у нее мгновенный афанизис, разрушение ее субъективной идентичности) и «внешней» Реальностью Жизни с ее тошнотворным циклом порождения и разрушения. (Всем нам известна такая техника расслабления: чтобы забыть о внутреннем хаосе, сосредоточьтесь на внешнем, на голосах и звуках, опустошите себя. Именно это делает Жюли, но Снаружи она вновь получает сообщения о своей травме.) В конце фильма Жюли восстанавливает рамки фантазии, позволяющие ей «покорить» сырую Реальность, – защитный экран фантазии тонко изображен в виде оконной рамы, через которую мы видим, как она плачет в последней сцене. Таким образом, «Синий» – это не фильм о медленном процессе восстановления способности смотреть в лицо реальности, погружаться в социальную жизнь, а фильм о создании защитного экрана между субъектом и сырой реальностью.
Слабое место «Синего», говорящее, что с фильмом что-то не так, это саундтрек: погибший муж получил заказ написать «Концерт для Европы», музыку для объединения континента, и именно это произведение Жюли завершает в конце фильма. Этот гимн, полностью лишенный иронической дистанции, лежащей в основе финального синхронического видения любви, сочинен в нью-эйджевом стиле Гурецкого и включает забавную отсылку к несуществующему голландскому композитору XVII в. Буденмайеру. Что, если этот очевидный качественный провал указывает на структурный недостаток, лежащий в самом основании художественной вселенной Кеслёвского? Нелепый и плоский фон объединения Европы нельзя проигнорировать как поверхностный компромисс, не имеющий значения для глубинного процесса травмы и постепенного выздоровления героини: постполитическое понятие объединенной Европы определяет социальные координаты, лишь внутри которых может иметь место «личная» драма героини, которые создают и поддерживают пространство этого «глубинного» переживания. Таким образом, появляется искушение утверждать, что идеальный зритель «Синего» – это брюссельская номенклатура Евросоюза, что фильм идеально удовлетворяет нужды брюссельских бюрократов, возвращающихся вечером домой после трудных дневных переговоров о тарифных нормативах[207]207
Подобным образом неожиданным экономико-политическим фоном «Тристана и Изольды» Вагнера оказывается своего рода социалистическое крестьянское самоуправление. В начале третьего акта, когда Курвенал обрисовывает Тристану социально-политическую ситуацию, сложившуюся в его землях, пока он странствовал, мы получаем странный урок в политической экономии самоуправления: крепостные крестьяне Тристана так хорошо вели дела в его отсутствие, что Тристан просто уступил им право на свою землю, сделав их полностью автономными: «Дом, двор и замок – все твое! Народ, верный своему дорогому господину, хранил как мог его дом и двор – все, что мой герой оставил и завещал своим вассалам с крепостными в вечное владение, когда отправился в чужие земли». Быть может, это социалистическое самоуправление как предельная феодально-социалистическая мечта является единственным экономическим фоном, делающим возможными странствия Тристана?
[Закрыть]. Похоже, что «Белый», следующая часть трилогии «Три цвета», самый «политический» из трех фильмов, противопоставляет этой слабости внимание к тяжелому положению посткоммунистической Европы – как Восточной, так и Западной. «Белый» подразумевает «равенство» «в ироническом смысле “сведения счетов” или мести»[208]208
Insdorf A. Double Lives, Second Chances. The Cinema of Krzysztof Kieślowski. New York: Miramax, 1999. P. 153.
[Закрыть]: Кароль сводит счеты со своей женой, бросившей его самым унизительным способом, то есть центральная тема фильма – обладание, владение. Разумеется, тема обладания подразумевалась еще в «Декалоге 6» (Томек обладает Магдой посредством наблюдения за ней): она связана с позицией бессильного наблюдателя, который, строго говоря, не может по-настоящему «обладать» желанной женщиной и поэтому уменьшается до ревнивого взгляда, наблюдающего за парой, то есть за своим соперником, вступающим в связь с объектом желания, – этот мотив появляется не только в «Декалоге 6», но и в «Декалоге 9» (муж-импотент), в «Белом» (Кароль наблюдает, как его жена занимается сексом с другим мужчиной, слышит, как она занимается любовью) и в «Красном» (Огюст наблюдает за своей любовницей с другим мужчиной). В «Белом», однако, эта тема напрямую переводится на язык рыночной экономики обмена: разбогатеть, купить, а затем «свести счеты» – одним гениальным штрихом Кеслёвский связывает это обладание предметом потребления (в условиях возвращения посткоммунистической Польши к капитализму) с сексуальным обладанием/импотенцией.
* * *
В финале всех частей трилогии «Три цвета» показан плачущий герой (Жюли, Кароль, судья); эта сцена изображает не возвращение героя/героини из уединения к контакту с другими, а, скорее, болезненный акт установления надлежащей дистанции с (социальной) реальностью после шока, открывшего героя/героиню воздействию обнаженной реальности. Герои могут заплакать, потому что теперь плакать безопасно, они могут достаточно расслабиться, чтобы заплакать. В «Иммензее» (Immensee) Файта Харлана преданный муж, жена которого остается верна ему, несмотря на страсть к другому мужчине, начинает плакать, когда узнает, что его жена почувствовала в себе любовь к нему; на ее вопрос: «Почему ты плачешь?» – он отвечает: «Счастливые тоже плачут». В этом заключается основной урок мелодрам, и этому нарциссическому удовлетворению от боли следует противопоставить гораздо более необычный опыт извращенного смеха в ситуации крайнего отчаяния – от концентрационного лагеря до смертельной болезни – «Отчаявшиеся тоже смеются».
Таким образом, вполне уместно, что произведения Кеслёвского, начало которых было отмечено страхом реальных слез, заканчиваются выплеском вымышленных слез. Это не слезы, знаменующие разрушение защитной стены и освобождение собственных эмоций, выражение спонтанности чувств, а театральные, постановочные слезы, слезы восстановленной дистанции, «заготовленные слезы» (подобные заготовленному смеху телешоу) или, как сказал древнеримский поэт, lacrimae rerum, слезы, проливаемые на публике перед большим Другим, в частности и даже тогда, когда мы равнодушны к тому, кого оплакиваем (или даже ненавидим его). Восстановленная дистанция связана с разрывом между формулировкой и утверждением: слезы – это утверждение, из которого следует противоположная позиция, позиция счастья.
В финале «Красного» перед нами дуализм заключенного в раму субъекта и фантазматического образа-интерфейса: судья, заключенный в оконную раму, плачет, и за этими кадрами следуют последние кадры фильма (и всего творческого наследия Кеслёвского) – застывший на телеэкране профиль Валентины, – благодаря этому застывшему, призрачному образу происходит «ренормализация» судьи. Возможно, таинственный эффект этих кадров заключается в том, что Валентина не мертва: в стандартном нарративе подобный образ, указывающий на всеобъемлющее призрачное присутствие женщины, должен был бы следовать за ее кончиной и формировать послание о том, что в своей смерти она стала могущественнее, чем была при жизни. Однако Валентина превращается в призрак еще при жизни. Возможно, эта странная особенность также объясняет тот факт, что мы не возвращаемся от этих снятых от первого лица кадров, изображающих Валентину, к объективным кадрам, изображающим судью; скорее, эти снятые от первого лица кадры, изображающие застывший на телеэкране профиль Валентины, застывают на неограниченное время, разрывая рамки кадров от первого лица и, таким образом, обретая своего рода автономность фантазматического образа, больше не укорененного в определяющем его видении субъекта, – это больше не образ, который кто-то видит, а парадокс кадров от первого лица «самих по себе», таинственным образом существующих даже тогда, когда они лишены поддержки взгляда субъекта. Эти кадры являются интерфейсом, заполняющим пространство неудачного шва: само отсутствие финального сшивания снятых от первого лица кадров, изображающих Валентину, то есть вспомогательных кадров, которые вновь утвердили бы их диегетическую личность, превращает эти кадры в настоящий метафизический возвышенный объект.
В финале длинной версии «Декалога 6» («Короткий фильм о любви») присутствует последовательность кадров, играющая в точности такую же роль: круг замыкается, когда Магда входит в квартиру Томека и смотрит через его бинокль на собственную квартиру. Там она видит себя в прошлом (такую, какой видел ее Томек), сидящую за кухонным столом, одинокую и несчастную, проливающую на стол молоко из бутылки и начинающую плакать… В конце концов она буквально «видит себя такой, какая она есть», в своем отчаянном одиночестве. Однако эти кадры (все еще своего рода флешбэк) затем перерастают в воображаемую сцену, в которой Томек входит в ее квартиру и утешает ее (он стоит рядом с ней, положив руку ей на плечо – такое же положение принимает агент Дейл Купер в финальной сцене сна о спасении погибшей Лоры Палмер в самом конце фильма Линча «Твин Пикс: Огонь, иди со мной»), – эта сцена показана в замедлении, лишенная реальности, как своего рода исполнение желания. (О фантазматической природе этой последней сцены свидетельствует тот факт, что, видя себя в одиночестве плачущей за столом, Магда закрывает глаза, и только после этого – процитируем Кубрика – «с широко закрытыми глазами» она способна воспринимать свое воображаемое дополнение, то есть успокаивающее появление Томека.) Сравним это с окончанием короткой версии «Декалога 6»: не найдя Томека в его квартире, Магда отправляется в отделение почты, где она встречает его с улыбкой, полной ожидания, но получает от него отказ, холодный ответ: «Я больше за вами не слежу». Кеслёвский утверждал, что сама актриса (Гражина Шаполовска) предложила более оптимистический финал длинной версии; Кеслёвский прокомментировал это так: «В киноверсии возможности остаются открытыми. В такой концовке еще возможно все, хотя мы уже знаем, что невозможно ничего»[209]209
Kieślowski on Kieślowski / ed. D. Stok. P. 170.
[Закрыть].
Возможно, это и есть самая лаконичная версия описания исходного парадокса множественных вселенных Кеслёвского? И может быть, окончательный выбор (то есть не-выбор) Кеслёвского – это выбор между двумя версиями «Короткого фильма о любви»: примирением с упущенной возможностью встречи, создающим разрыв, и замкнувшимся кругом фантазии, заполняющим этот разрыв?[210]210
Механизм этого круга и выбора чем-то напоминает рассказ Сомерсета Моэма «Жена полковника» и изменение оригинальной концовки в его телеверсии. В рассказе пожилой джентльмен узнает благодаря сборнику поэзии, опубликованному его женой, которую он считает образцовой тихой домохозяйкой, о том, что у нее недавно был страстный роман с мужчиной моложе ее. Лучший друг, которому он с сожалением сообщает об этом в клубе, говорит, что ему остается лишь молчаливо пережить это. В киноверсии муж объявляет о своем открытии жене, которая объясняет ему, что молодой любовник – это на самом деле он, сам муж, в ее воспоминаниях об их страстной любви в молодости, и они счастливо примиряются. См. также «Воздушный змей» Моэма: муж, бросивший жену с ребенком, потому что она не могла вынести его страстного увлечения воздушными змеями, остается верен своей страсти даже в тюрьме – он ни в коем случае не готов отказаться от своего Дела ради семейной жизни. В киноверсии находится выход из ситуации: жена начинает запускать воздушных змеев вместе с мужем, учится любить его дело, и они счастливо воссоединяются.
[Закрыть]
III. Два казуса постмодернизма
6
Дэвид Линч,
или Женская депрессия
Искусство прерафаэлитов парадоксальным образом представляет собой границу, где авангард сочетается с китчем: первоначально в прерафаэлитах видели носителей антитрадиционалистской революции в живописи, отвергающих ее развитие после Ренессанса; и только спустя время – с расцветом импрессионизма – их развенчали как выражение унылого викторианского псевдоромантического китча. Это пренебрежительное отношение сохранялось до 1960-х гг. – то есть до выхода на сцену постмодернизма, когда прерафаэлиты вдруг совершили решительное обратное восхождение. Почему их искусство было прочитано только ретроактивно, через постмодернистскую парадигму?
В этом отношении ключевой фигурой является Уильям Холман Хант, от которого принято было отмахиваться как от первого из художников этого направления, продавшегося истеблишменту и превратившегося в хорошо оплачиваемого изготовителя приторной религиозной живописи («Триумф невинности» и т. п.).
Однако, вглядываясь внимательнее в его работы, мы обнаруживаем в них нечто жуткое и глубоко тревожное – его живопись всегда оставляет чувство определенного беспокойства, вызыванное смутным ощущением, что, несмотря на их идиллическое и в высшей степени «официальное» содержание, в них есть нечто вопиюще неуместное. Возьмем, к примеру, «Пастуха-поденщика» – до очевидности незамысловатую пасторальную идиллию, изображающую пастуха, соблазняющего юную поселянку и забывшего за этим занятием о своих овечках (недвусмысленная аллегория Церкви, забросившей свою паству). Но чем дольше мы всматриваемся в картину, тем яснее становится, как много здесь деталей, свидетельствующих о напряженном отношении Ханта к категории наслаждения, к jouissance как жизненной субстанции, а именно о том, что сексуальность ему омерзительна. Пастух на его картине – мускулистый, туповатый, грубый и животно-примитивный сластолюбец; хитрый взгляд девицы говорит о том, что она ловко и бесстыдно эксплуатирует собственную сексуальную привлекательность; слишком яркая красно-зеленая палитра сообщает всей картине отталкивающий характер, как если бы мы имели дело с перезрелой, подгнивающей натурой. Заключенная в картине сексуальность угнетающа, болезненна, пронизана трупно-гнилостным дыханием смерти… И здесь мы оказываемся уже в самой сердцевине образного мира Дэвида Линча.
В основе «онтологии» Линча – рассогласованность между реальностью, наблюдаемой с безопасного расстояния, и абсолютной приближенностью Реального. Первичная процедура его киноязыка – это приближение определенного кадра реальности, движение от общего плана к обескураживающему рассматриванию вплотную, в результате которого становится видна омерзительная сущность наслаждения, этого содрогания и искрения неразрушимой жизни. Достаточно вспомнить последовательный ряд кадров, которыми начинается «Синий бархат». После первых идиллических видов маленького американского городка и сцены сердечного приступа, случившегося с отцом героя, поливавшим лужайку (струя воды, бьющая из шланга, недвусмысленно уподоблена сюрреалистически обильному мочеиспусканию), камера медленно наезжает на лужайку, открывая нашему взгляду бурлящую в ее недрах жизнь, которую творят ползающие, суетящиеся, жадно поглощающие траву насекомые. В самом начале «Твин Пикс: Огонь, иди со мной» мы сталкиваемся с обратным приемом, который, однако, дает тот же эффект: сначала мы видим нечто подобное протоплазме, абстрактные белесые силуэты, плавающие на голубом фоне, своего рода элементарную форму жизни в ее первобытном состоянии первичной пульсации; затем камера медленно отъезжает, и становится понятно, что перед нами телевизионный экран, снятый с предельно близкого расстояния[211]211
Тот же прием использовал Тим Бёртон в «Бэтмене»: камера блуждает по непонятного вида металлическим извилинам, затем меделенно отъезжает, и на «нормальном» расстоянии от объекта нам становится понятно, что этим объектом был маленький значок Бэтмена.
[Закрыть]. Этот эффект позволяет приблизиться к пониманию свойства фундаментального постмодернистского «гиперреализма»: предельное приближение к реальности ведет к «утрате реальности»; на первый план выходят жуткие детали, которые разрушают умиротворяющий эффект общей картины[212]212
Здесь Линч, возможно, близок к философии Лейбница: Лейбница завораживали микроскопы, потому что они подтверждали, что «обычный», кажущийся безжизненным предмет на самом деле полон жизни. Стоит только рассмотреть его получше, то есть в максимальном приближении – под увеличивающим стеклом микроскопа, – и можно проникнуть в бурно копошащийся мир бесчисленных крошечных созданий. См. гл. 2 в: Bozovic M. Der grosse Andere: Gotteskonzepte in der Philosophie der Neuzeil. Vienna; Berlin: Turia und Kant, 1993.
[Закрыть].
Прерафаэлиты провозгласили свое стремление изображать вещи таковыми, каковыми они «действительно являются», то есть не искаженными правилами академической живописи, впервые введенными Рафаэлем. Однако практика прерафаэлитов вступает в противоречие с этой наивной идеологией возвращения к «естественной» живописи. Первое, что обращает на себя внимание в их картинах, – это «плоскостность» изображения. Эта особенность с неизбежностью воспринимается нами, привыкшими к реалистической перспективе, как показатель неумелости: в живописи прерафаэлитов отсутствует «глубина», свойственная пространству, организованному прямой перспективой, сходящейся в точке на горизонте, как если бы сама «реальность», изображенная на этих картинах, была не «настоящей» реальностью, но, скорее, реальностью, построенной по принципу барельефа. (Другая сторона той же особенности – это «кукольность», декорированность композиции, искусственность изображенных пресонажей; в них словно бы отсутствует та бездонная глубина личностного, которую мы, как правило, связываем с понятием «субъекта».) Таким образом, цель прерафаэлитов следует понимать буквально, то есть как отход от ренессансной перспективы и обращение к «приближенному» средневековому универсуму.
В фильмах Линча «плоскостность» изображенной реальности, которая и в самом деле уничтожает глубинную перспективу, открывающую безграничные дали, как бы дублируется на уровне звука. Давайте вернемся к начальным кадрам «Синего бархата»; их главную особенность составляет шум, который нарастает по мере того, как мы приближаемся к Реальному. Источник этого шума трудно локализовать в реальности; для того чтобы определить его статус, придется обратиться к современной космологии, которая говорит о шумах на границах Вселенной. Эти шумы не являются ее имманентным свойством; это эхо последнего Большого взрыва, в результате которого и возникла сама Вселенная. Онтологический статус этого шума интереснее, чем может показаться на первый взгляд, поскольку он подрывает фундаментальное представление об «открытой», бесконечной Вселенной и само определение пространства в ньютоновой физике.
Современное представление об «открытой» Вселенной покоится на гипотезе, согласно которой любая позитивная сущность (шум, материя) занимает некое (пустое) место в пространстве: эта гипотеза строится на различении между пустым пространством и позитивными сущностями, занимающими пространство, «заполняющими его». С феноменологической точки зрения пространство рассматривается здесь как существующее до всяких сущностей, которые его «заполняют». Если мы разрушим или извлечем материю, заполняющую данное место в пространстве, то само пустое пространство останется. Но первобытный шум, последний отзвук Большого взрыва, конституирует пространство как таковое: это не шум в пространстве, но шум, который гарантирует пространству его открытость. Следовательно, если мы изымем этот шум, то мы не получим «пустого пространства», которое прежде было заполнено шумом: в этом случае само пространство, вместилище для любой «внутренней» сущности мира исчезнет. В определенном смысле этот шум есть само «звучание тишины». Аналогичным образом онтологический шум в фильмах Линча производят не объекты, составляющие часть реальности; напротив, именно этот шум формирует онтологический горизонт, обрамляет саму реальность, является той самой текстурой, которая есть связующее начало реальности: если уничтожить этот шум, то сама реальность погибнет. Таким образом, от «открытой» бесконечной Вселенной картезианско-ньютоновской физики мы возвращаемся к досовременному «замкнутому» миру, границы которого образуют изначальный «шум».
Этот же шум появляется в одном из эпизодов фильма «Человек-слон», связывая между собой пространство внутреннее и внешнее; иными словами, в этом шуме предельная овнешненность машины жутким образом совпадает с предельной же интимностью внутрителесного пространства, с ритмом бьющегося сердца. Еще один момент, который необходимо иметь в виду: шум возникает после того, как камера проникает в отверстие капюшона человека-слона, через которое тот может видеть окружающее: обращение реальности в Реальное соответствует превращению взгляда (субъекта, вглядывающегося в реальность) в зрение, то есть это обращение происходит, когда мы входим в «черную дыру», прореху в ткани реальности.
Голос, сдирающий с тела кожу
Что же встречаем мы в этой дыре? Просто-напросто тело с содранной кожей. Таким образом, Линч нарушает нашу наиболее элементарную феноменологическую связь с живым телом, в основе которой – радикальное различие между поверхностью, образуемой кожей, и тем, что под ней. Если мы попытаемся представить, что находится под оболочкой-поверхностью прекрасного обнаженного тела (мышцы, органы, вены), мы испытаем ужас, даже омерзение. Отношение к телу предполагает, что сокрытое под его поверхностью как бы игнорируется. И такая способность отвлекаться есть явление символического порядка; и проявляется постольку, поскольку наша телесная реальность структурирована языком. В символическом измерении, даже когда мы раздеты, мы в действительности не обнажены, поскольку сама кожа выступает как «одежда плоти»[213]213
Исключение – обнаженное тело Изабеллы Росселлини в конце «Синего бархата», когда, пережив ночной кошмар, она бежит из дома к Джеффри: тело здесь словно бы принадлежит иному, темному, ночному, инфернальному царству, внезапно обнаружившему себя в нашей «нормальной» повседневной вселенной, вне своей собственной стихии, оно подобно извивающемуся осьминогу или другому гаду из морских глубин, – ранимое, уязвимое тело, физическое присутствие которого рядом почти непереносимо для нас.
[Закрыть]; отвлекаясь от того, что происходит под кожей, мы исключаем Реальное жизненной субстанции, ее пульсацию и трепетание; одна из дефиниций реального у Лакана состоит в его уподоблении телу, с которого содрали кожу, пульсации сырой, лишенной кожи красной плоти.
Каким же образом Линч изменяет, нарушает наше наиболее элементарное отношение к поверхности тела? Посредством голоса, с помощью слова, которое «убивает», прорывается сквозь кожный покров и врезается непосредственно в сырую плоть, – то есть с помощью слова, имеющего статус Реального. Выразительнее всего этот прием в линчевской версии «Дюны» Фрэнка Герберта. Достаточно вспомнить, как члены «гильдии пространства» в результате чрезмерного увлечения «веществом», таинственным ядом, вокруг которого разворачивается вся история, превращаются в безобразных существ с гигантскими головами. Подобно червям с их голой, лишенной кожи плотью, они представляют собой неразрушимую жизненную субстанцию, чистое воплощение наслаждения.
Сходное обезображивание внешности характерно для пораженных порчей подданных барона Харконнена, многие из которых имеют жутким образом искаженные лица: у них зашиты глаза, уши и т. п. Лицо самого барона усеяно многочисленными буграми, опухолевыми шишками, «отростками наслаждения», посредством которых внутренность тела стремится прорваться сквозь кожный покров. В сцене орально-гомосексуального изнасилования бароном юноши также проигрывается тема связи между внутренностью и поверхностью: барон нападает на него, вырывая затычку из сердца, так что кровь начинает бить струей. (Это характерное для Линча детское фантастическое представление о человеческом теле как о воздушном шаре, форме, образуемой надутой кожей, внутри которой не содержится никакой твердой субстанции…) Черепа слуг членов «гильдии навигаторов» также начинают разламываться, когда запас спайса подходит к концу, – снова тема искаженных, нарушенных поверхностей.
Ключевой здесь является корреляция между этими трещинами в черепе и искаженным голосом: слуга (подмастерье) шепчет что-то нечленораздельное, и этот невнятный шелест превращается в артикулированную речь, только будучи пропущен через микрофон – или, в лакановской терминологии, будучи медиально опосредован большим Другим. В «Твин Пикс» карлик в Красной комнате тоже говорит на непонятном, искаженном английском, и смысл сказанного можно понять только из субтитров, которые играют здесь роль микрофона, то есть роль посредника большого Другого. Эта промежуточная инстанция – процесс превращения наших нечленораздельных звуков в речь, происходящий благодаря вмешательству внешнего, механического, символического порядка, – как правило, замаскирована, скрыта. Она обнаруживает себя только тогда, когда связь между поверхностью и тем, что за ней лежит, нарушена. Таким образом, здесь нам открывается оборотная сторона дерридианской критики логоцентризма, в котором голос функционирует как посредник иллюзорной самопрозрачности и самоприсутствия: то, с чем мы имеем дело, – это грязное, жестокое, сверхличностное, недоступное пониманию, непроницаемое травматическое измерение Голоса, который функционирует как инородное тело, нарушающее наше жизненное равновесие[214]214
Уже «Великий диктатор» Чаплина показал нарушенное равновесие, существующее между голосом и написанным словом: произнесенное слово (речь диктатора Хинкеля) непристойно, малопонятно и абсолютно неадекватно слову написанному.
[Закрыть].
В «Дюне» наш, зрителей, опыт восриятия поверхности тела также претерпевает искажение в мистическом опыте героя Пола Атрейдеса, пьющего «воду жизни» (несомненно, что мистицизм усиливает столкновение с Реальным). Здесь вновь внутреннее пытается извергнуться, прорваться сквозь оболочку: кровь сочится не только из глаз Пола, но и изо рта его матери и сестры, которые знают о суровом испытании, которому он подвергается, благодаря непосредственной, не символической эмпатии. (Советники правителя, «живые компьютеры», способные читать мысли людей и прозревать будущее, тоже имеют странные пятна вокруг рта, напоминающие засохшую кровь.)
Наконец, голос самого Пола обладает силой прямого физического воздействия: повышая голос, Пол может не только поразить своего противника, но и взорвать скалу. В конце фильма он кричит на старую жрицу, которая пытается прочесть его мысли, – и она отшатывается как от реально полученного физического толчка. Как говорит сам Пол, его слова могут убить, то есть его речь функционирует не только в качестве символического акта, но может непосредственно вреза́ться в Реальное. Разрушение «нормального» отношения между поверхностью тела и тем, что находится за или под ней, прямо коррелирует с этим изменением статуса речи, с появлением слова, действующего непосредственно на уровне Реального.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































