Текст книги "Киногид извращенца. Кино, философия, идеология"
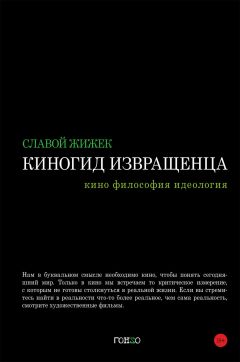
Автор книги: Славой Жижек
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)
Разрыв в причинно-следственной цепи
В этой последней сцене есть еще одна значимая особенность: старая жрица реагирует на слова Пола в преувеличенно-театральной манере, так что до конца не ясно, реагирует ли она на сами его слова или на свое искаженное, непомерно бурное их восприятие. Иными словами, «нормальная» связь между причиной (слова Пола) и следствием (реакция на них женщины) здесь нарушена: между причиной и следствием словно бы существует разрыв – результат словно бы не соответствует своей предполагаемой причине. Такой разрыв принято относить на счет женской истерии: женщина не способна видеть отчетливо внешние причины, она всегда проецирует на них свое собственное искаженное восприятие… Однако же Мишель Шион предлагает совершенно иное, поистине гениальное прочтение этого разрыва[215]215
См.: Chion M. David Lynch. Paris: Cahiers du Cinéma, 1992, особенно p. 108–117 и 227–228.
[Закрыть]. Велик соблазн «упорядочить» свободные рассуждения в книге Шиона о Линче и представить их в виде трех последовательных пунктов.
Исходная точка в рассуждениях Шиона – разрыв, расхождение, деколлаж между действием и реакцией на него, прием, характерный для Линча: когда субъект (как правило, мужчина) обращается к женщине или каким-либо иным способом ее «возбуждает», ответная реакция всегда в какой-то степени несоизмерима с сигналом, или «импульсом», который она получила. При такой несоизмеримости ставка делается на короткое замыкание между причиной и следствием: их связь никогда не бывает «чистой» или линейной, мы никогда не знаем точно, в какой степени следствие ретроактивно «окрашивает» свою свобственную причину. Здесь мы сталкиваемся с логикой анаморфоза, прекрасно представленной в шекспировском «Ричарде II» (акт II, сцена 2) словами верного королевского слуги Буши:
У каждой скорби двадцать отражений:
Не скорбь, но только видимость одна.
Ведь взор тоски, слезами остекленный,
Дробит предмет на множество подобий;
В оптическом стекле мы, глядя прямо,
Смешенье видим; если ж взглянем вкось,
Мы формы различим: так ваша милость
Взглянули косо на отъезд супруга —
И плачете от призрачного горя;
Оно ж как таковое – только тени
Несуществующего.
Отвечая ему, Королева высказывает свои опасения, увязывая их с темой причин и следствий:
Ах нет, ведь мнительность имеет предком
Былую скорбь; со мной – совсем иначе:
Ничто родило скорбь мою, как нечто,
Иль нечто есть в ничто, о чем скорблю.
Вступлю я скоро во владенье им;
Но что оно и как ему названье —
Не знаю; безыменное страданье…[216]216
Цит. в переводе А. Курошевой по изд.: Шекспир У. Собр. соч. в 8 т. Т. 4. М.: Интербук, 1994. С. 40–41. – Примеч. ред.
[Закрыть]
Таким образом, несоразмерность следствия причине детерминирована анаморфической перспективой взгляда субъекта, который видит «реальную» причину в искаженном свете, поэтому его действие (реакция на причину) никогда не вытекает прямо и непосредственно из причины, но, скорее, является следствием его искаженного видения причины.
Следующий пункт в рассуждениях Шиона поистине «экстремален» и достоин фрейдистской интерпретации. Шион высказывает преположение, что основополагающая матрица, парадигма рассогласованности между действием и реакцией на него заключается в сексуальной (не)связи между мужчиной и женщиной. В своей сексуальной активности мужчины «проделывают с женщинами определенные вещи», и вопрос стоит следующим образом: можно ли свести наслаждение, которое получает женщина, к следствию, есть ли оно прямое следствие того, что делает с ней мужчина? В старые добрые времена гегемонии марксизма предпринимались подобные вульгарно-материалистические, редукционистские попытки объяснить генезис понятия причинности, выводя его из человеческой практики, из взаимодействия человека с окружающим миром: человек приходит к понятию причинности, обобщая собственный опыт о том, как определенное действие каждый раз производит один и тот же эффект на реальность… «Редукционизм» Шиона даже еще радикальнее: в качестве элементарной матрицы отношений между причиной и следствием он предлагает сексуальную связь. В конечном итоге разрыв между причиной и следствием, не поддающийся редукции, сводится к тому факту, что «не всё в наслаждении, которое испытывает женщина, есть следствие действий мужчины». Это «не всё» следует понимать в логике лакановского «не всего» (pas-tous)[217]217
См. Lacan J. Seminar XX.
[Закрыть]: часть наслаждения, которое испытывает женщина, не есть следствие того, что с ней делает мужчина. Иными словами, «не всё» означает непоследовательность, а не неполноту: в реакции женщины всегда есть непредсказуемость. Женщина никогда не реагирует ожидаемо: на какой-то раз она может никак не прореагировать на то, что всегда срабатывало безупречно, и возбудиться от того, что мужчина сделал походя, ненамеренно… Женщина разрушает линейность причинно-следственного порядка – или, цитируя Николаса Кейджа из линчевских «Диких сердцем», который, будучи потрясен неожиданной реакцией Лоры Дерн, замечает: «То, каким образом работают твои мозги, есть сокровеннейшая из тайн самого Господа Бога».
Последний пункт рассуждений Шиона дублирует предыдущий, уточняет и обобщает. Почему именно женщина своей неадекватной реакцией на получаемый от мужчины импульс разрывает каузальную цепочку? Особенностью, которая разрывает и выворачивает наизнанку причинно-следственную цепь, является женская депрессия – самоубийственная предрасположенность женщины скатываться в перманентную апатию. Шоковые удары, которыми мужчина «атакует» женщину, имеют целью растормошить ее и вывести из этой депрессии.
Женская депрессия как источник субъективности
Ядро «Синего бархата» (как и всего œuvre Линча) составляет загадка женской депрессии. То, что фатальная Дороти (Изабелла Росселлини) находится в депрессии, ясно без слов, поскольку причины ее самоочевидны: ребенок и муж похищены жестоким Фрэнком (Деннис Хоппер), который отрезал у ее мужа ухо и шантажирует ее, добиваясь сексуальной близости в обмен на жизнь мужа и ребенка. Причинно-следственная связь здесь совершенно ясна и недвусмысленна. Фрэнк – причина всех проблем, он вторгается в счастливое семейство и провоцирует травму. Мазохистское наслаждение Дороти – это результат шока: жертва настолько ошеломлена и сбита с толку садистским насилием, которому подвергается, что «идентифицирует себя с агрессором» и начинает подражать его игре… Однако детальный анализ самой известной сцены из «Синего бархата» – садомазохистской игры, которую ведут Дороти и Фрэнк и которую наблюдает спрятавшийся в шкафу Джеффри (Кайл Маклахлан), заставляет нас изменить угол зрения. Ключевой вопрос здесь: для кого разыграна вся эта сцена?
На первый взгляд, ответ очевиден: для Джеффри. Разве это не типичная ситуация ребенка, оказавшегося свидетелем совокупления родителей? Разве Джеффри не воплощает здесь чистый взгляд как акт своего собственного понимания (самая элементарная матрица вымышленного)? Такая интерпретация подтверждается двумя экстравагантными подробностями, которые видит Джеффри: Дороти заталкивает в рот Фрэнка синий бархат; Фрэнк прикладывает ко рту кислородную маску и тяжело дышит. Не порождены ли эти две зрительные галлюцинации тем, что слышит ребенок? Подслушивая, как родители занимаются любовью, он слышит многозначительную тишину и тяжелое, прерывистое дыхание; он представляет, что у отца что-то во рту (возможно, край простыни, раз уж речь идет о кровати) или что он дышит через маску[218]218
Решающий момент в кинематографическом анализе – обнаружить цельную, непрерывную, диегетическую реальность как «вторичный продукт», то есть различить в ней часть (символической) реальности и часть фантазмических галлюцинаций. Достаточно упомянуть «Один дома». Весь фильм построен на том, что семья мальчика – его собственное интерсубъективное окружение, его Другой – и два бандита, угрожающие ему, пока его семьи нет дома, никогда не пересекаются. Воры появляются на сцене, когда мальчик оказывается один, а к тому времени, когда в конце фильма семья возвращается, все следы присутствия воров волшебным образом испаряются, хотя, как результат их взаимодействия с мальчиком, весь дом лежит в руинах. Сам факт того, что существование воров Другим не признается, свидетельствует о том, что мы имеем дело с детской фантазией. В тот момент, когда воры появляются на сцене, мы переносимся в другое место и перепрыгиваем из социальной реальности в фантазмический мир, в котором нет ни смерти, ни вины; в мир немой буффонады и комиксов, где тебя по затылку бьют железной кувалдой, а ты чувствуешь легкий шлепок, где на голове у тебя взрывается галлон бензина, а волноваться тебе стоит разве что за подпаленные волосы. Возможно, знаменитый пронзительный крик Маколея Калкина нужно понимать не как страх перед бандитами, но скорее как выражение ужаса перед перспективой (снова) быть заброшенным в мир собственных фантазмов.
[Закрыть]. В таком прочтении упускается тот значимый факт, что садомазохистская игра целиком и полностью срежиссирована и намеренно театральна. Оба – не только Дороти, которая прекрасно знает, что Джеффри, отправленный ею в шкаф, за ними наблюдает, – они оба играют (и даже переигрывают), как если бы они знали, что на них смотрят. Джеффри вовсе не незамеченный, случайный свидетель ритуала: ритуал изначально инсценирован специально для его глаз. С этой точки зрения подлинный режиссер игры – Фрэнк. Его шумное, театральное поведение, граничащее с комизмом и вызывающее в памяти киношный образ злодея, свидетельствует о его отчаянных попытках очаровать и поразить третьи глаза. Для чего? Возможно, ответ кроется в словах, навязчиво повторяемых Фрэнком Дороти: «Не смотри на меня». Но почему же нет? Ответ может быть только один: потому что смотреть не на что. Иными словами, эрекции не увидеть, поскольку Фрэнк – импотент.
Прочитанная таким образом сцена обретает иное значение: Фрэнк и Дороти симулируют бурный секс, чтобы утаить от ребенка факт импотенции его отца. Крики и ругань Фрэнка, его комически-театральная имитация совокупления призвана замаскировать его отсутствие. Если говорить в привычных понятиях, акцент с вуайеризма смещается: взгляд Джеффри – всего лишь элемент эксгибиционистского сценария.
Существует, однако, и третье возможное прочтение, сфокусированное на Дороти. Я не имею здесь в виду антифеминистские банальности о женском мазохизме, о том, что женщина втайне испытывает наслаждение, когда ее грубо насилуют, и т. п. Моя мысль звучит иначе: что, если – учитывая, что женщина нарушает линейную причинно-следственную связь, выворачивает ее наизнанку, – что, если депрессия изначальна? Что, если депрессия первична и все последовавшие действия, то есть терроризирование Дороти Фрэнком, вовсе не ее причина, но, скорее, безнадежная «терапевтическая» попытка помешать женщине скатиться в пропасть абсолютной депрессии, своего рода «шоковая терапия», призванная привлечь ее внимание? Жестокость его метода (похищение мужа и сына, отрезание у мужа уха, требование включиться в садистскую сексуальную игру) всего лишь соответствует глубине депрессии Дороти – только такой грубый шок может заставить ее реагировать.
В этом смысле Линча можно назвать настоящим анти-Вейнингером. У Отто Вейнингера в книге «Пол и характер», парадигме современного антифеминизма, женщина предлагает себя мужчине, пытаясь привлечь и соблазнить его взгляд, заставляя тем самым спуститься с духовных высот к низменному сексуальному разврату. Для Вейнингера «изначальным» является мужская духовность, тогда как соблазн женских чар – результат его Падения; для Линча «изначальна» женская депрессия, сползание женщины в пропасть самоуничтожения и абсолютной апатии, тогда как мужчина, напротив, предлагает себя ей как объект ее взгляда. Мужчина атакует ее шоковыми ударами для того, чтобы привлечь ее внимание и тем самым стряхнуть с нее оцепенение, чтобы восстановить ее собственный причинно-следственный порядок.
Тема погрузившейся в сон женщины, которую выводит из оцепенения зов мужчины, широко присутствовала в XIX в. Достаточно вспомнить Кундри из вагнеровского «Парсифаля», которая в начале второго и третьего акта пробуждается от кататонического сна (в первый раз грубо разбуженная Клингзором, во второй – под нежными ласками Гурнеманца). Из реальной жизни можно обратиться к неподражаемой Джейн Моррис, жене Уильяма Морриса и любовнице Данте Габриэля Россетти. На известной фотографии 1863 г. Джейн выглядит как депрессивная женщина, глубоко погруженная в собственные мысли, как женщина, которая ждет, чтобы мужчина вывел ее из оцепенения; этот образ ближе всего к тому, что представил Вагнер в своей Кундри[219]219
Еще один из многочисленных мотивов женщины, выведенной из апатического оцепенения, можно встретить в самом неожиданном месте – например, в «Письмах Асперна» Генри Джеймса. Рассказчик пробирается в разрушающееся венецианское палаццо, где живут две женщины: старая американка, в молодости бывшая любовницей великого американского поэта Асперна, и ее юная племянница. Любыми способами он пытается добиться своей желанной цели – получить связку неизвестных любовных писем Асперна, бережно хранимых старой женщиной. Озабоченный своим объектом желания, он не видит, как он меняет жизнь в ветхом палаццо; он приносит с собой дыхание жизни, заставляет обеих женщин очнуться от их апатичного прозябания и даже возбуждает в юной девушке сексуальное желание.
[Закрыть].
Решающее значение здесь имеет универсальная, формальная структура: «нормальные» отношения между причиной и следствием перевернуты. Следствие «изначально», оно первично, а то, что появляется как его причина (шок, который якобы приводит к депрессии), на самом деле и есть реакция на следствие, борьба с депрессией. Мы снова возвращаемся к логике «не всего». «Не всё» депрессии проистекает из причин, ее породивших; и в то же самое время в депрессии нет ничего, ни одного элемента, который бы не порождался внешней причиной. Иными словами, все в депрессии есть следствие, за исключением самой депрессии, то есть за исключением формы депрессии. Таким образом, статус депрессии в истинном смысле «трансцендентален»: депрессия a priori задает рамки, внутри которых причины могут действовать так, как они действуют[220]220
В такой же логике Делёз критиковал фрейдистскую двойственность принципа удовольствия (и реальности) и его изнанки, влечения к смерти. (Что такое депрессия линчевских героинь, если не манифест влечения к смерти?) Точка зрения Фрейда не в том, что существуют явления, которые нельзя объяснить принципами удовольствия и реальности (что касается «удовольствия от боли», очевидно идущего вразрез с принципом удовольствия, то здесь скрыто получение нарциссической выгоды за счет отречения от удовольствия), но скорее в том, что, чтобы объяснить функционирование принципов удовольствия и реальности, мы должны принять за основу более фундаментальный аспект «влечения к смерти» и стремления к повторению травмы, которые открывают пространство, где принцип удовольствия может сохранять свое правило. См.: Deleuze G. Coldness and Cruelty // Masochism. New York: Zone Books, 1991.
[Закрыть].
Может показаться, что я просто высказываю банальности о женской депрессии, о том, что женщину может возбудить и пробудить исключительно мужчина. Однако на это можно посмотреть и иначе. Разве базовая структура личности не строится на том, что «не всё» субъекта детерминируется причинно-следственной цепью? Разве не сам субъект является тем разрывом, который отделяет причину от следствия? Разве этот разрыв не появляется тогда, когда отношения между причиной и следствием невозможно объяснить?[221]221
На этой «непредсказуемости» Фрейд выстраивал свою концепцию сверхдетерминации: случайная внешняя причина может вызвать непредвиденные катастрофические последствия, разбередив травму, которая уже/всегда тлеет под пеплом, то есть настойчиво существует в подсознательном.
[Закрыть] Иными словами, что такое женская депрессия, нарушающая цепь причин и следствий, каузальную связь между нашими действиями и внешними стимулами, – что это такое, если не фундаментальный жест личности, первозданный акт свободы, осуществляя который мы освобождаемся от оков причинно-следственной связи?[222]222
Эта задержка линейной причинно-следственной цепи в то же самое время есть конститутивная черта символического порядка. В этом отношении особенно показателен пример Юна Эльстера. С помощью «объективного» социопсихологического подхода Эльстер пытается выделить особый уровень причинно-следственных механизмов, расположенный между описательным, или нарративным, идеографическим методом и общими теориями: «Механизм – это особый каузальный паттерн, который может быть выявлен постфактум, но редко предсказуем… Он меньше чем теория, но гораздо больше чем описание» (Elster J. Political Psychology. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. P. 3, 5).
[Закрыть] Философское наименование «депрессии» носит абсолютно негативный характер – это гегелевская «ночь мира», уход субъекта в себя. Таким образом, женщина – а не мужчина – есть субъект par excellance. И связь между депрессией и вспышками неуничтожимой жизненной субстанции также абсолютно очевидна: депрессия и уход в себя есть изначальная форма отступления, дистанцирования от жизненной субстанции, заставляющая эту субстанцию предстать в виде отсвета.
7
Дэвид Линч,
или Искусство смешного возвышенного
Ленин любил говорить о том, что человек зачастую может осознать основные составляющие собственной слабости, поняв своих умных врагов. Поскольку в настоящем эссе предпринимается попытка лаканианской интерпретации фильма «Шоссе в никуда» (The Lost Highway) Дэвида Линча, может оказаться полезным сделать ссылку на появившуюся недавно «посттеорию» когнитивистской ориентации кинематографических исследований – теорию, которая определяет идентичность за счет полного отказа от лакановских принципов исследования кино. В эссе, которое многими признается одним из лучших в «посттеории» и которое является своеобразным манифестом нового направления, Ричард Молтби фокусирует внимание на хорошо известной короткой сцене в «Касабланке»[223]223
См.: Maltby R. ‘A Brief Romantic Interlude’: Dick and Jane go to 3½ Seconds of the Classic Hollywood Cinema // Post-Theory / ed. D. Bordwell, N. Carroll. Madison: University of Wisconsin Press, 1996. P. 434–459.
[Закрыть]: Ильза Лунд (Ингрид Бергман) заходит в комнату Рика Блейна (Хэмфри Богарт), стремясь заполучить разрешительные письма, которые позволят ей и ее мужу Виктору Ласло, руководителю Сопротивления, перебраться из Касабланки в Португалию, а затем в Америку. Когда Рик отказывается передать ей эти разрешительные письма, она достает пистолет и угрожает ему. Он говорит Ильзе: «Давай, стреляй, ты окажешь мне услугу». Ильза срывается и в слезах начинает рассказывать Рику о том, почему она бросила его в Париже. К тому времени, когда она говорит: «Если бы ты знал, как я любила тебя, как я до сих пор люблю тебя», они уже обнимаются, снимаемые крупным планом. Затем на три с половиной секунды в кадре появляется командно-диспетчерский пункт аэропорта, прожектор которого вращается, пытаясь что-то обнаружить. После чего зритель вновь видит Рика, стоящего у окна и курящего сигарету. Он отворачивается и говорит в глубь комнаты: «А что было потом?»
Ильза продолжает свой рассказ.
Естественный вопрос: что произошло за эти три с половиной секунды, пока зрители смотрели на аэропорт? Занимались ли герои любовью? Молтби справедливо подчеркивает, что на этом этапе фильм не просто становится двойственным, а дает четкие возможности для двух взаимоисключающих интерпретаций: между персонажами либо была любовная связь, либо нет. С одной стороны, зритель получает неоднозначный намек на то, что это произошло, с другой стороны, что-то указывает и на то, что между ними за этот промежуток времени ничего не было. С одной стороны, зритель получает закодированные сигналы о том, что герои занимались любовью и что за эти три с половиной секунды прошло гораздо больше времени, в которое укладываются оставшиеся за кадром события (страстные объятия героев и возвращение к диалогу после затемнения сцены); закуренная сигарета – это также обычный знак расслабления после секса, не говоря уже о вульгарной фаллической коннотации башни КДП аэропорта; с другой стороны, ряд параллельных элементов указывает на то, что секса между героями не было и что эти три с половиной секунды соответствуют реально прошедшему времени (кровать на заднем плане заправлена, продолжается тот же диалог и т. д.). Даже окончательный разговор между Риком и Ласло о событиях предыдущей ночи можно трактовать двояко:
Рик: Ты говоришь, что ты знал обо мне и Ильзе?
Виктор: Да.
Рик: А ведь ты не знаешь, что вчера вечером она приходила ко мне за разрешительными письмами. Ведь так, Ильза?
Ильза: Да.
Рик: Она попыталась сделать все возможное, чтобы их получить. Она постаралась убедить меня, что все еще любит меня. Это было уже давно; для твоего же блага она притворилась, что все еще любит меня, я ей не мешал.
Виктор: Я понимаю…
Молтби предлагает следующее решение: он настаивает, что эта сцена идеально показывает, как «Касабланка» «предоставляет альтернативные возможности получения удовольствия двум совершенно разным людям, которые оказались в одном кинотеатре», то есть «эта сцена может понравиться как “невинным”, так и “умудренным опытом” людям»[224]224
Maltby R. Op. cit. P. 443.
[Закрыть]. Внешне может показаться, что фильм снят с соблюдением самых строгих моральных устоев, но вместе с тем в нем достаточно намеков, позволяющих воспринимать картину как сексуально насыщенную. Эта стратегия более сложна, чем может показаться на первый взгляд: именно потому, что вам известно, что официальной сюжетной линией вы «совершенно освобождены от ветреных импульсов»[225]225
Maltby R. Op. cit. P. 441.
[Закрыть], вы можете позволить себе погрузиться в мир грязных фантазий; вы знаете, что эти фантазии «нереальны», что они не воспринимаются большим Другим. В связи с этим хотелось бы предложить Молтби единственную поправку: вовсе не обязательно, чтобы два разных зрителя сидели рядом друг с другом: достаточно будет и одного зрителя, раздираемого острыми противоречиями.
Если говорить лаканианским языком, во время этих постыдных трех с половиной секунд Ильза и Рик не занялись любовью ради большого Другого, ради соблюдения общественных приличий, но при этом они все же сделали это ради удовлетворения грязных фантазий нашего воображения. Это являет собой наиболее цельную структуру внутренней трансгрессии, а Голливуду для успешного функционирования требуются оба уровня. В терминах теории аргументации, разработанной Освальдом Дюкро, в данном случае имеет место противопоставление исходной предпосылки и сделанных выводов: исходная предпосылка непосредственно подтверждается большим Другим, мы за нее не отвечаем. Однако ответственность за сделанные выводы напрямую ложится на плечи зрителей (или читателей). Автор текста всегда может заявить: «Я не виноват в том, что зрители сделали такие грязные выводы из текстуры фильма!» Если рассматривать данное противопоставление в контексте психоанализа, то, конечно, это противопоставление символического Закона (эго-идеала) непристойному суперэго: ничего не происходит на уровне общественного символического Закона, текст выглядит чистым и понятным, на другом уровне тот же текст атакует различными бесстыдными намеками суперэго зрителя: «Наслаждайтесь!», то есть дайте простор вашей грязной фантазии. Иными словами, мы сталкиваемся с недвусмысленным примером фетишистского раскола, с отрицанием структуры на уровне je sais bien, mais quand même… (я прекрасно знаю, но все-таки…): само осознание того, что между героями ничего не было, дает простор грязному воображению – вы можете получать от этого удовольствие, потому что вы освобождены от осознания вины фактом того, что для большого Другого этого, безусловно, не произошло… Подобная двоякая трактовка – не просто компромисс с Законом в том смысле, что символический Закон лишь стремится соблюсти приличия и дает вам возможность грязно фантазировать, если только это не посягает на общественную нравственность и на ее нормы. В таком случае Закону нужно это непристойное дополнение, которое он сам производит и поддерживает. Итак, зачем в данном случае нам требуется психоанализ? Что здесь выступает на уровне бессознательного? Разве зрители не осознают в полной мере порождения своего грязного воображения? Мы можем очень точно указать, откуда берется потребность в психоанализе: мы не осознаем не некое глубоко укоренившееся, секретное содержание, а внешнее проявление этого феномена, которое имеет значение – у человека могут быть самые разные грязные фантазии, но важно то, какие из них выходят в общественную сферу и в сферу символического Закона, то есть большого Другого.
Таким образом, Молтби прав, подчеркивая, что постыдный голливудский кодекс производства фильмов 1930–40-х был не просто негативным кодом цензуры, но также и положительной (Фуко бы сказал, продуктивной) кодификацией и регулированием, создававшими эксцессы, прямую демонстрацию которых они же и ограничивали. В связи с этим показателен диалог, который однажды произошел между Джозефом фон Штернбергом и Джозефом Брином (со слов Молтби). Когда Штернберг сказал: «А сейчас между двумя главными героями состоится романтическая интерлюдия», Брин перебил его: «Вы пытаетесь сказать, что эти двое покувыркаются, что у них будет секс?» Возмущенный Штернберг ответил: «Господин Брин, вы меня оскорбили». Брин же сказал: «Ради всего святого, перестаньте юлить и называйте вещи своими именами. Если вы хотите, мы можем помочь вам со сценарием о супружеской неверности, но только если вы перестанете называть секс “романтической интерлюдией”. Чем эти двое занимались? Поцеловали друг друга и разошлись по домам?» «Нет, они занимались сексом», – ответил Штернберг. «Отлично! Теперь мне сюжет стал понятнее!» – прокричал Брин. Кинорежиссер закончил свой рассказ, а Брин посоветовал ему, как он может обойти «кодекс»[226]226
Maltby R. Op. cit. P. 445.
[Закрыть]. То есть даже запрещая что-то, нам нужно четко понимать, что мы запрещаем, – кодекс производства фильмов в этом случае не только запретил какую-то содержательную часть, но и кодифицировал ее зашифрованную артикуляцию.
Молтби также цитирует известную инструкцию Монро Штар сценаристам из романа Фицджеральда «Последний магнат»:
Что бы она ни делала, ею движет одно. Идет ли она по улице, ею движет желание спать с Кеном Уиллардом; ест ли обед – ею движет желание набраться сил для той же цели. Но нельзя ни на минуту создавать впечатление, что она хотя бы в мыслях способна лечь с Кеном Уиллардом в постель, не освященную браком[227]227
Цит. в переводе О. Сороки по изд.: Фицджеральд Ф. С. Великий Гэтсби. Последний магнат. Рассказы. М.: Художественная литература, 1990. С. 180. – Примеч. ред.
[Закрыть].
Из этого примера видно, каким образом основополагающий запрет не только выступает в отрицательной роли, но и способствует чрезмерной сексуализации самых заурядных повседневных событий – все, чем занимается бедная, изголодавшаяся героиня, начиная с ее хождения по улицам и заканчивая приемом пищи, гиперболизируется в желание заняться любовью с мужчиной ее мечты. Мы видим, что функционирование этого основополагающего запрета достаточно превратно, когда оно неизбежно затрагивает зону рефлексии, превращая защиту от запрещенного сексуального содержания в чрезмерную, всепроникающую сексуализацию. Роль цензуры в этом случае более двойственна, чем это может показаться на первый взгляд.
Очевидный упрек данной точки зрения в том, что Кодекс Хейса возвышается до уровня разрушительной машины, которая угрожает системе доминирования даже больше, чем прямолинейная толерантность: разве мы не утверждаем, что чем более жесткой будет прямолинейная цензура, тем более разрушительными станут непреднамеренно произведенные ею побочные эффекты? Хочется ответить на этот упрек, подчеркнув, что эти непреднамеренные, извращенные побочные эффекты на самом деле не только не угрожают системе символического доминирования, но и являются ее внутренней трансгрессией, то есть ее непризнанной, непристойной опорой.
Что же произошло после отмены Кодекса Хейса? Среди ярких примеров внутренней трансгрессии в «эпоху, пришедшую после кодекса» – такие недавно вышедшие на экраны фильмы, как «Мосты округа Мэдисон» (The Bridges of the Madison County) и «Лучше не бывает» (As Good As It Gets). Всегда следует помнить о том, что в «Мостах округа Мэдисон» (киноверсия романа) адюльтер Франчески в итоге спас три брака: ее собственный (память о четырех днях, наполненных страстью, позволяет Франческе терпеть совместную жизнь со скучным супругом), а также браки двух ее детей, которые, потрясенные признанием матери, примирились со своими партнерами.
Недавно в прессе писали, что в Китае, где этот кинофильм пользовался огромной популярностью, даже официальные идеологи восхищались утверждением в нем семейных ценностей: Франческа остается со своей семьей, она ставит свои семейные обязанности выше любовной страсти. Конечно, нашей первой реакцией будет мысль о том, что глупые коммунистические моралисты упустили из виду самое главное – это трагический фильм, Франческа утратила свою настоящую любовь, ее отношения с Кинкейдом были самым главным событием всей ее жизни… Однако на более глубоком уровне китайские моралисты-бюрократы оказались правы: этот фильм действительно утверждает семейные ценности, эту связь было нужно прекратить, прелюбодеяние – это внутренняя трансгрессия, которая поддерживает семейные отношения.
В «Лучше не бывает» ситуация еще более парадоксальна: разве цель фильма не заключается в том, чтобы мы насладились двумя часами отсутствия политической корректности, потому что знаем, что в итоге герой, которого сыграл Джек Николсон, обретет золотое сердце и полностью исправится, отказавшись от своего стиля жизни? Здесь мы снова сталкиваемся со структурным проявлением внутренней трансгрессии, хотя это уже не мотивы непокорности, подавляемые доминирующей патриархальной идеологией (наподобие femme fatale в фильмах нуар), а радостное погружение в неполиткорректные, расистские/сексистские эскапады, запрещенные доминирующим либеральным, толерантным режимом. Короче говоря, здесь подавляется «плохой» аспект.
В отличие от логики femme fatale, позволяющей мириться с унижением патриархальных устоев, потому что в итоге, как мы знаем, для нее настанет час расплаты, в настоящем случае нам разрешается радоваться неполиткорректным выходкам Николсона, ведь нам известно, что в конечном счете его ждет искупление. В этом фильме также сохранена структура пары: неполиткорректный Николсон должен отказаться от своих выходок, чтобы вступить в правильные гетеросексуальные отношения. В этом смысле фильм рассказывает нам печальную историю о предательстве собственной этической (эксцентрической) позиции. Когда Николсон «нормализуется» и превращается в теплого, заботливого человека, он утрачивает свою настоящую этическую позицию, которая и делала его привлекательным. В итоге мы получаем образцовую ячейку общества в лице двух скучных супругов.
Как можно сломать структуру «внутренней трансгрессии»? Выход из структуры осуществляется с помощью акта: акт – это то, что разрушает любовную фикцию, не имеющую прямого отношения к фильму и навязанную внутренней трансгрессией[228]228
Понимание моральной свободы, прагматически выраженное в пословицах или в великой французской традиции моралистов, начинающейся с явления Ларошфуко, оппозиционно Акту: так называемые максимы свободы заключаются в однообразных вариациях того, как катастрофично следовать за своим желанием, и того, что единственный способ обрести счастье – научиться искать компромиссы с ним. По этой причине моральные истории Эрика Ромера – на самом деле один из вариантов французской интерпретации этики психоанализа Лакана (ne pas céder sur son désir – «не идите на компромисс со своим желанием»); шесть рассказов о том, как заработать или защитить счастье с помощью компромисса с желанием. Матрица всех фильмов включает героя-мужчину, поставленного перед выбором между идеальной женщиной, его будущей женой, и искусительницей, которая будит в нем желание страстных приключений. Как правило, герой – не пассивный объект женских авансов, скорее, он активно конструирует детальный фантазмический сценарий приключения только для того, чтобы быть способным сопротивляться соблазнению. Коротко говоря, он жертвует приключением в порядке повышения ценности предстоящей женитьбы. Финальная формула таких фильмов (отчасти насмешливо поддерживаемая Ромером) такова: фантазировать о запрещенном любовном приключении, но не превращать фантазию в акт, позволять приключению оставаться приватной фантазией о том, что «могло бы быть», фантазией, которая позволяет поддерживать брак. См. прекрасное исследование: Bonitzer P. Eric Rohmer. Paris: Cahiers du Cinéma, 1993.
[Закрыть]. Жак-Ален Миллер полагает, что истинная женщина определяется некоторым радикальным актом: акт осуществляется через мужчину, ее партнера, в этом акте женщина разрушает или даже полностью уничтожает то, что «больше его самого», что «значит для него все», то, что ему дороже собственной жизни; акт осуществляется через уничтожение ценности, вокруг которой строится жизнь мужчины[229]229
См.: Miller J.-A. Des semblants dans Ia relation entre les sexes // La Cause freudienne 36. Paris. 1997. № 36. P. 7–15.
[Закрыть]. Показательная фигура такого акта в литературе – Медея, которая, узнав, что Ясон, ее муж, собирается оставить ее ради молодой женщины, убивает двух своих маленьких детей, то есть уничтожает самое ценное, что было у Ясона. В этом ужасном акте разрушения, по определению Лакана, Медея действует как une vraie femme, настоящая женщина. (Другой пример Лакана – это акт жены Андре Жида: после смерти мужа она сожгла все любовные письма Жида, адресованные ей, так как они были самым ценным, что у него было[230]230
См.: Lacan J. La jeunesse de Gide // Écrits. Paris: Seuil, 1966.
[Закрыть].)
Нельзя ли подобным образом интерпретировать уникальную фигуру femme fatale в неонуаре 1990-х гг., примером которой может служить актриса Линда Фиорентино в «Последнем соблазнении» (The Last Seduction) Джона Даля? В отличие от классической femme fatale 1940-х гг., чье присутствие иллюзорно и призрачно, новую femme fatale характеризуют прямолинейная, неразговорчивая, сексуальная агрессия, ментальная и физическая; самотоваризация и самоиспользование; принцип «ум – сводник, тело – развратник». Рекламный слоган к фильму хорошо отражает сущность новой femme fatale: «У большинства людей есть темная сторона… У нее нет никакой другой». Показательны два диалога: классический обмен двусмысленностями о «скоростных ограничениях», который завершает первую встречу между Барбарой Стэнвик и Фредом Макмюрреем в фильме «Двойная страховка» (Double Indemnity) Билли Уайлдера, и первая встреча Линды Фиорентино с ее партнером в «Последнем соблазнении» Джона Даля, во время которой она откровенно расстегивает его штаны, залезает в них и проводит экспертизу товара (пениса) до того, как принять его в качестве любовника: «Я никогда не покупаю то, чего не вижу своими глазами»; показательно также, что Линда отвергает любые «теплые человеческие отношения» с сексуальным партнером[231]231
Здесь я опираюсь на беседу с Кейт Стейблз (BFI, Лондон).
[Закрыть]. Как брутальная самотоваризация, низведение самой себя и своего партнера до объекта удовлетворения и эксплуатации действуют на статус femme fatale, якобы разрушающей патриархальную свободу слова?
Следуя стандартной феминистской теории кино, в классическом нуаре femme fatale оказывается эксплицитно наказана; ее уничтожают за самоутверждение и подрыв мужского патриархального господства, за то, что она представляет угрозу: «Миф о сильной, сексуально агрессивной женщине сначала чувственно выявляет ее опасную силу и ее пугающие действия, а затем разрушает все это, тем самым выражая напрасность женской угрозы мужскому господству»[232]232
Place J. Women in film noir // Women in film noir / ed. Ann Kaplan. London: BFI, 1980. P. 36.
[Закрыть]. Femme fatale таким образом «в конечном счете лишается физической привлекательности, влияния на камеру и реально или символически подчиняется сюжету, власть которого над ней проявляется и выражается визуально… иногда она счастлива под защитой любовника»[233]233
Place J. Women in film noir // Women in film noir / ed. Ann Kaplan. London: BFI, 1980. P. 45.
[Закрыть]. Однако, хотя ее и уничтожают или приручают, образ femme fatale переживает физическое уничтожение, оставаясь доминирующим элементом сцены. В том, каким образом характер фильма искажает и низлагает его эксплицитную нарративную линию, заключается разрушительный характер фильмов нуар. В отличие от классических фильмов нуар, неонуар 1980-х и 1990-х гг., начиная с «Жара тела» (Body Heat) Касдана и заканчивая «Последним соблазнением», позволяет femme fatale открыто, на уровне явного нарратива, побеждать, приуменьшая значение партнера до сосунка, осужденного на смерть; она живет богато и одиноко, оставляя в прошлом мертвое тело своего любовника. Она не проживает свою жизнь в качестве призрачной «бессмертной» угрозы, которая либидозно доминирует на сцене даже после своего физического или социального исчезновения; она – открытый триумфатор в самой социальной реальности. Как это влияет на деструктивную сторону фигуры femme fatale? Разве тот факт, что ее триумф реален, не подтачивает ее намного более значимый (можно даже соблазниться назвать его возвышенным) призрачный/фантазмический триумф: вместо призрачной всесильной угрозы, неустранимой при ее физическом устранении, femme fatale становится просто вульгарной, холодной, расчетливой сукой, лишенной любых эмоций? Другими словами, не находимся ли мы здесь в ловушке диалектики полной неудачи и высшей точки достижения, в которой эмпирическое уничтожение – цена за бессмертное призрачное всемогущество?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































