Текст книги "Киногид извращенца. Кино, философия, идеология"
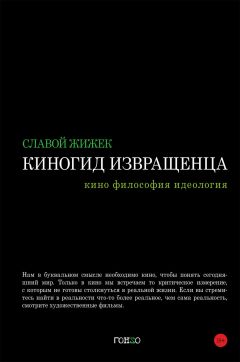
Автор книги: Славой Жижек
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 24 страниц)
В своем толковании гегелевской диалектики Господина и Раба Джудит Батлер рассматривает скрытое соглашение между ними: «для раба императив заключен в следующей формулировке: ты можешь быть для меня моим телом, но не позволяй мне узнать, что тело, которым ты являешься, мое»[135]135
Butler J. The Psychic Life of Power. Stanford: Stanford University Press, 1997. P. 47.
[Закрыть]. Таким образом, для господина имеет место двойное отрицание: сначала он отрицает собственное тело, занимает положение бестелесного желания и принуждает раба действовать как его тело; после этого раб должен отрицать, что он действует лишь как тело господина, и действовать как автономный деятель, словно телесный труд раба для господина не навязан ему, а является его собственной деятельностью…[136]136
Похоже, что с подобным двойным отрицанием мы сталкиваемся в марксистском товарном фетишизме. Сначала товар лишается своей телесной автономности и сводится к средству, воплощающему общественные отношения; затем эта сеть общественных отношений проецируется на товар как его непосредственное материальное качество, словно товар сам по себе имеет определенную ценность или деньги сами по себе являются универсальным эквивалентом.
[Закрыть] Эта структура двойного (и поэтому самоуничтожающегося) отрицания также отражает патриархальную матрицу отношений между мужчиной и женщиной: сначала женщина определяется как простая проекция/отражение мужчины, его несубстанциальная тень, истерически имитирующая, но вечно неспособная действительно достичь нравственной высоты полностью развитой, обладающей собственной идентичностью личности. Однако сам этот статус простого отражения также необходимо отрицать, так что женщина получает ложную автономию, словно образ ее действий соответствует логике патриархата благодаря ее собственной автономной логике (женщины «по природе» склонны к подчинению, самопожертвованию, сострадательны…). Здесь не следует упускать из виду тот парадокс, что раб (слуга) тем больше становится слугой, чем сильнее (ложно) воспринимает свое положение как положение автономного деятеля; то же самое можно сказать о женщине: крайняя форма ее рабства – это (ложное) восприятие себя в тот момент, когда она как автономный деятель принимает «женский» покорно-сострадательный образ действий. По этой причине онтологическая диффамация женщины как простого «симптома» мужчины, как воплощения мужской фантазии, как истерической имитации подлинной мужской субъективности, будучи открыто признанной и полностью принятой, имеет существенно больше подрывной силы, чем ложное прямое утверждение автономности женщины, – возможно, предельным феминистским утверждением могло бы быть открытое заявление: «Я не существую сама по себе, я лишь воплощенная фантазия Другого»…[137]137
Возможно, это парадоксальное двойное отрицание позволяет нам увидеть подрывной потенциал мазохистского договора: в нем отрицание второго уровня скрыто, т. е. слуга открыто принимает позицию слуги, а поскольку он становится слугой тем больше, чем больше (ложно) оценивает свое положение как положение автономного деятеля, он тем самым (на уровне «субъекта провозглашения») фактически утверждает себя как автономного деятеля. Иными словами, мазохизм позволяет нам получить вместо рабства под маской автономной деятельности автономную деятельность под маской рабства.
[Закрыть]
Таким образом, в «Солярисе» мы видим два самоубийства Хари: первое – во время ее прежнего, земного, «реального» существования как жены Кельвина, а затем второе – героический акт самостирания ее призрачного неживого и немертвого существования; в то время как первое самоубийство было простым бегством от тяжести жизни, второе является подлинно этическим актом. Иными словами, если первая Хари до своего самоубийства на Земле была «обычным человеческим существом», вторая – Субъект в самом радикальном смысле этого слова именно в силу того, что она лишена последних крупиц своей субстанциальной идентичности (как сама она говорит в фильме: «Нет, это не я… Я не Хари… Скажи… Я… тебе очень противно, что я такая?»). Разница между Хари, являющейся Кельвину, и «чудовищной Афродитой», являющейся Гибаряну, одному из коллег Кельвина по космическому кораблю (в романе, а не в фильме – в фильме Тарковский заменил ее невинной светловолосой девушкой), в том, что призрак Гибаряна принадлежит не воспоминаниям о «реальной жизни», а чистой фантазии: «В мою сторону мягкой, покачивающейся походкой молча шла огромная негритянка. Я видел блестящие белки ее глаз и слышал тихое шлепанье ее босых ног. На ней не было ничего, кроме юбки из желтой плетеной соломы; ее громадные груди свободно раскачивались, а черные руки были толстыми, словно бедра»[138]138
Lem S. Solaris. New York: Harcourt, Brace & Company, 1978. P. 30. (Цит. в переводе Г. А. Гудимова, В. М. Перельмана по изд.: Лем С. Собр. соч. в 10 т. Т. 2. М.: Текст, 1992. С. 30. – Примеч. ред.)
[Закрыть]. Не выдержав столкновения с этим первобытным материнским фантазматическим призраком, Гибарян умирает от стыда.
Разве не является находящаяся в центре истории планета из загадочной, кажущейся разумной материи, которая в каком-то смысле есть непосредственная материализация Мысли, очередным характерным примером лакановской Вещи как «Непотребного Желе»[139]139
Формулировка Тони Хоу (Университет Мичигана, Энн-Арбор), на чье прекрасное эссе «Solaris and the Obscenity of Presence» я здесь опираюсь.
[Закрыть], травматической Реальности, точки схлопывания символической дистанции, точки, в которой не нужна речь, не нужны знаки, поскольку в ней мысль напрямую входит в Реальность? Этот гигантский мозг, этот Другой-Вещь связан со своего рода психотическим коротким замыканием: устраивая короткое замыкание диалектики вопроса и ответа, потребности и удовлетворения, он дает или, скорее, навязывает нам ответ, прежде чем мы успели задать вопрос, непосредственно материализуя глубинные фантазии, на которых основано наше желание. Солярис – это машина, генерирующая/материализующая в реальности мое предельное фантазматическое объектное дополнение/партнера, которое я никогда не буду готов принять в реальности, хотя вся моя психическая жизнь вращается вокруг него.
Жак-Ален Миллер[140]140
См.: Miller J.-A. Des semblants dans la relation entre les sexes // La Cause freudienne 36. Paris, 1997. P. 7–15.
[Закрыть] устанавливает различие между женщиной, принимающей свое несуществование, свою конструктивную нехватку («кастрацию»), то есть пустоту субъективности в самом своем сердце, и женщиной, которую он называет la femme à postiche, фальшивой, поддельной женщиной. Эта la femme à postiche – совсем не тот образ, который может нам подсказать здравый смысл консервативной мудрости (женщина, не доверяющая своему естественному очарованию, бросающая свое призвание воспитания детей, служения мужу, заботы о доме и проч. и отдающаяся феерии модной одежды и макияжа, декадентского промискуитета, карьеры и т. д.), – это почти прямая противоположность ему: женщина, находящая укрытие от пустоты в самом сердце своей субъективности, от характеризующего ее существование «необладания этим» – в фальшивой уверенности в «обладании этим» (она обеспечивает стабильную опору для семейной жизни, растит детей – свою подлинную собственность и т. п.), – такая женщина производит впечатление существа, твердо стоящего на земле (и получает от этого ложное удовлетворение), удовлетворенного своей самодостаточной жизнью и круговоротом повседневности (ударяться в разгул – удел ее мужчины, в то время как она будет вести свою спокойную жизнь и играть роль тихой гавани, в которую он в любой момент может вернуться…). (Самый простой для женщины способ «обладать этим» – это, разумеется, завести ребенка, и поэтому для Лакана между Женщиной и Матерью существует крайний антагонизм: в отличие от женщины, которая n’existe pas, не существует, мать определенно существует.) Здесь интересно отметить, что вопреки разумным ожиданиям именно женщина, которая «обладает этим», самодовольная femme à postiche, отрицающая свою нехватку, не только не представляет угрозы для патриархальной мужской идентичности, но даже служит ее щитом и опорой, тогда как, в отличие от нее, женщина, выставляющая напоказ свою нехватку («кастрацию»), предстает как истерическая совокупность видимостей, скрывающих Пустоту, и является серьезной угрозой мужской идентичности. Иными словами, парадокс в том, что чем сильнее женщина оклеветана, чем сильнее сводится к непоследовательной и несубстанциальной совокупности видимостей, сосредоточенных вокруг Пустоты, тем больше она угрожает жесткой мужской субстанциальной идентичности (этот парадокс служит центральной точкой всех трудов Отто Вейнингера); с другой стороны, чем больше женщина становится жесткой, самодостаточной Субстанцией, тем сильнее она поддерживает мужскую идентичность.
Это противопоставление – ключевой компонент вселенной Тарковского – отчетливее всего проявляется в «Ностальгии», где герой, русский писатель, путешествующий по Северной Италии в поисках рукописей жившего там русского композитора девятнадцатого века, разрывается между Эудженией (истерической женщиной, существом-с-нехваткой, отчаянно пытающейся соблазнить его ради своего сексуального удовлетворения) и своими воспоминаниями о материнской фигуре русской жены, которую он покинул. Вселенная Тарковского крайне мужецентрична, ориентирована на противопоставление женщины и матери: сексуально активная соблазнительная женщина (привлекательность которой обозначается серией зашифрованных сигналов, таких как распущенные длинные волосы Эуджении в «Ностальгии») отвергается как ненастоящее, истерическое существо, ей противопоставляется материнская фигура с туго заплетенными и уложенными волосами. Для Тарковского в тот момент, когда женщина признает себя сексуально привлекательной, она жертвует самым драгоценным в себе, духовной сущностью своего существа, таким образом обесценивая себя, превращаясь в стерильный способ существования: вселенную Тарковского пропитывает плохо скрываемое отвращение к соблазнительной женщине, к фигуре, склонной к истерическим метаниям, – он предпочитает успокаивающее и стабильное присутствие матери. Это отвращение раскрывается в отношении героя (и режиссера) к продолжительному истерическому приступу, во время которого Эуджения выплескивает на героя свои обвинения, после чего уходит от него.
Именно на этом фоне следует толковать пристрастие Тарковского к статичным общим планам (или кадрам, в которых имеет место лишь медленное горизонтальное или сопровождающее движение камеры). Эти планы могут работать в двух противоположных направлениях, оба из которых ярко представлены в «Ностальгии»: они либо основаны на гармоничных отношениях со своим содержанием, обозначая желанное духовное Примирение, найденное не в Возвышении над силой притяжения Земли, но в полной покорности инерции (самый длинный план во всем произведении – когда русский герой медленно-медленно идет с зажженной свечой в руках по растрескавшемуся пустому бассейну – бессмысленное испытание, которое погибший Доменико предписывает ему пройти в качестве пути к спасению; важно, что в конце фильма, когда, вслед за первой безуспешной попыткой, герою удается дойти до противоположной стороны бассейна, он падает замертво – полностью удовлетворенный и примиренный), – либо, что еще интереснее, основываются на контрасте между формой и содержанием, подобно общему плану направленного на героя истерического припадка Эуджении, в котором она мешает сексуально-соблазнительные, притягательные жесты с презрительными, безапелляционными репликами. Кажется, что в этом эпизоде Эуджения протестует не только против усталого безразличия героя, но и в каком-то смысле против тихого безразличия статического общего плана, не позволяющего себе быть потревоженным ее истерикой, – здесь Тарковский – полная противоположность Кассаветесу, в шедеврах которого (женские) истерические припадки были сняты ручной камерой в максимальном приближении, словно сама камера поддавалась динамике истерического приступа, странным образом искажая разъяренные лица и тем самым лишаясь стабильности собственной точки зрения…
«Солярис», однако, дополняет этот стандартный, хотя и отрицаемый мужской сценарий ключевой особенностью: структура женщины как симптома мужчины может функционировать лишь до тех пор, пока мужчина противостоит Другой Вещи, не имеющей центра, неясной машине, «читающей» его сокровенные мечты и возвращающей их ему как симптом, как его собственное послание в истинной форме, которое он, как субъект, не готов признать. Именно поэтому следует отвергнуть юнгианское толкование «Соляриса»: задача Соляриса не просто в проекции, материализации отрицаемых внутренних импульсов (мужского) субъекта – гораздо важнее то, что для возникновения «проекции» недостижимая Другая Вещь должна уже быть здесь: настоящая загадка – в присутствии этой Вещи. Проблема Тарковского в том, что сам он, очевидно, отдает предпочтение юнгианскому толкованию, согласно которому внешнее путешествие – лишь внешнее проявление и/или проекция внутреннего инициационного путешествия в глубины собственной психики. В одном из интервью он говорит о «Солярисе» так: «Возможно, в сущности, миссия Кельвина на Солярисе имеет лишь одну цель: показать, что всему живому необходима любовь другого. Человек без любви – уже не человек. Цель всей “соляристики” – показать, что человечество должно любить»[141]141
Цит. по: Vaecque A. de. Andrei Tarkovski. Cahiers du Cinéma, 1989. P. 108.
[Закрыть]. На этом фоне явным контрастом выглядит то, что в центре романа Лема находится инертное внешнее присутствие планеты Солярис, этой «Вещи, которая думает» (если использовать полностью уместное здесь выражение Канта): смысл романа как раз в том, что Солярис остается непроницаемым Другим, коммуникация с которым невозможна, – он действительно возвращает наши глубинные отрицаемые фантазии, но вопрос «чего ты хочешь?», скрытый под этим актом, остается полностью непроясненным (Почему Оно делает это? Возможно, это чисто механическая реакция? Или Оно играет с нами в какие-то дьявольские игры? Оно помогает нам или вынуждает взглянуть в лицо отрицаемой нами истине?). Было бы интересно рассмотреть Тарковского в связи с коммерческими голливудскими киноадаптациями романов: Тарковский поступает в точности как самый посредственный голливудский продюсер, вписывая загадочную встречу с Другим пространством в рамки создания любовной пары…
Эту пропасть между романом и фильмом яснее всего проявляет различие в их финалах: в конце романа мы видим Кельвина на космическом корабле, одиноко всматривающегося в таинственную поверхность океана Соляриса, тогда как фильм заканчивается архетипической фантазией Тарковского о соединении в одном кадре Другого пространства, в которое помещается герой (хаотическая поверхность Соляриса), и объекта его ностальгического желания – дома, дачи, на которую он хочет вернуться, – окруженного подвижной текучей поверхностью Соляриса, – мы обнаруживаем в радикально Другом пространстве потерянный объект нашего глубочайшего желания. Если точнее, сцена поставлена очень двусмысленно: непосредственно перед этим видением один из выживших коллег по космической станции говорит Крису (герою), что, похоже, тому пора вернуться домой. После характерных для Тарковского кадров, изображающих зеленые растения в воде, мы видим Криса, примирившегося с отцом, на даче – однако камера медленно отъезжает назад и поднимается вверх, так что постепенно становится ясно: вероятно, мы только что наблюдали не настоящее возвращение домой, а видение, созданное Солярисом: дача и трава вокруг нее предстают одиноким островом на хаотической поверхности океана, еще одним материализованным им видением…
Подобной фантазматической сценой заканчивается и «Ностальгия» Тарковского: в глубине итальянской сельской местности, окруженной фрагментами развалин храма, то есть места, куда героя забросила судьба, отрезав от его корней, стоит совершенно неуместный здесь элемент – русская дача как содержание мечтаний героя; здесь сцена также начинается с крупного плана героя, лежащего перед своей дачей, так что на миг может показаться, будто он действительно вернулся домой; затем камера медленно отъезжает назад, чтобы обнаружить абсолютно фантазматическое положение дачи в центре итальянской деревни. Поскольку эта сцена следует за успешным завершением героем жертвенно-компульсивного жеста – он пронес горящую свечу через бассейн, после чего рухнул на землю и умер, или, по крайней мере, мы приходим к такому выводу, – возникает искушение рассматривать последние кадры «Ностальгии» не просто как мечту героя, но как сверхъестественное место, появляющееся после кончины героя и представляющее его смерть: невозможное сочетание итальянской сельской местности, в которую заброшен герой, и объекта его желания в момент смерти. (Этот смертельно-невозможный синтез предвосхищается более ранним эпизодом сна, в котором Эуджения соединяется в объятиях с русской женой героя, фигурой, олицетворяющей мать.) Здесь мы имеем дело с феноменом, с местом, с опытом сна, которые уже не могут быть субъективизированы, то есть со своего рода не поддающимся субъективизации феноменом, с уже ничьим сном, со сном, который может возникнуть лишь после того, как субъект прекращает свое существование… Таким образом, эта заключительная фантазия является искусственным продуктом, сопоставлением несовместимых точек зрения, чем-то похожим на стандартный тест у окулиста, когда одним глазом мы видим пещеру, а вторым – попугая, но если зрение скоординировано правильно, то, открыв оба глаза, мы увидим попугая в пещере. (Недавно, не пройдя тест, я поделился с медсестрой предположением о том, что результат мог бы быть лучше, если бы моя мотивация была сильнее, например, если бы вместо попугая и пещеры изображались эрегированный пенис и открытое влагалище, так чтобы, если смотреть обоими глазами, пенис оказывался во влагалище, – бедная старушка выставила меня за дверь… А между прочим, мое скромное предложение было обоснованным, поскольку, согласно Лакану, любая фантазматическая гармоничная координация – в которой один элемент полностью подходит другому – в конечном итоге основана на модели успешных сексуальных отношений, в которых мужской половой орган подходит к женскому отверстию «как ключ к замочной скважине»[142]142
Возможно, показательным примером такой фантазматической конструкции, объединяющей гетерогенные и несовместимые друг с другом элементы, является мифическое Королевство / Герцогство Руритания, пространство, расположенное в воображаемой Восточной Европе и соединяющее католическую Центральную Европу с Балканами, благородную консервативную феодальную традицию Центральной Европы с дикостью Балкан, современность (поезд) с примитивным крестьянством, «первобытную» дикость Монтенегро с «цивилизованным» чешским пространством (подобными примерами изобилует, например, «Пленник Зенды», Prisoner of Zenda).
[Закрыть].)
Тарковский добавил не только финальную сцену, но и новое начало: в то время как роман открывается космическим путешествием Кельвина на Солярис, местом действия первого часа фильма является стандартная для Тарковского русская сельская местность с дачей, где Кельвин прогуливается, промокает под дождем и погружается во влажную землю… Мы уже обращали внимание, что, в отличие от фильма с его фантазматической развязкой, роман заканчивается тем, что Кельвин в одиночестве созерцает поверхность Соляриса, сильнее, чем когда-либо, осознавая, что здесь он столкнулся с Другим пространством, контакт с которым невозможен. Таким образом, планету Солярис следует рассматривать в строгих кантианских терминах как невозможный призрак Мысли (Мыслящую Субстанцию), как Вещь-в-себе, как ноуменальный объект. Для Соляриса-Вещи чрезвычайно важно сочетание полной инаковости с крайней, абсолютной близостью: Солярис-Вещь – это «мы сами», наше недосягаемое ядро даже в большей степени, чем Бессознательное, поскольку это Другое пространство непосредственно «является» нами, воплощает «объективно-субъективный» фантазматический центр нашего существа. Таким образом, коммуникация с Солярисом-Вещью не удается не потому, что Солярис слишком чужой, представитель Разума, бесконечно превосходящего наши ограниченные способности и играющего с нами в извращенные игры, цель которых никогда не станет нам ясна, а потому, что он слишком сильно приближает нас к тем вещам внутри нас, по отношению к которым мы должны сохранять дистанцию, если хотим поддержать целостность своей символической вселенной, – будучи совершенно Другим, Солярис порождает призрачные феномены, подчиняющиеся нашим глубинным идиосинкразическим прихотям, то есть если и существует кукловод, тянущий за ниточки происходящего на поверхности Соляриса, это мы сами, «Вещь, которая думает» в нашем сердце. Здесь главный урок – это противостояние, даже антагонизм, между большим Другим (символическим Порядком) и Другим-Вещью. Большой Другой «в клетке» – это виртуальный порядок символических правил, представляющих каркас для коммуникации, тогда как в случае Соляриса-Вещи большой Другой уже не «в клетке», не полностью виртуален – в нем Символическое обрушивается в Реальность, язык начинает существовать как Реальная Вещь.
Другой научно-фантастический шедевр Тарковского, «Сталкер», создает контрапункт для слишком-очевидно-присутствующей Вещи – пустоту запретной Зоны. Двадцать лет назад некая загадочная чужая сущность (метеорит, пришельцы) посетила область, известную как Зона, расположенную в безымянной холодной стране, оставив за собой горы мусора. Считается, что в этой смертельно опасной Зоне, изолированной и охраняемой военными, исчезают люди. Сталкеры – это авантюристы, за хорошую плату сопровождающие людей в Зону, в загадочную Комнату в самом сердце Зоны, где, как утверждают, сбываются самые заветные мечты. Фильм рассказывает историю сталкера, обычного человека, имеющего жену и дочь-калеку, обладающую способностью чудесным образом перемещать предметы, который ведет в Зону двух интеллектуалов – Писателя и Ученого. Когда они наконец добираются до Комнаты, то им не хватает веры, чтобы произнести свои желания, тогда как желание Сталкера о том, чтобы его дочь излечилась, похоже, исполняется.
Как и в случае «Соляриса», Тарковский изменил смысл романа: в романе братьев Стругацких, на котором основан фильм, Зоны (их шесть) – это остатки «пикника на обочине», то есть краткой остановки на нашей планете пришельцев, которые тут же и покинули ее, не найдя ничего интересного; сами сталкеры также представлены в более авантюрном ключе: не как преданные своему делу люди, находящиеся в мучительном духовном поиске, но как ловкие мусорщики, организующие грабительские экспедиции и чем-то похожие на хрестоматийных арабов, устраивающих набеги на пирамиды (еще одна разновидность Зоны) для богатых европейцев, – и действительно, не являются ли пирамиды с точки зрения научно-фантастической литературы остатками инопланетной мудрости? Таким образом, Зона – это не чисто ментальное фантазматическое пространство, в котором человек встречает (или на которое проецирует) истину о себе, но (подобно Солярису в романе Лема) материальное присутствие, Реальное абсолютно Другого пространства, несовместимого с правилами и законами нашей Вселенной. (Именно поэтому в конце романа с самим героем, нашедшим «Золотой шар» – аналог Комнаты, в которой в фильме исполняются желания, – происходит что-то вроде духовной трансформации, но этот опыт больше похож на то, что Лакан называет «субъективным опустошением», на внезапное осознание полной бессмысленности наших социальных связей, разрушение нашей привязанности к самой реальности, когда другие люди внезапно лишаются реальности, сама реальность воспринимается как беспорядочный вихрь форм и звуков, и мы больше не можем сформулировать свое желание…) В «Сталкере», так же как и в «Солярисе», «идеалистическая мистификация» Тарковского заключается в том, что он уклоняется от столкновения с радикально Другой бессмысленной Вещью, сводя встречу с ней к «внутреннему путешествию» к собственной Истине.
Именно эта несовместимость нашей собственной и чужой вселенных отражена в заглавии романа: странные объекты, которые обнаруживаются в притягивающей людей Зоне, по всей вероятности, просто хлам, оставшийся от инопланетян после недолгого пребывания на нашей планете, – такой же, как мусор, оставляемый людьми после пикника у лесной дороги… Так что типичный для Тарковского пейзаж (заброшенные человеком строения, которые природа уже наполовину вернула себе) – это именно то, что в романе характеризует саму Зону с (невозможной) точки зрения инопланетных гостей: то, что для нас Чудо, встреча с удивительной и непостижимой Вселенной, для пришельцев всего лишь обычные отбросы… В таком случае нельзя ли сделать вывод в духе Брехта о том, что типичный для Тарковского ландшафт (разрушающаяся человеческая среда, которой вновь завладевает природа) подразумевает взгляд на нашу Вселенную с точки зрения воображаемого Чужого? Получается, что пикник здесь является прямой противоположностью пикника у Висячей скалы: мы не вторгаемся в Зону во время воскресного пикника – сама Зона является продуктом пикника Пришельцев…
У гражданина ныне покойного Советского Союза понятие о запретной Зоне вызывает (по меньшей мере) пять ассоциаций. Зона – это (1) ГУЛАГ, то есть отгороженная от остального мира территория тюрьмы; (2) территория, отравленная или ставшая непригодной для обитания в результате некоей техногенной (биохимической, ядерной) катастрофы, наподобие чернобыльской; (3) уединенные имения, в которых проживает номенклатура; (4) заграничная территория, доступ на которую закрыт (например, закрытый Западный Берлин в самом центре ГДР); (5) территория, на которую упал метеорит (например, Тунгуска в Сибири). Смысл, разумеется, в том, что вопрос «Так что же означает “Зона” на самом деле?» сам по себе не верен и сбивает с толку: первичное значение имеет сама неопределенность того, что лежит за Границей, и этот пробел заполняется различным позитивным содержанием.
«Сталкер» является идеальным примером этой парадоксальной логики Границы, отделяющей нашу повседневную реальность от фантазматического пространства. Фантазматическое пространство «Сталкера» – это таинственная «Зона», запретная земля, на которой происходит необъяснимое, на которой сбываются тайные желания, на которой человек может найти технологические гаджеты, еще не изобретенные в нашей повседневной реальности, и т. д. Только преступники и авантюристы готовы пойти на риск и вторгнуться в эту область фантазматического Другого пространства. При толковании произведения Тарковского с позиций материализма следует подчеркнуть роль самой Границы: загадочная Зона – в сущности, то же самое, что и наша обыденная реальность; атмосферу таинственности ей придает сама Граница, то есть тот факт, что Зона обозначена как недоступная, запретная. (Не удивительно, что, когда герои в конце концов входят в таинственную Комнату, они понимают, что в ней нет ничего особенного или выдающегося, – и Сталкер умоляет их не распространять эту новость среди людей вне Зоны, чтобы не лишать их приятных иллюзий…) Иначе говоря, здесь обскурантистская мистификация заключается в акте инверсии истинного причинно-следственного порядка: Зона запретна не потому, что обладает некими «слишком сильными» для обыденного восприятия реальности свойствами – она демонстрирует эти свойства, потому что объявлена запретной. Формальный жест исключения части действительности из нашей обыденной реальности и объявления ее запретной Зоной первичен[143]143
По этой же логике создается имитация бизнес-класса в экономклассе самолетов British Airways: несколько лет назад под видом влажных полотенец мне подали там обычные бумажные салфетки, уложенные на подносе и раздаваемые при помощи щипцов. Кроме того, в небольших самолетах отделение бизнес-класса от экономического часто имеет чисто символический характер: барьер в виде занавески постоянно сдвигается в зависимости от количества проданных билетов бизнес-класса.
[Закрыть]. Можно также процитировать самого Тарковского: «Меня часто спрашивают, что обозначает эта Зона. Возможный ответ всего один: Зоны не существует. Зону выдумал сам Сталкер. Он создал ее, чтобы иметь возможность приводить туда очень несчастных людей и внушать им призрачную надежду. Комната желаний – тоже творение Сталкера, еще одна провокация, брошенная в лицо материальному миру. Эта провокация, созревшая в мозгу Сталкера, равносильна акту веры»[144]144
Vaecque A. de. Op. cit. P. 110.
[Закрыть]. Гегель подчеркивал, что в области сверхчувственного, скрытой вуалью видимостей, нет ничего, кроме того, что вкладывает туда при взгляде на нее сам субъект…
В чем же тогда заключается противопоставление Зоны (в «Сталкере») и планеты Солярис? Разумеется, это противопоставление легко сформулировать в лакановских терминах: это противопоставление двух крайностей – избытка Вещества в символической сети (Вещь, для которой в этой сети нет места, которая ускользает от ее хватки) и избытка (пустого) Места в веществе, в составляющих его элементах (Зона – это чистая структурная пустота, составленная/определенная как символический Барьер: за этим барьером, в Зоне, нет ничего и/или присутствуют в точности такие же вещи, как и вне Зоны). Это противопоставление символизирует противопоставление побуждения и желания: Солярис – это вещь, воплощение слепого либидо, в то время как Зона – это пустота, дающая основу для желания. Это противопоставление также объясняет различие в отношениях Зоны и Соляриса с либидинальной экономикой субъекта: в сердце Зоны есть «комната желаний», и когда субъект проникает в это место, его желания исполняются, тогда как Вещь-Солярис возвращает приближающимся к нему субъектам не их желания, а травматическое ядро их фантазии, синтом, заключающий в себе их отношение к jouissance, которому они сопротивляются в повседневной жизни.
Таким образом, невозможность движения в «Сталкере» противопоставляется невозможности движения в «Солярисе»: в «Сталкере» эта невозможность связана с неспособностью (свойственной нам, развращенным, рефлексирующим, неверующим современным людям) достигнуть состояния чистой веры, непосредственного желания – когда вы входите в нее, Комната в сердце Зоны обречена оставаться пустой, вы не в состоянии сформулировать свое желание. Проблема же Соляриса заключается в чрезмерности удовлетворения: ваши желания исполняются/материализуются прежде, чем вы помыслите о них. В «Сталкере» вы никогда не можете достигнуть, добраться до уровня чистого, невинного желания/веры, тогда как в «Солярисе» ваши мечты/фантазии сбываются заранее, в рамках психотической структуры, где ответ предшествует вопросу. По этой причине в «Сталкере» основное внимание уделяется проблеме уверенности/веры: Комната действительно исполняет желания, но лишь тех, кто верит абсолютно и непосредственно – именно поэтому, когда три путешественника в конце концов оказываются на ее пороге, они боятся войти внутрь – они не уверены, каковы их истинные желания (один из них говорит, что проблема Комнаты в том, что она исполняет не то, чего, как вам кажется, вы желаете, а настоящее желание, которого вы не осознаёте). По сути, «Сталкер» обозначает основополагающую проблему двух последних фильмов Тарковского – «Ностальгии» и «Жертвоприношения»: проблему того, как, через какое испытание или жертву можно сегодня обрести невинность чистой веры. Герой «Жертвоприношения» Александр живет со своей большой семьей в уединенном доме в шведской сельской местности (на очередной версии русской дачи, которой одержимы персонажи Тарковского). Празднование его дня рождения омрачено ужасной новостью о том, что низколетящие реактивные самолеты означают начало ядерной войны между сверхдержавами. В отчаянии Александр обращается с молитвой к Богу, предлагая взять у него самое ценное, но предотвратить войну. Война «отменена», и в конце фильма Александр, совершая жест жертвоприношения, сжигает свой любимый дом, после чего его забирают в психиатрическую лечебницу…
Этот мотив исполненного чистоты бессмысленного акта, возвращающего смысл в нашу земную жизнь, является центром двух последних фильмов Тарковского, снятых за рубежом; в обоих случаях этот акт совершает один и тот же актер (Эрланд Юзефсон) – как помешанный Доменико он публично сжигает себя в «Ностальгии» и как главный герой «Жертвоприношения» сжигает свой дом, самое дорогое из того, что у него есть, то, что «в нем больше его самого»[145]145
Здесь можно усмотреть связь с фильмом Ларса фон Триера «Рассекая волны», который также заканчивается актом жертвоприношения героини: если она пойдет на лодку с моряком-садистом и позволит ему избить себя, вероятно до смерти, эта жертва поставит на ноги ее мужа-калеку.
[Закрыть]. Этому жесту бессмысленного жертвоприношения можно придать значение невротического обсессивно-компульсивного акта: если я совершу это (жертвенный жест), Катастрофа (в «Жертвоприношении» буквально конец света в результате атомной войны) не произойдет или будет стерта, – хорошо известный компульсивный жест: «Если я этого не сделаю (не перепрыгну два раза через этот камень, не скрещу руки особым образом и т. д. и т. п.), случится что-то ужасное». (Детская сущность этого компульсивного побуждения к жертвоприношению становится очевидной в «Ностальгии», когда герой, следуя указаниям умершего Доменико, пересекает наполовину высохший бассейн с горящей свечой в руках, чтобы спасти мир…) Как мы знаем из психоанализа, катастрофа Х, внезапного удара которой мы боимся, есть не что иное, как jouissance.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































