Текст книги "Киногид извращенца. Кино, философия, идеология"
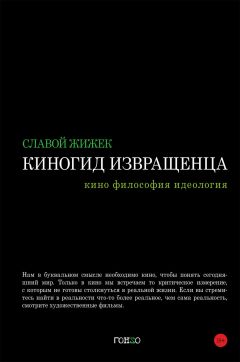
Автор книги: Славой Жижек
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 24 страниц)
Так почему же я называю попытки Ганди подорвать британскую государственность «бо́льшим насилием», чем массовые убийства Гитлера? Чтобы привлечь внимание к фундаментальному насилию, которое поддерживает «нормальное» функционирование государства (В. Беньямин называл это «мифическим насилием»), и к не менее фундаментальному насилию, которое способствует любой попытке подорвать государственную власть («божественное насилие», по Беньямину)[286]286
В языке есть аналогичный процесс. Говоря о политике, часто используют (иронически) пассивные глагольные формы – допустим, когда политик вынужден «добровольно» уйти с поста, это комментируется как «его ушли». В Китае во время культурной революции даже нейтральные глаголы, например «бороться», использовались в искусственно пассивной или искусственно активной форме; когда против обвиняемых в ревизионизме партийцев развернулась «идеологическая борьба», говорили, что «их забороли» (превращая непереходный глагол в переходный – бороться не только с кем-то, но и бороть кого-то). Подобные искажения «нормальной» грамматики служили выражению подспудного смысла; поэтому, вместо того чтобы отвергать их как искажение языковой нормы, нам следует приветствовать их как обнаружение насилия, лежащего в основании «нормы».
[Закрыть]. Вот почему государственная власть так жестко отвечает тем, кто пытается ее подорвать, и почему сама ее жестокость является при этом абсолютно «реакционной», защитной. Таким образом, далеко не эксцентрическое наполнение понятия «насилие» основывается на ключевом теоретическом постулате, который ограничивает его непосредственно видимым физическим аспектом, который, будучи далеко не «нормальным», зависит от идеологических искажений. Люди, упрекающие меня в том, что я увлекся ультрарадикальным насилием, до которого «не доходили» даже Гитлер и красные кхмеры, упускают из виду, что смысл не в том, чтобы углубиться в какой-то тип насилия, а в том, чтобы изменить всю перспективу в целом. Проявить настоящее насилие, совершить насильственный акт, ломающий все социальные рамки, непросто. Бертольт Брехт, увидевший японскую маску злого демона, отметил его ужасную гримасу и набухшие вены на лбу, «свидетельствующие о том, как изнурительно быть злым». То же касается и насилия, которое каким-либо образом влияет на систему. Культурная революция в Китае служит нам здесь уроком: разрушение памятников старины не означало отказа от прошлого – скорее, это было беспомощным passage à l’acte, свидетельствующим о том, что от прошлого нельзя избавиться. В том, что культурная революция Мао в конечном итоге привела к сегодняшнему беспримерному росту капиталистической динамики в Китае, есть своеобразная лирическая справедливость: между постоянным маоистским самореволюционированием, вечной борьбой с консервативностью государственной структуры и внутренней динамикой капитализма есть глубинное структурное сходство. Хочется еще раз перефразировать Брехта («Что такое ограбление банка по сравнению с основанием банка?»): что такое насилие и разрушительные восстания красногвардейцев в потоке культурной революции по сравнению с истинной культурной революцией – постоянным движением к уничтожению всех форм жизни, которое диктует капиталистическое воспроизводство?
То же самое касается нацистской Германии: картины жестокого истребления миллионов людей не должны вводить нас в заблуждение. Если называть Гитлера «плохим парнем», который ответственен за гибель огромного количества людей, но которому тем не менее достало мужества идти к своей цели железной поступью, – это будет не только оскорблением этических норм, но и в корне неверно, потому что Гитлеру не хватило «мужества» добиться реальных перемен. В основе всех его действий лежала реакция: на самом деле он не хотел никаких перемен; он пытался предотвратить реальную угрозу перемен, которую несли с собой коммунисты. Его нацеленность на евреев была просто актом замещения, способом избежать своего истинного врага – того, что лежит в сущности самих социальных капиталистических отношений. Гитлер поставил спектакль о Революции, чтобы дать капиталистическому строю возможность выжить. Ирония в том, что его широкий жест, демонстрирующий презрение к буржуазному самодовольству в конечном счете позволял этому самодовольству существовать: нацизм вовсе не стремился нарушить столь ненавистный «упаднический» буржуазный порядок, не стремился пробудить немецкую нацию, нацизм был сном, который помогал отсрочить ее пробуждение. И по-настоящему Германия проснулась лишь после поражения 1945 г. Если уж приводить пример поистине смелых действий, для которых человек в самом деле должен иметь достаточно мужества, чтобы совершить невозможное, но которые в то же время являются ужасающим актом насилия, принесшим несравнимые страдания, – то я назову принудительную коллективизацию конца 1920-х гг. под руководством Сталина. Несмотря на то что это беспощадное насилие обернулось массовыми репрессиями 1936–1937 гг., которые, в свою очередь, были еще одним бесплодным passage à l’acte:
Это не прицельное уничтожение врагов, а приступ слепой ярости и паники. В нем не видно никакого контроля над событиями, есть лишь понимание того, что в режиме полностью отсутствует отрегулированный механизм контроля. Это воплощение не политики, а ее провала. Это признак того, что попытка править только силой обречена на неудачу[287]287
Getty J. A., Naumov O. V. The Road to Terror. Stalin and the Self-Destruction of the Bolsheviks, 1932–1939. New Haven; London: Yale University Press, 1999. P. 14.
[Закрыть].
Какой же тогда должна быть сублимация насилия, чтобы по сравнению с ней жестокие убийства показались слабостью? Давайте взглянем на роман Жозе Сарамаго «[Про]зрение» (Seeing). В нем рассказывается история, произошедшая в столице некоего неназванного демократического государства. Утром в день выборов там зарядил проливной дождь, и на голосование пришло очень мало народу. Но стоило погоде улучшиться, как жители толпами хлынули к избирательным пунктам. Правительство вздохнуло с облечением, но их радость была недолгой. При подсчете голосов неожиданно оказалось, что более 70 % бюллетеней были пустыми. Обескураженные поведением жителей города власти дали им возможность исправить ситуацию, назначив дополнительные выборы через неделю. Но в этот раз результаты оказались еще хуже: 83 % пустых бюллетеней. Обе главные политические партии: правящая «правая» и, ее главный противник, центристская – в панике. А тем временем маргинальная партия «левых» проводит анализ ситуации и заявляет, что пустые бланки – это голоса в пользу ее прогрессивной кампании. Правительство не знает, как реагировать на подобный «молчаливый протест», но вместе с тем уверено, что здесь имеет место некий антидемократический заговор, поэтому быстро называет все происходящее «терроризмом чистой воды» и вводит в столице чрезвычайное положение. Временно отменяются все конституционные гарантии и принимаются радикальные меры: жителей хватают без разбору и увозят в тайные места допросов, правительство и полиция покидают столицу, блокируют въезды и выезды в город и в конце концов сами создают лидера террористического движения. Однако город продолжает жить нормальной жизнью, на любые выпады правительства люди дружно реагируют в духе философии ненасильственного сопротивления Ганди. Именно этот отказ горожан голосовать и является примером радикального «божественного насилия», которое повергает в панику власть имущих[288]288
Более детальный разбор книги Ж. Сарамаго «[Про]зрение» см.: Žižek S. Violence. London: Profile Books, 2008.
[Закрыть].
Возвращаясь к трилогии Нолана про Бэтмена, можно сказать, что фильм четко следует своей внутренней логике[289]289
Здесь я основываюсь на идее Сречко Хорвата (Srećko Horvat, Загреб).
[Закрыть]. В картине «Бэтмен: Начало» герой остается в рамках либерального порядка: систему еще можно защитить методами, не нарушающими законы морали. «Темный рыцарь» представляет собой что-то вроде новой версии классических вестернов Джона Форда («Форт Апачи», «Человек, который застрелил Либерти Вэланса»), в которых показывается, что ради того, чтобы цивилизовать Дикий Запад, необходимо «создать легенду» и игнорировать правду, – иначе говоря, что наша цивилизация должна быть основана на лжи, потому что для защиты системы нужно нарушать правила[290]290
Более детальный анализ «Темного рыцаря» дан в первой главе книги Славоя Жижека «Жизнь при конце света» (Living at the End Times. London: Verso Books, 2010).
[Закрыть]. В фильме «Бэтмен: Начало» герой представляет собой классическую фигуру городского мстителя, карающего преступников, с которыми не смогла справиться полиция; проблема здесь в том, что полиция, будучи официальным органом, следящим за соблюдением законов, неоднозначно воспринимает помощь Бэтмена: признавая его заслуги, полиция в то же время видит в нем угрозу своей монополии на власть и подтверждение собственной неэффективности. Однако нарушение Бэтменом закона носит здесь чисто формальный характер: пусть и без должного дозволения, но он действует в рамках закона и никогда не нарушает его сам. В «Темном рыцаре» уже другая система координат: истинный антагонист Бэтмена не Джокер, а Харви Дент – «белый рыцарь», новый агрессивный окружной прокурор, официально уполномоченный мститель, чья фанатичная борьба с преступностью приводит к гибели невинных людей и в конечном счете разрушает его самого. Дент – это своеобразная ответная реакция закона на ту угрозу, которую представляет собой Бэтмен. Против самоуправства «темного рыцаря» система, попирая закон, создает своего мстителя, гораздо более жестокого, чем Бэтмен, и непосредственно попирающего закон. Поэтому когда Брюс собирается публично раскрыть истинную личность Бэтмена, а Дент опережает его и называет Бэтменом себя, в этом есть некая высшая справедливость: Дент в большей степени Бэтмен, чем сам Бэтмен, поскольку он актуализирует тот соблазн нарушить закон, которому Бэтмену до сих пор удавалось сопротивляться. Поэтому же, когда в конце фильма Бэтмен берет на себя вину за преступления Дента, чтобы спасти его репутацию народного героя, дающую надежду людям, в этом есть доля истины: Бэтмен как бы возвращает долг Денту. Его скромный поступок – это жест символического обмена: сначала Дент присваивает себе личность Бэтмена, а затем Брюс Уэйн (настоящий Бэтмен) берет на себя преступления Дента.
«Темный рыцарь: Возрождение легенды» идет по этому пути еще дальше. Не является ли Бэйн в своем самоотречении радикальным вариантом образа Дента? Дентом, который приходит к выводу о несправедливости самой системы и о том, что для эффективной борьбы с ней нужно открыто выступить против и разрушить ее? Дентом, который освободился от всех внутренних запретов и готов прибегнуть к жестокому убийству для достижения своей цели? Появление такой фигуры полностью меняет всю расстановку сил: для всех героев фильма, в том числе и для Бэтмена, мораль становится понятием относительным и определяется теперь обстоятельствами и тем, насколько ее удобно применять в каждом конкретном случае. В открытой классовой войне, где мы сталкиваемся не просто с группой сумасшедших гангстеров, а с подлинным народным восстанием, все дозволено ради защиты системы.
И что теперь? Должны ли те, кто участвует в радикальных освободительных движениях, отвергнуть этот фильм? Не все так однозначно: эту картину нужно воспринимать как китайскую политическую поэзию и учитывать как отсутствие чего-то, так и его неожиданное появление. Вспомним, например, французскую историю о жене, которая жалуется, что лучший друг ее мужа к ней пристает. Удивленный друг лишь через некоторое время понимает, что таким окольным путем женщина действительно предлагает ему ее соблазнить. Так же и бессознательное у Фрейда: оно не знает отрицания, так как по-настоящему важно не негативное суждение о чем-то, а сам факт упоминания об этом, – в фильме «Возрождение легенды» мы видим власть народа, ставшую Событием, вместо традиционных противников Бэтмена: мегакапиталистов-преступников, гангстеров и террористов.
И здесь кроется первый ключевой момент: сама вероятность того, что движение «Захвати Уолл-стрит» сможет прорваться к власти и установить народную демократию на Манхэттене, настолько абсурдна и нереалистична, что нельзя не задаться вопросом: почему авторы масштабного голливудского блокбастера вообще это придумали? Зачем будят лихо? Почему вообще фантазируют о том, как это движение обернется взрывом и насильственным захватом власти? Очевидного ответа (чтобы очернить само движение, обвинив его в потенциальном тоталитаризме) недостаточно, он не объясняет странной притягательности самой перспективы «власти народа». При этом остается неясным, как должна осуществляться такая власть (что неудивительно), ведь в фильме нет никаких объяснений, как такая власть реализуется и какие именно действия совершает поднятый народ (а ведь Бэйн говорит людям, что они могут делать все, что захотят, он не навязывает им свой порядок). Можно даже предположить, что все дело в необходимой цензуре: любой намек на самоорганизацию людей во время властвования Бэйна разрушил бы весь смысл фильма, обнаружив его несостоятельность.
Именно поэтому этот фильм заслуживает более глубокого прочтения[291]291
Я не касаюсь здесь убийств во время кинопоказа в городе Аврора, штат Колорадо, поскольку к самому фильму это отношения не имеет.
[Закрыть]: само Событие (народная республика в Готэм-сити и диктатура пролетариата на Манхэттене) имманентно фильму, это (если использовать выражение 1970-х) его «отсутствующий центр». Именно поэтому внешней критики (о том, что фильм изображает движение «Захвати Уолл-стрит» как нелепую карикатуру) здесь недостаточно, – критика должна идти изнутри, должна обнаружить в самом фильме многочисленные указания на истинное Событие. (Не нужно забывать, что Бэйн – не слепой террорист, а человек, способный на любовь и привязанность.) Проще говоря, чистая идеология здесь невозможна, и подлинная личность Бэйна должна быть восстановлена из самой ткани фильма.
Нелишним будет также попробовать представить альтернативную версию фильма – по примеру того, что сделал Ральф Файнс в «Кориолане». В его картине Кориолан (которому, как и положено, не нашлось места в иерархии изысканных правителей Рима) смог всего добиться и обрести свободу, только присоединившись в вольскам (их лидер Авфидий играет здесь роль Бэйна). При это Кориолан делает это не потому, что стремится захватить мир, просто именно там его место. Примкнув к вольскам, он не предает Рим из банального чувства мести, он лишь становится самим собой. Единственный акт предательства, который он совершает, – когда, вместо того чтобы вести армию повстанцев на Рим, он организует заключение мирного договора между вольсками и Римом, поддавшись давлению со стороны матери, которая представляет в картине истинное воплощение злого суперэго. Именно поэтому он возвращается к вольскам, зная, что его ждет заслуженное наказание за предательство[292]292
Более глубокий анализ картины Р. Файнса «Кориолан» приведен в главе 9 книги Žižek S. The Year of Dreaming Dangerously. London: Verso Books, 2012. (Изд. на рус. яз.: Жижек С. Год невозможного. Искусство мечтать опасно. М.: Европа, 2012. – Примеч. пер.)
[Закрыть]. Так почему бы не представить, как Бэтмен объединяется с армией Бэйна в Готэм-сити, помогает им практически свергнуть государственную власть, бежит, подписывает мирный договор и затем возвращается к повстанцам, зная, что его убьют за предательство?
Сосредотачиваясь на проблеме захвата власти, «Темный рыцарь: Возрождение легенды» не только травмирует сознание сегодняшних либеральных «правых», но и играет на нервах радикальных «левых», чей девиз – «Мы должны оставаться в стороне. Это идея постмодерна. Идея в том, что я должен держаться вне игр власти»[293]293
Žižek S. The Year of Dreaming Dangerously. London: Verso Books, 2012. P. 113.
[Закрыть]. Сегодня это утверждение характерно для «левосторонней» политической мысли во Франции, сосредоточенной на Государстве и госаппарате: борьба радикалов за захват власти должна вестись в стороне от государства и против него. (Здесь можно вспомнить урок Гегеля об абсолютном самоотталкивании, absoluter Gegenstoss, – именно сопротивление государству определяет его как точку отсчета.) При этом мы постоянно забываем основополагающее марксистское прозрение (сегодня ставшее особенно актуальным): фундаментальный антагонизм, который определяет современное общество, – это не оппозиция государству, но «классовая борьба» внутри общества, отдельно от государства. Другими словами, цель марксистов – не непосредственное уничтожение государства, а скорее изменение общества таким образом, чтобы оно больше не нуждалось в государстве[294]294
Сталинизм был неоднозначен во взглядах на концепцию сильного государства: Сталин однажды заметил (обращаясь к странной метафоре «органов без тела»), что в процессе строительства социализма государство ослабевает по мере усиления его, государственных, органов (имея в виду, разумеется, в первую очередь секретные органы правопорядка).
[Закрыть]. Поэтому, даже если освободительная борьба начинается как противостояние госаппарату, со временем ее цель изменяется. Ален Бадью противопоставил (как он считает) классической диалектической логике отрицания, которое порождается своим собственным движением, новый позитивизм, диалектику «утверждения», исходя из которой начальной точкой освободительного движения должно быть не отрицание, не сопротивление и не воля к разрушению, а новая «утвердительная» позиция, заключенная в самом Событии, – мы противопоставляем существующий порядок, который больше не поддерживаем, этому событию и таким образом обнаруживаем его последствия. Без этого «утверждающего» момента освободительный процесс закончится установлением нового порядка, который будет повторением старого, иногда еще более радикальным в худших его проявлениях. Этому «утверждающему» понятию диалектики можно противопоставить гегелевское представление о диалектических процессах, которые начинаются с некой утверждающей идеи, к которой они стремятся, но в которых со временем сама эта идея подвергается значительным изменениям (не только в плане тактического приспособления к ситуации, но и в плане существенного переформулирования), ибо эта идея становится частью процесса, (сверх)определяемого ее осуществлением. Скажем, мы имеем дело с восстанием во имя справедливости: как только люди втягиваются в него, они осознаю́т, что для достижения истинной справедливости нужно гораздо больше тех требований, с которых они начинали (аннулировать какие-то законы и т. п.).
Проблема, разумеется, в том, что скрывается за этим «гораздо больше»? Всем известно высказывание Уинстона Черчилля о демократии, обычно приводимое в таком виде: «Демократия – наихудшая форма правления, за исключением всех остальных». Однако на самом деле 11 ноября 1947 г. в палате общин английского парламента Черчилль произнес менее парадоксальную и искрометную фразу: «В этом грешном мире было и еще будет опробовано много форм правления. Никто не утверждает, что демократия является совершенной. На самом деле, как было сказано, демократия – наихудшая форма правления, за исключением всех тех, которые пробовались время от времени»[295]295
Неизвестно, к кому относится это «было сказано»: принадлежат ли эти слова какому-то конкретному человеку, или же Черчилль просто ссылается на народную мудрость.
[Закрыть]. Внутреннюю логику этой фразы лучше всего видно через призму лакановских «формул сексуации» – тогда она будет звучать так: «Демократия – наихудшая форма правления, однако по сравнению с ней все остальные еще хуже». Если взять все возможные системы государственного устройства и попробовать их оценить, демократия окажется в конце списка как самая худшая; однако если сравнить демократию с каждой из них, – она будет лучше любой[296]296
В логике встречается подобный парадокс нетранзитивности: если А лучше, чем В, а В лучше, чем С, это не всегда значит, что А лучше С, – если сравнить только А и С, то С может быть лучше. Объяснять это сдвигом в критериях оценки (когда мы оцениваем всю систему в целом, мы применяем один набор критериев, но когда мы сравниваем ее по частям, критерии неуловимо сдвигаются) было бы слишком просто. Да, в какой-то степени это справедливо, но проблема в том, что это сдвиг внутренний, имманентный, а не произвольный – он происходит из-за различия в признаках. К примеру, если мы будем сравнивать красоту трех человек, первый будет красивее второго, а второй – красивее третьего. Однако, если мы сравним первого и третьего, может так случиться, что по контрасту с красотой третьего человека красота первого поблекнет, и он окажется хуже третьего.
[Закрыть]. Разве не так же обстоит дело с капитализмом? Если чисто теоретически попробовать поместить его в иерархию всех возможных систем, он окажется наихудшим в силу своей неупорядоченности, несправедливости, деструктивности и т. д.; однако если сравнить его (с чисто прагматической точки зрения) с каждой из альтернатив, – капитализм будет лучше.
Такой «нелогичный» баланс между общим и частным прямо свидетельствует об эффективности идеологии. Опрос общественного мнения в США, проведенный в конце июня 2012 г. накануне принятия Верховным судом решения о реформе здравоохранения Барака Обамы, показал, что «большинство одобряет указанные в законе пункты»: «Как показал опрос, проведенный агентством Reuters/Ipsos за несколько дней до принятия решения Верховным судом США, большинство американцев выступают против реформы здравоохранения президента Барака Обамы, хотя поддерживают большую часть ее пунктов. Результаты опроса наводят на мысль, что республиканцы убеждают голосующих отклонить реформу Обамы, несмотря на то что те согласны со многими положениями: например, с положением о том, что дети могут пользоваться страховкой родителей до 26-летнего возраста»[297]297
http://news.yahoo.com/most-americans-oppose-health-law-provisions-040810861.html
[Закрыть]. И здесь мы сталкиваемся с идеологией в чистом виде: люди хотят одновременно иметь свой (идеологический) кусок пирога и съесть свой (реальный) кусок пирога, то есть хотят получить реальные блага от реформы здравоохранения, но в то же время отвергают ее идеологическую форму (которую воспринимают как угрозу своей «свободе выбора»), – они отказываются от воды, но пьют H2O – или, скорее, отвергают (концепцию) «фрукты», но при этом хотят яблок, слив, клубники и т. д.
11
«Аватар»: стратегии политкорректной идеологии
«Аватар» Джеймса Кэмерона, показательный пример марксизма по-голливудски, повествует о парализованном морском пехотинце, которого отправляют с Земли на дальнюю планету с заданием втереться в доверие к расе туземцев с голубой кожей для того, чтобы его работодатель получил доступ к природным богатствам этой планеты.
С помощью сложных биологических манипуляций разум главного героя получает контроль над своим «аватаром», телом молодого туземца. Туземцы живут в гармонии с природой и вместе с тем глубоко духовны (они могут присоединить нечто вроде кабеля, выходящего из их тел, к лошадям и деревьям, чтобы пообщаться с ними). Как и следовало ожидать, пехотинец влюбляется в прекрасную принцессу с голубой кожей и встает на сторону туземцев в решающем бою, помогая им вышвырнуть людей-завоевателей и спасти планету…
Туземцы, вооруженные только стрелами и копьями, побеждают, когда происходит своего рода réponse du réel (материальный ответ), планета сама приходит им на помощь, мобилизуя всю свою разрушительную силу против оккупантов. И в конце фильма главный герой переносит свою душу из покалеченного человеческого тела в туземный аватар, таким образом становясь настоящим туземцем.
Полная вера в фантазию
Сама трехмерная гиперреальность фильма, в котором одновременно присутствуют и актеры, и образы цифровой анимации, делает осязаемой фантазмическую жизнь на захваченной планете. Поэтому «Аватар» следует сравнивать с такими фильмами, как «Кто подставил кролика Роджера» или «Матрица», в которых герой оказывается между нашей обычной реальностью и воображаемым универсумом, будь то мультяшная реальность «Кролика Роджера», цифровая реальность «Матрицы» или обычная реальность туземной планеты в «Аватаре», несколько подправленная с помощью цифровых технологий.
Не следует забывать вот что. Несмотря на то что по замыслу события «Аватара» происходят в одной и той же «настоящей» реальности, на уровне символической структуры в подтексте перед нами две реальности: 1) обычный мир империалистического колониализма и 2) не бедственная реальность эксплуатируемых туземцев, а фантастический мир туземцев, которые живут в тесной связи с природой. Таким образом, конец фильма следует понимать как отчаянное решение героя, полностью перебирающегося из своей настоящей реальности в фантастический мир, – как если бы в «Матрице» Нео пришлось решать, не погрузиться ли целиком снова в Матрицу…
Однако это не означает, что нам нужно отвергнуть «Аватар» по причине того, что мы героически приемлем нашу обычную реальность, ибо только она у нас и есть. Тут следует вспомнить историю китайского философа Чжуан-цзы, которому приснилось, что он – бабочка. Пробудившись, Чжуан-цзы спросил себя, кто он: Чжуан-цзы, которому приснилось, что он – бабочка, или бабочка, которой снится, что она – Чжуан-цзы. Даже если реальность «более реальна», чем фантазия, для сохранения ее связности требуется фантазия: если мы вычтем фантазию, фантазмическую рамку из реальности, реальность утратит свою связность и распадется. А мораль тут такова: само противопоставление «либо признай реальность, либо выбери фантазию» ложно.
То, что Жак Лакан называет la traversée du fantasme (пересечение фантазии), не имеет ничего общего с уходом от иллюзий и приятием реальности такой, как она есть. Вот почему, видя то, как человек отказывается от иллюзий и героически принимает реальность во всей ее неприглядности, мы должны сосредоточиться на распознавании минимальных фантазмических контуров этой реальности. Если мы в самом деле хотим изменить нашу социальную реальность или выйти из нее, первым делом нужно изменить наши фантазии, которые помогают нам вписываться в эту реальность. Поскольку герой «Аватара» этого не делает, его субъективная позиция сводится к тому, что Лакан, вслед за де Садом, называет le dupe de son fantasme (обман воображения).
Поэтому занятно было бы представить себе сиквел «Аватара», в котором через несколько лет (или, скорее, месяцев) блаженного счастья главный герой начинает ощущать странную неудовлетворенность и скучать по загнивающей человеческой вселенной. Источник этой неудовлетворенности не только в том, что всякая реальность – какой бы прекрасной она ни была – рано или поздно разочаровывает нас. Так же как и придуманная, идеальная реальность разочаровывает нас именно из-за своей идеальности: эта идеальность означает, что в ней нет места для нас – тех, кто ее, собственно, и воображает.
В первой новелле «Ее тело знает» Давид Гроссман проделывает с понятием «зависть» в литературе то, что сделал с ним в кинематографе Луис Бунюэль в картине «Он»: создает шедевр, который показывает основные фантазмические координаты этого понятия. Испытывая чувство зависти, субъект «создает/воображает рай (утопию безграничного jouissance), из которого он выдворен». То же определение применимо к тому, что можно назвать политической завистью, начиная с антисемитских фантазий о чрезмерных удовольствиях евреев и заканчивая фантазиями христианских фундаменталистов о странных сексуальных практиках геев и лесбиянок.
Очень особенная идеология Голливуда
Учитывая, насколько невозможность сексуальных отношений, существенная для человеческой природы, является фундаментальной, не удивительно, что утопия «Аватара» основана на голливудской формуле создания пары, давней традиции отправлять отставного белого героя к дикарям, чтобы там он нашел подходящего сексуального партнера (вспомним хотя бы «Танцы с волками»).
Бесчисленные трактаты были написаны о приятии исторической реальности через историю семьи как фундаментального идеологического базиса: история конфликта крупных социальных сил (классов и т. п.) встроена в координаты семейной драмы. Эта идеология, разумеется, находит свое окончательное выражение в Голливуде, максимально идеологичной машине: в типичном голливудском продукте все, от судьбы рыцарей Круглого стола до астероидов, врезающихся в Землю, превращается в эдипову историю.
Нелепый апогей этого голливудского подхода, когда великие исторические события на экране становятся фоном для истории любви мужчины и женщины, достигнут в «Красных» (Reds) Уоррена Бити. В этом фильме Голливуд находит способ реабилитировать саму Октябрьскую революцию, возможно самое травматическое историческое событие XX в. Каким же образом именно Октябрьская революция отражена в картине? Пара Джон Рид и Луиза Брайант переживает глубокий эмоциональный кризис. Их любовь получает новое дыхание, когда Луиза видит, как Джон с трибуны читает страстную революционную речь. За этим следует сцена их секса, прерываемая архетипическими эпизодами революции, часть которых слишком явно вторит их занятию любовью. Например, Джон входит в Луизу – и в следующем кадре мы видим улицу, где темная толпа демонстрантов останавливается и окружает движущийся «фаллический» трамвай… И все это на фоне звучащего «Интернационала». Когда пара достигает оргазма, на экране появляется сам Ленин, он обращается к забитому до отказа залу делегатов. Это скорее мудрый, прозорливый учитель, освящающий любовную инициацию пары, чем хладнокровный предводитель революции. Получается, даже бог с ней, с Октябрьской революцией, если она послужила воссоединению влюбленных…
Случай с «Титаником»
«Аватар» тут старомоден еще больше, чем «Титаник», предыдущий блокбастер Кэмерона. Задумаемся: «Титаник» – это фильм о катастрофе судна, столкнувшегося с айсбергом? Нужно внимательно рассмотреть сцену катастрофы: она происходит, когда двое юных влюбленных (в исполнении Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет), скрепив свою любовь страстным сексом, возвращаются на палубу корабля.
Но это еще не все: если бы на этом дело кончилось, тогда катастрофа стала бы просто наказанием Судьбы за двойной проступок (секс вне брака и нарушение классовых границ). Важнее здесь то, что на палубе Кейт со всей страстью говорит любимому, что корабль прибудет в Нью-Йорк следующим утром и она уйдет вместе с ним, с Лео, предпочтет бедность с любимым лживой и развращенной жизни в среде богатых. В этот момент корабль налетает на айсберг, чтобы предотвратить то, что стало бы настоящей катастрофой, то есть совместную жизнь влюбленных в Нью-Йорке.
Можно с уверенностью предположить, что быт и обыденность разрушили бы их чувства. Таким образом, катастрофа происходит для того, чтобы спасти их любовь, чтобы сохранить иллюзию: если бы этого не случилось, они жили бы «долго и счастливо»…
Но даже и это еще не все: еще один ключик нам дает последний эпизод с Ди Каприо. Он, замерзая в ледяной воде, медленно умирает, а Уинслет лежит в безопасности на большом деревянном обломке. Понимая, что теряет его, она кричит: «Я никогда не отпущу тебя!» И в ту же секунду отталкивает его собственными руками – почему? Потому что он свое дело сделал…
Иными словами, под видом истории о влюбленных «Титаник» рассказывает другую историю – об избалованной девушке из высшего общества в поисках себя: она запуталась, не знает, что с собой делать, и Ди Каприо выступает в роли не столько ее любовника, сколько этакого «исчезающего посредника», чья задача – помочь ей найти себя и цель в жизни, свой образ (причем и буквально тоже: он рисует ее портрет). Выполнив свою роль, он исчезает. Вот почему его последние слова, перед тем как он тонет в ледяных водах Северной Атлантики, – это не слова уходящего влюбленного, а скорее последняя речь проповедника, наставляющего девушку, как ей жить дальше, как быть честной с собой, верной себе и т. д.
Это означает, что поверхностный голливудский марксизм Кэмерона (его слишком явное предпочтение низших классов и карикатурное отображение жестокой самовлюбленности и оппортунизма богачей) не должен обмануть нас: за этой симпатией к беднякам стоит другое повествование, глубоко реакционный миф, впервые полностью раскрытый Киплингом в «Отважных капитанах», где он рассказал о переживающем кризис молодом богаче, который восстанавливает свою любовь к жизни с помощью короткой интимной связи с полнокровной жизнью бедняков. А за сочувствием к беднякам маячит мысль о том, что их нещадно эксплуатируют.
До свидания, секс
Однако сегодня Голливуд, похоже, все дальше уходит от этой формулы. Возьмем мультипликационный блокбастер «Кунг-фу Панда», в котором отражены простые будничные предметы и нужды, пустота, стоящая за ними, все остальное – иллюзия. Вот, кстати, почему универсум мультфильма асексуален: в нем нет секса и сексуальной привлекательности, его структура – до-эдипова, орально-анальна (между прочим, само имя главного героя, По, по-немецки означает «задница»).
По – простоватый неуклюжий толстяк и герой-кунфуист, новый Учитель, а исключенное третье в этой одновременности противоположностей – сексуальность. Возможно, данного асексуального персонажа, Панду, следует связать с постепенным уходом от темы создания пары в голливудском мейнстриме.
Каждый фильм о Джеймсе Бонде завершается сценой, в которой Бонд занимается любовью с «девушкой Бонда»; каждый фильм о Бонде, кроме последнего – «Квант милосердия», в конце которого Бонд и девушка просто понимают, что пока недостаточно оправились от старых ран.
Еще более значимым является отсутствие секса в последних двух романах Дэна Брауна («Код да Винчи» и «Утраченный символ»), равно как и в экранизации «Ангелов и демонов» – первый случай в голливудском кинематографе, когда в оригинале у главного героя и героини есть секс, а в экранизации его нет, что прямо противоположно голливудской традиции добавлять сцены секса в основу, по которой снимается фильм.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































