Текст книги "Отцовский крест. Острая Лука. 1908–1926"
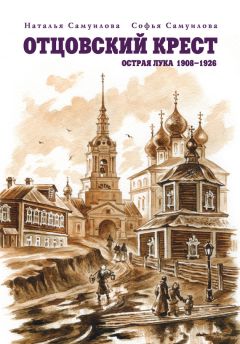
Автор книги: Софья Самуилова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Глава 15
Леночка

1913 г.
Леночке полтора года. Как все маленькие С-вы, кроме Кости, она нежненькая, крепенькая, как молодой груздок, со светлыми волосиками и темно-голубыми глазками. С возрастом глаза детей постепенно бледнеют, а у каждого нового ребенка снова поражают своей глубиной и безмятежной синевой. У Леночкиных глаз пока нет соперников, ими любуются все, от бабушки до Миши, и она внимательно осматривает ими свой мир, состоящий из нескольких комнат и кусочка занесенной снегом площади перед домом, и каждый раз находит в нем что-то новое.
По установившемуся порядку, Еничка два раза в год – к Рождеству и к Пасхе – посылает матери деньги, и та, иногда добавляя что-нибудь от себя, присылает посылки с подарками для детей и с разными вещами, которых нельзя достать в селе. В последней рождественской посылке было вязанное из мягкой шерсти детское платьице, синее с красной отделкой, и красные фланелевые ботиночки, и малютка, одетая в них, сама кажется пушистой елочной игрушкой. Только игрушка эта отличается неутомимой подвижностью и бегает по всем комнатам, нарочно стараясь погромче топать «настоящими» подошвами ботиночек, которые и сами-то получили название «топыньки». Чаще всего она играет в зале или столовой, но стоит кому-нибудь загреметь умывальником, как она выбегает в прихожую и останавливается около умывающегося, ожидая, чтобы на нее брызнули водой. Дождавшись этого, девочка с радостным смехом бежит к драпировке из сурового полотна, отделяющей столовую от «папиной» спальни, вытирается ею и снова торопится к умывальнику.
Леночка – мамина дочка, это всеми признано и никого не обижает. Она одна спит с мамой в ее спальне, а все остальные – с папой. Дети еще не помнят, что на папино попечение передавался, один за другим, каждый ребенок, когда мама ожидала следующего. Наоборот, еще недавно Сонина кроватка опять стояла в маминой комнате, а детям, то одному, то другому, по очереди, разрешалось иногда спать вместе с мамой, что считалось большим счастьем. Но потом вдруг произошло переселение, на этот раз в такой форме, что на него нельзя было не обратить внимания. Папа решил, что неудобно иметь три детских кроватки в разных углах комнаты, как сделали было сначала: дети разметывались, иногда пугались во сне; чтобы следить за всеми ними, нужно было не спать самому, переходя от одного ребенка к другому. Поэтому он решил устроить одну общую постель. Наглухо закрыли дверь в прихожую, к папиной кровати вплотную приставили другую, а еще дальше третью, детскую. На ней до сих пор спала Соня, уже, как большая, без сетки, хотя и случалось не раз, что, сладко потянувшись, она вместе с одеялом оказывалась на полу. На вновь изобретенной широкой кровати, похожей на нары, предназначенной для всего выводка С-вых, эта опасность почти отсутствовала, лежать на кроватях поперек было гораздо просторнее, чем вдоль; маленькая кровать в ногах давала возможность и папе, спавшему с краю, вытянуться во весь рост, а ночью можно было только протянуть руку, обследовать, все ли в порядке в его владениях. Да и дети были спокойнее, чувствуя около себя сильную защиту.
Рядом с папой спал маленький Миша, дальше – Костя, а еще дальше, у самой стены – Соня. Конечно, она уже понимала, что ни волки, ни разбойники не приходят по ночам за детьми (кстати, кровать стояла вплотную к стене, и волку негде было пролезть), но все-таки гордилась своей храбростью и тем, что помогает папе, охраняя своего соседа Костю.
Укладываясь, дети долго возились, пищали, спорили. Как-то все получалось, что, несмотря на широкую постель, одному не хватает места для головы, а другому для ног, что одеяла, рассчитанные на более крупных людей, коротки, а подушки положены неудобно. Наконец, все разместились и успокоились, и тогда раздавался чей-нибудь голос:
– Папа, расскажи сказку!
Папа не умел рассказывать сказок про Золушку, про разбойников и Ивана Долгого, про медведя на липовой ноге и других, которые рассказывали мама и няньки; не умел даже, подобно дяде Мише, создавать фантастические путаницы из «Руслана и Людмилы», «Освобожденного Иерусалима», «Конька-Горбунка» и всего, что придет на ум. Зато его сказки ближе к жизни, его можно было попросить рассказать о чем угодно, и он с одинаковой готовностью рассказывал про собаку, жеребенка, самовар или любимую сказку про клопа, блоху и таракана, удивительные приключения которых кончались гибелью этих малосимпатичных героев от руки Немезиды в лице Мамы.
Но иногда папа не принимал заказов, а сам выбирал себе тему.
– Сегодня я расскажу новую сказку, – говорил он, – она называется: «Как Костя подрался с Мишей».
Снова поднимался взволнованный писк, заинтересованные лица пытались спорить, но одновременно, сознавая бесполезность спора, навастривали уши. Было интересно и немного жутко (для самолюбия, конечно) слушать эту сказку, в которой задевалась и не указанная в заглавии Соня, и иногда целая вереница их друзей и врагов из двуногого и четвероногого мира. Дети смеялись, горячо протестовали, когда преувеличение недавних событий становилось уж слишком фантастическим, и, в то же время, где-то в глубине их умишек откладывалась мысль, что в будущем лучше не подавать повода для таких «сказок». Добрые намерения, часто разлетавшиеся в прах при новом столкновении с жестокой действительностью!
К концу сказки дети все больше затихали, дыхание делалось ровнее, глубже, и они засыпали, иногда не дождавшись развязки. Проснувшись ночью, отец Сергий видел двоившиеся со сна у него в глазах руки, ноги и головы в самых невероятных сочетаниях, как на поле битвы; рука, а то и нога одного лежала на шее другого; тот свернулся клубочком от холода, лежа поверх сбитого одеяла; тот повернулся поперек постели; один раз даже кто-то ухитрился устроиться так, что голова лежала внизу, а ноги на подушке. Сходство с полем битвы усиливалось тем, что все эти тела не проявляли никаких признаков жизни, когда отец водворял среди них порядок.
А однажды, уже зимой (это была первая зима Леночкиной жизни и третья Мишиной), когда в комнате было прохладно и детей, сверх одеяла, пришлось одеть широкой стеганой рясой, Миша исчез. То есть он не исчез совершенно, он где-то возился и хныкал, но его невозможно было найти. Отец Сергий пошарил под одеялом – нет, сунул руку между одеялом и рясой – нет, сверх рясы – тоже нет. И лишь тогда, когда зажег спичку, он понял, в чем дело: Миша забрался в широкий рукав рясы, как раз подходивший для его тельца, и постепенно спускался в нем до тех пор, пока ноги начали мерзнуть, а самому стало душно. Только тогда он подал голос.
Существовавший порядок нарушился только один раз, когда родился и через две недели умер Риня и в то же время Соня заболела свинкой. Едва оправившейся Евгении Викторовне пришлось, уединившись в своей маленькой комнатке, к которой не подпускали остальных детей, возиться сразу с двумя больными. Поэтому братья и сестры почти не помнили Ринечку: мальчики его почти не видели, а Соня была поглощена своей болезнью и даже на похороны не могла идти.
* * *
Она пела, а сама ломала руки и плакала. Много тут было песен, но еще больше слез.
Андерсен. «Мать»
Видех младенца умирающа, и жизнь сво оплаках.
Чин погребения священников
Эта зима была тяжела для семьи. Ближе к весне заболели корью мальчики, а через несколько дней, когда они оба начали немного оправляться, свалилась и Леночка. Корь не считалась серьезной болезнью. Народный опыт говорил, что каждый ребенок должен переболеть ею, всего лучше если в возрасте от одного до пяти лет, и что при этом важен только хороший уход. Матушка, которая когда-то выходила Соню и теперь почти уже выходила двоих сыновей, могла считаться опытной в этом отношении; поэтому болезнь Леночки не вызвала особого беспокойства и сначала никто не обратил внимания на то, что она протекала не совсем так, как у остальных детей. Только на четвертый или пятый день заметили, что температура не спадает, что девочка тяжело дышит и жалуется на боль в груди и боках. Рано утром послали за пятнадцать верст за фельдшером. Но фельдшер, Степан Ефимович, славился не только своей опытностью, привлекавшей к нему больных даже из тех сел, где имелся свой фельдшерский пункт. Почти в такой же мере он был известен пунктуальной медлительностью, с которой составлял лекарства и мыл руки после каждого больного. Он мог выехать, лишь окончив длинный дневной прием, приехал поздно вечером и только подтвердил диагноз, ясный в это время уже и не специалисту: крупозное воспаление легких в тяжелой форме. Болезнь прогрессировала быстро. Если мальчиков старались не оставлять одних просто для того, чтобы вовремя подать пить или выполнить случайное желание больного ребенка, то теперь скоро стало ясно, что от постели девочки нельзя отходить ни на шаг, что каждую минуту может потребоваться срочная помощь. А чем помочь? Компрессами, той микстурой, которую больше для очистки совести прописал Степан Ефимович, сам, по-видимому, не надеявшийся на благоприятный исход болезни? Родителям казалось, что они помогут одним своим присутствием. Не смыкая глаз, чередовались они у кроватки Леночки. И вот теперь, вечером шестого дня болезни, когда остальные дети спокойно спали, Евгения Викторовна сидела около нее и тихим, ослабевшим от переутомления голосом напевала:
Улетел орел домой,
Солнце скрылось за горой,
Ветер после трех ночей
Мчится к матери своей…
Девочка металась на своей маленькой кроватке в комнате с затемненными, не открытыми даже на ночь окнами. Глазки у нее были закрыты, дыхание хриплое, тяжелое. Когда мать запела, она ненадолго присмирела, потом беспокойно задвигала головкой то в одну, то в другую сторону…
– Мама, не эту, про козлика!
Евгения Викторовна перевернула обратной стороной горячую подушку и запела наивную песенку про серенького козлика, которого очень любила бабушка. Леночка затихла, как будто забылась, но песня все звучала, чтобы молчание не разбудило ребенка.
Дверь тихонько скрипнула. Вошел отец Сергий.
– Ну что? Как?
– Все так же. Только что забылась. Нет, опять мечется.
Отец Сергий положил на горячий лобик дочурки прохладную, еще не успевшую согреться руку.
– Леночка, ты меня слышишь?
Леночка с трудом открыла воспаленные синие глаза, казавшиеся громадными на ее исхудалом личике. «Папа!» – прошептала она и улыбнулась, но улыбка вышла такой жалкой, что по щекам матери покатились давно сдерживаемые слезы, а отец крепко, так что обозначились скулы, сжал зубы и отвернулся.
– Ты бы прилегла, Еничка, а я посижу, – сказал он через некоторое время, глядя на осунувшееся, побледневшее лицо жены, окруженное высоким валиком растрепавшихся темно-русых волос. – Измучилась ты!
Она отрицательно покачала головой.
– Нет, я все равно не засну. Ложись лучше ты, ты тоже измотался за эти дни, а ночью спать едва ли придется, ей всегда хуже ночью.
Она не добавила, что нужно ждать кризиса, они и так все время думали об этом. Но отец Сергий, действительно, измотался: шел Великий Пост; деля с женой ночные дежурства около больных детей, он не мог отдохнуть после напряжения первой недели; а сегодня были похороны, пришлось провожать покойника по проваливающейся весенней дороге с самого конца села и потом сразу же идти причащать тяжелобольного. Поэтому, несмотря на беспокойство, отец Сергий заснул тяжелым сном, едва голова его коснулась подушки. Еничка тоже задремала, склонив голову на спинку кроватки дочери. Очнувшись через некоторое время, она только взглянула на ребенка и тихонько прошла в спальню мужа.
– Сережа, вставай, плохо, – вполголоса, чтобы не разбудить детей, сказала она.
Леночка лежала разметавшись. Прерывистое дыхание со свистом вылетало из тяжело поднимавшейся грудки, жар еще усилился, язык был обложен. Время от времени девочка соскабливала исхудавшими пальчиками, видимо, беспокоивший ее белый налет и, не открывая глаз, протягивала матери. Постепенно эти движения становились реже, дыхание медленнее. Склонившись над кроваткой, Евгения Викторовна тихонько позвала:
– Леночка!
Помутившиеся глазки на мгновение открылись, потрескавшиеся губки чуть слышно прошептали: «Мама!» Дыхание становилось реже.
– Леночка, дочка!
Длинные, крепко сжатые ресницы чуть-чуть дрогнули. Вздохи сделались еще реже, наконец прекратились совсем.
Маленький гробик, стоящий в зале, уже обит белым коленкором. На углах коленкор аккуратно подогнут и прибит мелкими гвоздиками: это работали ловкие руки отца. Мать украшает верхнюю часть гробика – ребро, на которое будет накладываться крышка, – рюшкой. Это длинная, вырезанная по обоим сторонам зубчиками, ленточка из коленкора. На равных расстояниях она закладывается складочками и прибивается гвоздиками, но молоток в материнских руках ударяет криво, гвоздики гнутся и плохо идут в дерево, а зубчики рюшки неровные: их вырезают неопытные руки сестренки. На белой крышке гроба аккуратно прибит восьмиконечный крест из розовой ленты, под коленкор, постланный на дно гробика, набросана душистая богородицкая травка, ею же набита и маленькая подушечка. На подушечку кругом воскового личика маленькой покойницы Евгения Викторовна укладывает лучшие цветы из своего свадебного букета – белые розы, сирень, ландыши, жасмин. Соня с удовлетворением отмечает, что, хотя у Ринечки подушечка была из голубого атласа, гробик Леночки выглядит не хуже, пожалуй, еще наряднее.
Детей не принято хоронить с выносом, но неужели отец не проводит дочку? Он провожает маленький гробик в облачении, под торжественный и печальный, хватающий за душу колокольный звон. Соня несет маленькую иконочку Божией Матери, лежавшую в гробике, ее подружка Анюта несет крышку. Но, вполне проникнувшись сознанием важности своих обязанностей, Соня все-таки замечает, что мама не рыдает, бросаясь на шею то одной, то другой из присутствующих женщин, как рыдала недавно жена учителя, Марья Григорьевна, когда у нее умерла Ниночка. Мама плачет тихо и сдержанно, но ее делается так ужасно жалко.
Ночью Соня проснулась уже в третий или четвертый раз и села на диване, на котором спала с тех пор, как заболели мальчики, – села с твердым намерением не засыпать больше, чтобы преодолеть мучивший ее кошмар. Несмотря на то, что просыпаясь, она старалась думать о самых приятных и интересных вещах (так ей в подобных случаях советовали мама и бабушка), ей снова и снова снился все тот же страшный сон. Ей снилось, что Леночку зарыли живую и что она задыхается и плачет в своем гробике. Соня решительно подтянулась в уголок, прижалась спиной к спинке дивана, чтобы не было страшно, и приготовилась думать о том, как установится настоящая, теплая весна и как они поедут в Самару к бабушке. Но сломанная диванная пружина предательски загремела, спинка скрипнула, и в прихожей послышались тихие шаги мамы.
– Ты не спишь, дочка?
– Нет, я видела страшный сон.
Мама присела на диван рядом с Соней, и та заметила, что она совсем одета, словно и не ложилась, хотя в спальне было темно. Инстинкт подсказал девочке, что сна рассказывать не следует, а нужно только покрепче прижаться к маме, что мама и сама рада тому, что она проснулась. И странно: мама, тихонько поглаживая ее волосы, тоже начала говорить о том, что скоро установится весна и они поедут к бабушке. Может быть, ей тоже приснился страшный сон.
Постепенно мысли Сони стали путаться, и она уснула крепко и спокойно, но мама еще долго сидела около нее, гладила ее волосы и думала.
В этот год Соню в первый раз брали к пасхальной заутрене. Соня с нетерпением ждала этого дня и стояла у заутрени в каком-то необыкновенном, восторженном состоянии. Все ее поражало и восхищало: и необычная ночная служба, и яркое освещение, и радостные напевы, в которых так часто повторялись слова «Христос Воскресе!» – пока единственное, что она понимала из этой службы. Радовало и новое пышное платье, и сознание того, что она большая, ей уже целых семь с половиной лет. Словом, вернувшись домой, она не слышала под собой ног от восторга и, несмотря на легкую усталость, была так возбуждена, что нечего было и думать уложить ее спать. Она присела на мамин стул у стола, а мама порылась в левом ящике буфета, который она последние дни держала на ключе, и, подойдя к Соне со словами: «Ну давай еще раз похристосуемся», – подала ей маленькое, точно голубиное, деревянное яичко с тонким рисунком по красному фону. Внутри яичка лежала брошка – летящая бронзовая ласточка с грушевидной подвеской из аметиста в клювике.
– А это мальчикам, – показала мама, когда Соня вдоволь налюбовалась своим подарком.
Яйца, предназначенные для мальчиков, были очень крупные, с одинаковым рисунком, только немного различались цветом. Но, несмотря на свою величину, они не прикрывались, потому что в них лежали маленькие автомобильчики. Это была совершенно новая, никогда не виданная игрушка, и Соня, пожалуй, позавидовала бы ей, если бы сама не получила такой великолепный подарок. А мама опять рылась в картонной коробке от подарков.
– Бабушка еще не получила моего письма, когда посылала посылку, – сказала она странным голосом, – вот посмотри.
В руке Сони очутилось гладкое красное яичко, величиной с куриное, и в нем пушистый желтый цыпленок, совсем как настоящий.
При взгляде на него восторженное настроение Сони вдруг исчезло. Сразу были забыты и пасхальная заутреня, и новое платье, и брошка, и то, что она большая. Держа в руках маленький пушистый комочек, она горько заплакала, вспоминая светловолосую девочку, которая никогда не будет играть им.
Лицо Евгении Викторовны болезненно дрогнуло.
– Сонечка, деточка, не плачь, сегодня нельзя плакать, знаешь, какой день, – заговорила она, взволнованно гладя головку дочери. – Пасха, сегодня Христос воскрес, сегодня можно только радоваться, а не плакать. Успокойся, деточка! Тогда и Леночка, глядя на нас оттуда, будет радоваться, ты знаешь, ей там хорошо, много лучше, чем здесь. – Евгения Викторовна остановилась и с трудом глотнула воздух. – А нам, конечно, жалко, что мы ее больше не увидим, но все-таки нужно сдерживаться, особенно в такой день!
Глава 16
Могилки

1913 г.
В этом году дети, а пожалуй и их мать, в первый раз открыли, что в селе существует кладбище – «могилки», как там называли. То есть, конечно, они знали о нем и раньше, даже ходили туда в те дни, когда там служилась общая панихида, но оно занимало в их жизни не больше места, чем любая дорога, по которой им приходилось проходить. Теперь они постоянно бывали на могилках; это было почти святое место, нечто среднее между церковью и церковной оградой, место, где можно играть, но куда нельзя ходить босиком. Придя туда, нужно, прежде всего, помолиться около Леночкиной могилки (впоследствии этот обычай распространился и на другие знакомые могилки), немного посидеть с мамой около нее, а потом уже можно было идти играть, но непременно бегать только по извилистым тропинкам между могильными холмиками, ни в коем случае не наступая даже на самые старые из них.
Обычай обуваться, идя на могилки, продержался несколько лет и исчез, кажется, еще при жизни матери. Этот обычай исчез, но привычка зайти помолиться перед крестами родных и знакомых и почтительное стремление не оскорблять праха давно умерших, наступив на едва заметный могильный холмик, сохранялся даже тогда, когда на «могилках» кипели отчаянные бои с индейцами и черкесами и коварный враг подстерегал в каждой ямке. Да и не только тогда, а и гораздо позднее, когда все стали уже взрослыми.
Кладбище находилось очень близко от церкви, нужно было только пройти мимо сада, примыкавшего к ограде, и перейти через дорогу; его даже немного было видно из окон священнического дома. Было оно маленькое, бедное, обнесенное со всех сторон канавой, по валу которой проходил ветхий плетень. В задней, южной части кладбища плетень довольно далеко отступал за канаву, показывая, что мертвым стало тесно в первоначально отведенном для них месте. Там, у самого плетня, находились три постепенно зарастающие длинной травой ямы разной глубины и крутизны – остатки в разное время осыпавшихся «ледников»[13]13
Ледник – погреб, где держали умерших от несчастных случаев, ожидающих вскрытия, что случилось, пожалуй, не каждое десятилетие.
[Закрыть] – в настоящее время любимое место детских игр. С западной стороны плетень тоже был на некотором расстоянии сломан, захватывая чье-то опустевшее гумно, – наступление мертвых на живых продолжалось. Но на новом месте долгое время сиротливо ютилась только одна могила, остальных покойников предпочитали хоронить поближе к «родителям».
На всех могилках простые деревянные кресты с прибитыми к ним маленькими иконочками или медными литыми крестиками. Кресты, часто покосившиеся, потерявшие одну из своих перекладин, иногда с двумя дощечками, прибитыми в виде крыши от верхушки к концам верхней перекладины, и непременно осьмиконечные – никогда не приходится забывать, что в селе треть жителей старообрядцы, а это накладывает особый отпечаток и на быт остальных. Налево от входа красуется небольшой дощатый куб с вершиной в виде низкой усеченной пирамиды, увенчанной небольшим крестиком. Памятник когда-то был покрашен серебристой, теперь потускневшей краской и на его сторонах до сих пор видны слова: «Здесь покоится прах дорогого родителя и деда Никиты Архипова Страхова». Это местный маляр и бывалый человек, Сергей Страхов, по-уличному Мазурин, соорудил такой памятник над гробом своего отца.
Ни кустика, ни деревца. Только от ворот тянется продолговатая прямоугольная лужайка, покрытая яркой зеленью, а весной – лютиками и одуванчиками. На этой полянке совершаются торжественные общие панихиды на Пасху и Радоницу прежде чем служить отдельные, на каждой могилке. Отсюда же с общей панихиды начинается и хождение по полям во время засухи. В соседних селах нет таких лужаек, и островцы гордятся своей, ревниво следят, чтобы на ней не рыли могил.
В обычные дни кладбище безлюдно. Постоянными его посетителями являются лишь телята, привлеченные сочной травкой. «Много Бог, много бык», – несколько лет спустя называла кладбище двухлетняя Наташа.
Изредка появится группа людей, провожающих гроб, да какая-нибудь сирота невеста, по обычаю, придет вечерком получить материнское благословение и «вопит» – причитает, обняв покосившийся крест, до тех пор, пока ее чуть не насильно оторвут и уведут домой.
Только одна сторона кладбища выглядит приветливее других, и здесь, направо от входа, на зеленом холмике, примыкающем к заповедной лужайке, схоронили Леночку. Холмик в виде вала тянется вдоль плетня, а за плетнем разросся неширокий, но тенистый фруктовый сад. Громадная яблоня, склонившись, раскинула ветки почти над самой могилкой, и весной розовато-белые ароматные лепестки падают на нее, словно крупные хлопья снега.
На могилке стоит белый крест из круглых кусков молодого дубка. Крест прочный, как памятник; его основание, для предохранения от гнили, обожжено на костре и густо обмазано смолой, а белая краска постоянно возобновляется; детям и крестьянам он представляется верхом роскоши, но таким ли кажется он родителям, привыкшим видеть в городе мраморные и литые чугунные кресты и памятники?
Могилка аккуратно, в форме гробницы, обложена дерном и засеяна сверху овсом. С этого времени, до тех пор, когда отец Сергий сделал прочную оградку, телятам объявляется беспощадная война. Но вот оградка поставлена и, как и крест, тщательно покрашена. Привезенные из Хвалынска разноцветные анютины глазки пестреют на могилке вместо кудрявой зелени овса, а среди них выделяется крест из незабудок. Во время обычной летней поездки в Самару Евгения Викторовна ухитряется даже привезти венок – крупные жестяные незабудки, несколько нежных фарфоровых, белых и бледно-розовых, роз и пара веток белой сирени.
Венок, окружающий маленькую иконочку Божией Матери, делал наряднее скромный крест. Но теперь, когда решетка, запираемая на замок, защищала могилку от телят, появились новые враги – мальчишки. Метко направленными камушками они постепенно разбили все розы на венке; несмотря на то, что оградка была просторная, а ее дощечки часто сбиты и заострены, как-то ухитрились откручивать тонкие проволочки сирени, срывать живые цветы. Только толстая проволока скрепленных по несколько штук незабудок еще выдерживала, да и то один раз Евгения Викторовна видела такой пучок на шапке разгуливавшего по селу рекрута. Впрочем, это, кажется, был единственный трофей, попавший в руки разрушителям; обычно обломки падали в густую зелень около креста и достать их снаружи не было возможности, но хулиганы все-таки продолжали свое дело. Евгению Викторовну это страшно волновало, бередило еще не зажившую рану. Случалось, она плакала, ходила к матерям замеченных ребят, но все было напрасно. Разрушители отступались только тогда, когда все, что можно, было разрушено.
Каждый вечер Евгения Викторовна приходила на кладбище и сидела там, сначала на зеленой травке, потом на маленькой скамеечке в оградке до тех пор, пока наступало время ужина. Да и днем, если ее не оказывалось на обычном месте у стола или в кухне, можно было с уверенностью сказать, что она на кладбище.
– Нельзя так убиваться, Еничка, – пытался уговорить ее муж, – это даже грешно. Ты же веришь, что Бог взял ее, потому что так лучше для нее. Нужно покоряться воле Божией и не забывать, что у тебя еще есть дети.
Не могу, Сережа, беспомощно отвечала она. Я сама все это знаю, сама Соню успокаивала почти такими же словами, но… не могу.
И, действительно, мысли о Леночке завладели всем ее сознанием. Просматривала ли она взятый у соседей для Сони толстый сборник детских рассказов и стихов, ей прежде всего бросалось в глаза стихотворение «На смерть дочери»; декламировала ли она, по старой памяти, Соне стихи, это опять были стихи об умерших детях; пела ли за работой, и тут чаще всего пелось о лежащем в гробике малютке. Из Самары она привезла ноты, – редкий случай, – сама она, без поручения мужа, почти не покупала нот. На этот раз она купила романс, который раньше несколько раз слышала от брата, Миши: «Дитятко, милость Господня с тобою!» – опять бред умирающего ребенка и слезы матери над ним. Когда Миша К-в исполнял эту вещь на студенческом вечере, одна женщина, недавно потерявшая ребенка, упала в обморок. Перед сестрой Миша не стал петь, отец Сергий, когда она привезла ноты, также отказался. Тогда она сама, потихоньку, по памяти, пела ее за работой, и в голосе, и на ресницах ее дрожали слезы.
– Я не понимаю, – сказала она раз Соне, – как-то матушка березовская говорит, что испугалась бы, если бы увидела свою умершую Фаню. А вот я сижу и думаю: если бы сейчас отодвинулась занавеска и вошла Леночка, как бы я обрадовалась!
Кончилось тем, что Евгения Викторовна заболела. Она не слегла, но здоровье ее начало внушать серьезные опасения. Тогда уже не только муж, а и все родные напали на нее, даже и сама она, наконец, взяла себя в руки и начала по-настоящему лечиться. Опытный врач, кроме лекарства, предписал ей утренние прогулки. С тех пор она вставала утром перед семью часами, будила Соню, и они тихонько шли за село – на пески, недавно засаженные уже начавшим разрастаться тальником, или на бугор, где стояли три мельницы-ветрянки. Добравшись до назначенного места, они усаживались, доставали принесенный с собой завтрак и с аппетитом закусывали, что не мешало, вернувшись обратно, пить чай и закусывать уже вместе со всеми. Может быть, этот-то пробужденный ранними прогулками аппетит и сами прогулки на чистом воздухе, когда болтовня возбужденной новыми впечатлениями дочери не давала сосредоточиться на горьких мыслях, и были самым серьезным лекарством, восстановившим силы больной и заставившим ее отчасти забыть свою потерю. Но окончательно успокоилась она только через полтора года, когда в беленькой кроватке, опять придвинутой к ее койке, появилась маленькая Наташа и посмотрела на мать большими, синими, как у Леночки, глазами. И недаром ей доставалось столько нежных слов, столько ласковых изменений имени, сколько не доставалось, быть может, даже Соне, когда она была еще единственной. Евгения Викторовна любила Наташу и за нее самое, и за ту, которую она своей беспомощностью, своим детским лепетом все больше напоминала и заменяла.
Невольно вспоминаются слова добрейшего отца Ивана из новиковского «Рождения музыканта»: «… Мы, неразумные, по ушедшим скорбим, а в жизнь шествующих не видим. Невластная она, смерть!»
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































