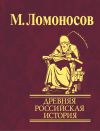Текст книги "Фавн на берегу Томи"
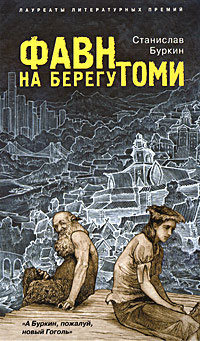
Автор книги: Станислав Буркин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Глава вторая
Сибирский левиафанъ
1
– Да, – вдруг послышался в ответ сухой деловой голос. – Тиф – это вам не шутки, но гость ваш останется жить…
Только что Бакчаров очнулся от того, что кто-то больно ужалил его в зад. Лежал он ничком на кровати, голова была набок, и он не мог видеть, кто его уколол. Он чувствовал присутствие, в ушах еще слышались обрывки собственных слов, произносимых в бреду, и ему было стыдно от сознания того, что кто-то их слышал.
– Кто здесь? – спросил он громко и попытался перевернуться.
– Лежите-лежите! – схватили его за плечо, но он не послушался, перевернулся и сел на подушку, растерянно озираясь.
– Дмитрий Борисович, у вас снова был жар, – успокоил его добрым голосом человек в ночном халате и со свечой в руке. – Мы позвали доктора, он сделал вам укол, и скоро вам станет легче.
Мужчина был лет пятидесяти с лишним. Лицо его обрамляли седые баки, смыкавшиеся на выпуклой макушке, в одном глазу был монокль, а другой глаз часто и удивленно мигал.
– Кто вы? – испуганно спросил Бакчаров.
– Генерал Вольский Сергей Павлович! – торжественно представился человек со свечей. – Томский губернатор. Я имею честь принимать вас, Дмитрий Борисович, в доме своем на излечении, – добавил он скромнее и представил бородатого человека, смотревшего пробирку с жидкостью на огонек свечи: – Доктор Корвин Виктор Ксенофонтович.
Занятый склянкой человек наградил Бакчарова коротким кивком и отошел к раскрытому на столе медицинскому саквояжу.
– Постарайтесь уснуть, Дмитрий Борисович, – деловым тоном сказал врач, стоя спиной к больному, – вам всего полезнее ныне сон. Завтра, если вам станет легче, сможете принимать посетителей. А теперь до свидания. До завтра.
Он захлопнул саквояжик, не глядя на больного, небрежно поклонился в его сторону и вышел. Следом за врачом стал отступать к двери губернатор:
– Вы и вправду поспите, господин учитель, – мягким голосом сказал он, кивая и пятясь к двери. – Вам надо как следует вылежаться. Завтра никак Казанская. Батюшка вас навестит.
– Как Казанская? – опешил Дмитрий Борисович. – Это что же получается – месяц прошел? Не может быть! Как могло пройти столько времени…
– Всего вам доброго, – не слушая бормотание больного, прощался хозяин. – Желаю приятных сновидений.
– А где Борода? – выпалил возбужденный учитель, поняв, что вот-вот останется один в темноте.
– Сбрили бороду, – только и ответил губернатор и скрылся за дверью вместе со свечой. В комнате воцарилась загадочная тишина, сотканная из вопросов и одиночества. В углу комнаты в кафельной печи тихо потрескивали дрова, и у самого пола мерцали щели по краям чугунной крышки.
Бакчаров ощупал себя и обнаружил, что на нем ночная рубашка и колпак, под колпаком голова обрита наголо и уже щетинится новыми волосами.
– Обрили, – тихо с удивлением промолвил учитель, поглаживая шершавый затылок. – Зачем?
Дмитрий Борисович встал на неверные, словно чужие ноги и походил по ковру взад и вперед. Потом подошел к занавешенному окну и раздвинул шторы. Окна так запотели, что учитель тут же осознал, как сильно натоплена его комната. Он провел рукой по холодному мокрому стеклу, и тут же обнаружилось, что находится во втором или даже третьем этаже. За окном моросило, капало с крыш. Прямо против окна Бакчарова коптился матовый шар газового фонаря, подвешенный на массивном кованом кронштейне. Мокрые фонари уходящей вдаль улицы щурились, мигали, казались утомленными в борьбе с тьмой и дрожащими бусинами укатывались вдаль через мост. По деревянным тротуарам, как призраки, проходили съежившиеся под моросью пешеходы, по сырой немощеной дороге, хлюпая в грязи, уныло проезжала карета. Сутулый извозчик, судя по тому, как моталась при езде его понуренная голова в цилиндре, давно дремал. Багровым светом горели занавешенные окна полуподвального трактира, как в театре теней, маячил осанистый лакейский силуэт.
– Томск, – проговорил Бакчаров и открыл одну за другой форточки. Тут же плечи его сцапал холод, а в лицо приятно повеяло сыростью.
Из коридора донеслись шаги, и Дмитрий Борисович поспешил запрыгнуть под одеяло.
Дверь скрипнула, и в комнату его проник кто-то невысокий, с распущенными волосами в одной лишь ночной рубашке.
«Девушка! – закружились мысли в голове Бакчарова, и он задержал дыхание. – Как же так, вошла и без стука? Как же так?»
Девушка бесшумно скользила через всю комнату к печке. Присев на корточки, она отворила скрипучую чугунную дверцу, подкинула полено и тут же вновь затворила печь.
«Служанка», – подумал Бакчаров и осмелел.
– Постойте! – окликнул он девушку шепотом, когда та уже кралась к двери. Но незнакомка лишь на мгновение застыла и тут же выскочила из комнаты прочь. Бакчаров широким рывком скинул одеяло и бросился к двери, но за ней никого уже не увидел, только тьма и чуть слышная дробь удаляющихся шагов.
Бакчаров, зачарованный визитом незнакомки, вернулся в кровать, чтобы попытаться уснуть.
Из форточки донеслись звуки кабацкой музыки. Приятный старческий хриплый голос на американский манер горланил под гитару. Слов нельзя было разобрать. Песню то и дело прерывали взрывы дружного хохота. Бакчарову страсть как захотелось спуститься к ним. Ему стало обидно, как в детстве, – они там празднуют, а он тут болеет…
Дмитрий Борисович встал, без труда нашел свой чемодан, спешно напялил штаны, шерстяной жилет, галоши на босу ногу и свой фирменный черный дождевик с глубоким капюшоном. Потом Дмитрий прихватил немного денег, покинул комнату, спустился вниз и отворил скрипучий засов черного хода под лестницей. Далее прокрался через сад, пыжась, перевалился через кованую ограду и побежал через дорогу, но, не добежав, поскользнулся и плюхнулся в грязь.
Спустившись по сильно разрушенным кирпичным ступеням в тускло освещенный кабак, Дмитрий Борисович поспешил протиснуться вдоль стены в самый темный угол, чтобы спрятаться там, не снимая заляпанного грязью плаща.
Не успел он устроиться, как подоспел старик-половой, злой от усталости, и подозрительно поинтересовался, чего угодно. Бакчаров попросил зажечь свечу на его столе, заказал горячий бульон, соленого сала, краюху свежего хлеба и карандаш с листом чистой бумаги. Последняя просьба особенно раздражила старика, но, получив чаевые, он поклонился и пообещал все выполнить сию же минуту. Учитель скинул капюшон, надел очки и, приоткрыв рот, стал осматриваться.
В полутьме и людском гомоне уже играла другая музыка. Не такая бойкая, а напротив, спокойная. Тот же хриплый голос негромко повествовал под гитару о далеких благословенных землях, где бронзовотелые туземки только и делают, что ласкают друг друга на диком пляже в лиловой тени розовых скал. В ритм гитаре красноватые отблески сеял камин, многосвечные люстры над столами, оплывая воском, тонули в табачном дыму. На скамьях сидели пьяные томские бородачи, разговаривали о жизни, пили или тихо грустили над кружкой пива, клюя носом под музыку. Музыкант в черной широкополой шляпе и сапогах со шпорами сидел на стуле прямо посреди зала на свободном островке, спиной к учителю.
Получив бульон и писчие принадлежности, Бакчаров стал бездумно чиркать у свечи в ожидании поэтического вдохновения. Наконец вдохновение пришло, он отвлекся от всего окружающего и принялся выводить кривые короткие строчки. Выражение лица учителя, когда он поднимал его, блестя очками, было и тупо, и вместе с тем удивленно.
Мне мила борода дремучая
Человека и зверя в одном лице.
И повозка его скрипучая,
Колыбелька душе-паломнице.
Не догнать ее никогда врагам,
Ни волкам, ни коварному лешему,
И поверженным пал медведь к ногам,
К плачу братскому безутешному.
Я бы все отдал, лишь бы ведать, где
Бродит зверь мой, в тайге затерянный,
За меня претерпевший беды те,
Добрый странник, в путях уверенный.
Бакчаров положил карандаш и задумался, зачарованный мелодиями кабацкого исполнителя. И вдруг он обнаружил, что остался в трактире почти что один. Несколько пьяниц уснули за столами, и тихо, вполголоса, пел сам себе неутомимый музыкант. То ли репетируя, то ли слагая новую песню, он часто прерывался и начинал куплет заново. Старик-половой с сердитым лицом стал опускать истекающие воском люстры и тушить по очереди свечи металлическим колпачком на длинном древке.
Удивленный новой обстановкой, Бакчаров сгреб лист со стола и, комкая, запихал его в карман плаща. Расплатился и, принуждая неприятно ослабевшие ноги, перебрался через дорогу обратно в свою мрачную комнату.
Под одеялом его поразило внезапное прозрение, что музыкантом, игравшим в кабаке, был сам Иван Александрович Человек. Учитель усомнился в своей догадке, усомнился в таком совпадении, но ему почему-то захотелось верить в то, что это был действительно Человек – великий прохиндей, путешественник и слагатель песен.
«Хорошо, что я не видел его лица и пока могу воображать, что это был действительно он», – подумал Бакчаров и с этой сладкой мыслью уснул.
Утром Дмитрий Борисович почувствовал себя много хуже вчерашнего. Все тело его ныло и ужасно не хотелось никого принимать. Однако в одиннадцать часов к нему в комнату влетела толстая старуха, наглухо закутанная в черный платок, – влетела и раздвинула шторы на окнах. Тут же в сонную комнату хлынул мутно-белый свет и пыль закружилась над ложем Бакчарова. Бесцеремонная старуха отошла в угол с иконами, расставила ноги на ширину плеч, закрестилась, начала отвешивать поясные поклоны и скороговоркой бубнить:
– Хотя ясти, человече, Тело Владычне, страхом приступи, да не опалишися: огнь бо есть…
Бакчаров простонал так, как стонут дети, которых поднимают на учебу, и закрыл лицо руками. Только он отвлекся мирскими мыслями от молитв, как бабка исчезла, а в комнату его вошел пузатый протоиерей в сопровождении губернатора.
– Вот, батюшка, наш страстотерпец, – представил губернатор болящего, – учитель Дмитрий Борисович Бакчаров. – И тут же представил батюшку: – Отец Никита, настоятель Преображенского собора. Любезно согласился вас причастить по случаю великого праздника. Не буду вам мешать, – откланялся губернатор, по обыкновению пятясь к двери, и в следующее мгновение исчез, оставив Бакчарова наедине со священником.
– Я не готов! – твердо послышалось от одра болящего.
– Что значит не готов? – бодро удивился батюшка.
– Я не уверен, что все еще верую в Бога, – пояснил Бакчаров, пряча глаза от священника.
– И давно это с вами, если не секрет, голубчик? – поинтересовался протоиерей, зачем-то раскрыл свой сундучок и принялся расставлять на столе его содержимое.
– С тех пор, как Бог меня оставил, – буркнул хмурый Бакчаров и сложил руки на груди в знак независимости.
– И чему вас в университетах только учат? – пожал плечами протоиерей. – Ну что же, я зря пришел, что ли? Тогда просто за вашу крещеную душу, ныне из тела исходящую, помолимся. Единственный раз в жизни все-таки умираете, – заметил батюшка, уже листая Требник.
– Я не умираю! – испуганно возразил Бакчаров и прикрыл нижнюю часть лица одеялом, так будто поп собирался дать ему пощечину.
– Как это не умираете? – распаковывая Дары, усмехнулся жизнерадостный батюшка. – Еще как умираете. Доктор ваш говорит, что осталось вам, в сущности, ничего. Так что приступим, голубчик, к исповеди, – перешел священник к делу: – Се чадо, Христос, невидимо стоит, приемля исповедание твое, не усрамися, ни же убойся, и да не скрыеши что от мене. Аще ли что скрыеши от мене сугуб грех имаши. Аз же точию свидетель есмь. – И накинул на голову учителя епитрахиль. – В чем согрешил, чадо, в чем каешься?
Бакчарова так поразило известие о близости его кончины, что мысли у него в голове закружились, как листья от осеннего ветра.
– Так ведь я не готов, батюшка, – пискнул он жалобно. – Как же я скажу вам сейчас все грехи, если я все время службы польской, то есть более пяти лет, не был на исповеди?
– Кайся, коль грешен, – только и призвал священник, явно не желавший откладывать исповедь.
– Грешен, батюшка! – выкрикнул Бакчаров и уткнулся, рыдая, в пузо священнику. – Страстями обуреваем всю жизнь свою был я от юности! Грехам моим несть числа, одному лишь Богу все они ведомы! Но превыше всего согрешил я умом своим, гордынею, приумножающей все страсти мои! Умом своим я от Господа отошел, но вот те крест, батюшка, душа моя непрестанно христианкой была и веру в Бога исповедовала!
Бакчаров плакал навзрыд.
– Умница! Вот это я понимаю, вот это покаяние, – радостно похвалил исповедника протопоп, похлопал кающегося по плечу, сжал руками покрытую епитрахилью голову вернувшегося в лоно Церкви грешника и возвел глаза к потолку. – Да простит ти чадо, Димитрие, вся согрешения твоя, и аз недостойный иерей, властию мне данною, прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. – Перекрестил он голову Бакчарова и снял с нее свой жреческий фартук…
Только протоиерей исчез, как в комнату влетел губернатор Вольский с новыми объявлениями:
– Извольте, господин учитель, принять завтрак, а заодно и вашего благотворителя купца первой гильдии Ефима Григорьевича Румянцева, взявшего на себя все расходы по вашему излечению.
Бакчаров опять закрыл лицо руками и простонал:
– Я безмерно благодарен Ефиму, как его там по батюшке, за его сострадание и участие, однако не могли бы вы заочно передать ему слова моей бесконечной благодарности и решимости молиться за его душу со дня моего преставления?
– Какого преставления? – удивился губернатор. – Прямо неловко перед человеком, Дмитрий Борисович, он вас уже час ожидает. Как только услыхал, что вы поправляетесь, так все бросил и к нам примчался.
– Как поправляюсь? – ожил умирающий.
– Доктор Корвин сказал, что постельный режим желательно отменить как можно скорее, дабы тело ваше не подвергалось более зловредному расслаблению, – пояснил генерал Вольский. – Прогулки вам нужны, Дмитрий Борисович. Гимназистки-то уже вон все за партами да за книжками, а вы все болеете. Пора уже и на поправку идти.
Бакчаров уставился на него с изумлением и в то же время с клокочущей в груди радостью: «Неужто провел меня поп?»
Вдруг губернатор, все это время державший руки за спиной, предъявил учителю феску:
– Если вам неудобно принимать в ночном колпаке, то предлагаю вам свою турецкую шапочку, – залепетал губернатор. – Если, конечно, не побрезгуете.
Бакчаров, думая о жизни и смерти, медленно стащил колпак, обнажая бритую, как у татарина, голову, и отвлеченно проговорил:
– Не побрезгую.
Губернатор бережно прикрыл красным головным убором срамоту ощетинившейся головы и вновь попятился, объявляя:
– Итак, Дмитрий Борисович! Благотворитель ваш – Ефим Григорьевич Румянцев. Встречайте, пожалуйста.
Вошел Ефим Григорьевич медлительно, молча, церемонно придвинул к одру болящего стул, обменялся с учителем крепким рукопожатием и уселся, широко расставив ноги в охотничьих сапогах. Сидя у одра, купец степенно, с любопытством стал осматриваться, ковыряя косматую бороду. При этом Ефим Григорьевич важно вздыхал и хмурился, а разные и потому страшные глаза его по раздельности переходили от вещи к вещи, блуждая взглядом по комнате. Купец засмотрелся на старинный самовар, потом на блеклый старый ковер, – тяжелый правый глаз его выпал, запрыгал по половицам и укатился под дубовый комод. Невозмутимый купец не полез за глазом, кашлянул в кулак, достал из-под шубы пиратскую повязку и прикрыл ею зияющую черным провалом глазницу.
– Как ваше здоровьице, господин учитель? – обратился он свойским русским басом к Бакчарову. – Выздоравливаете, я гляжу. Совсем плохи были ваши дела. Чуть, батенька, вы в дороге-то и не померли. Лекарь наш Виктор Ксенофонтович сказывал, что вши у вас были с хорошего таракана размером и никак не выводились, твари окаянные. Пока они вас не обрили и марганцовкой не обработали.
– Спаси Господи, – невпопад промямлил учитель, прикидываясь умирающим.
Купец смотрел на Бакчарова оставшимся страшным и немигающим глазом, но взгляд его источал мужицкую любовь и преданность. Бакчаров подумал, что Ефим Румянцев из числа тех простых русских добряков, которые во всем – вплоть до воровства и убийства – готовы помочь попавшему в беду человеку. Одноглазый, рыжебородый, он приятно напоминал Бакчарову его дорогого и, верно, где-то сгинувшего Бороду.
– Вы из России-матушки? – спрашивал купец, чтобы хоть как-то поддержать разговор.
– Из Польши.
– Ух как! Ни разу не бывал. У нас тут кто Москву или Петербург посетил, тот уж и нос дерет, словно весь свет объездил.
– И не врут, – отозвался учитель. – В Европе кто на такие расстояния ездил – и вовсе путешественником зовется…
– Ну что ж, рад, так сказать, личному знакомству с вами, жду вашего появления в нашем обществе, – вставая со стула, вздыхал бравый русский купец первой гильдии. – Пора и честь знать. Дайте еще раз пожать вашу богатырскую руку. До свидания.
Бакчаров высунул ему вялую бледную конечность, поблагодарил за визит и немощно откинулся, закатив глаза. Все так же медлительно двигаясь, Рыжая Борода оставил на ночном столике пухлый конверт с деньгами, церемонно похлопал его и вышел.
Следующим гостем учителя был директор женской гимназии Артемий Федорович Заушайский, профессор Московского университета.
– Дмитрий Борисович, рад с вами, наконец, познакомиться, – тряся руку учителя, резким старческим голоском закричал лысый профессор, деловой, остробородый, в серебряном пенсне, тяжелой шубе и с боярской шапкой в руках. – Нашему городу нужны светлые умы из столицы! Нужны, господин учитель!
– Я не из столицы, – устало проговорил Бакчаров.
Радостный старичок суетливо выхватил слуховой рожок, узким концом воткнул его себе в ухо, а раструбом направил в учителя.
– Что вы сказали? – почти весело воскликнул старичок.
– Не из столицы я, господин профессор! Я из Люблина!
– Неужто влюблены? – изумился старичок. – И в кого же, если не секрет?
Бакчаров закатил глаза и простонал:
– Скорее бы ночь.
– В дочь! В чью? Губернатора! – еще больше испугался профессор. – Только не в Аннушку. Мой старший сын полюбил ее раньше! А младшенькую я и сам, признаться, люблю, – развел руками глуховатый старик.
– Не знаю я никаких дочерей, – попытался схватиться за волосы Бакчаров, но вместо этого сшиб феску и головной убор улетел за ночной столик с рваным учительским глобусом.
– Позвольте, я достану, – упал на четвереньки профессор и, пыхтя, принялся выковыривать фреску рожком.
Заушайский напоминал Бакчарову звездочета-волшебника из полузабытой европейской сказки. Ему только не хватало остроконечного колпака и магического жезла. Впрочем, медный слуховой приборчик в его руках вполне походил на какой-то магический инструмент.
Установив феску на голове больного, Заушайский откланялся.
– Буду с нетерпением ждать вашего выздоровления, – заявил он бодрым искренним голосом. – А по поводу Машеньки и Аннушки, позвольте вас успокоить. В нашей гимназии пруд пруди подобных красавиц. Сами увидите. Как говорится, в полном составе и в чистом виде.
После профессора к учителю явилась длинная фигура какого-то бродяги в солдатской шинели, с заплечным мешком за спиной и с нервно терзаемой в руках шляпой из грубой соломы. Как выяснилось, это был сумасшедший поэт Арсений Чикольский, коротко стриженный, светловолосый и кучерявый, как каракуль, изгнанный семинарист, отслеживавший в одном питерском листке стихи Бакчарова и дежуривший у его дверей со дня прибытия.
– Я должен вам немедленно признаться! – припав на колене возле одра и схватив Бакчарова через одеяло за ногу, вопил Чикольский. – Я чту не только христианского Бога!
Потный поэт сам устрашился сказанных им слов и выпучил на учителя изможденные голодом и бессонницей глаза. Рано редеющие волосы колечками облепляли бледный взмокший от волнения лоб.
Бакчаров успел только пожать плечами в знак того, что он не возражает, но поэт вскочил и воскликнул:
– Богине любви! – и начал декламировать с неистовыми подвываниями:
Дочь Греции, Италии краса!
Твой строен стан, твои черны глаза,
Грудь сочно-спелая и идеальный зад,
Пупок всего милее во сто крат,
Крутые бедра и живот упругий,
Вокруг танцуют нимфы и подруги.
Нас, милая, навряд ли ты услышишь.
Ты даже воздухом другим, наверно, дышишь.
Но знай, богиня, и имей в виду:
Как и во всем шарообразном мире,
В далекой, грязной, ледяной Сибири
Тебя мы чтим, прокляв свою судьбу!
– Где жизнь, там и поэзия, – не без иронии заметил Бакчаров.
На Чикольского слова болящего произвели неизгладимое впечатление, он выхватил из кармана блокнот и что-то там нацарапал. Потом стал по стойке «смирно», поклонился и выпалил:
– Как говорили в таких случаях римляне: Ubi tu, Magister, ibi ego!
– Простите, что делать? – не уловил смысла Бакчаров.
– Ничего. Я говорю: где вы, учитель, там и я, – пояснил поэт. – Дмитрий Борисович, я всегда рядом!
– Чудесно, – обронил болящий, а безумный юноша спешно покинул комнату.
Последними в этот день к Бакчарову пришли две прелестные дочери губернатора. Младшая, Мария Сергеевна, – нежный белокурый ангел с чуть дрожащими губами на бархатном личике – все прятала от учителя скромный взор. Старшая, Анна Сергеевна, была так же прекрасна, однако ничем, кроме отчества, на свою сестру не походила. Она была черноволосая, хитроглазая, как лиса, и по всем признакам натура страстная. Дочери томского правителя пользовались славой самых красивых барышень в городе, лучше всех танцевали новые танцы, тайно подрабатывали, составляя на заказ амурные записки, и при этом отличались великосветской воспитанностью. Уходя, девушки сделали реверанс и одна за другой выплыли за дверь.
Все тот же доктор Корвин, очень довольный состоянием пациента, постучал по учителю молоточком, сделал укол, и Дмитрий Борисович вновь почувствовал себя так же хорошо, как ночью.
– Эти уколы спасли вам жизнь, но считаю своим долгом предупредить, что препарат новый, – заметил доктор, – возможны побочные реакции: галлюцинации, внезапные головные боли, перепады настроения, повышенная возбудимость. Но как говорится: medicus curat, natura sanat. – Врач лечит, природа излечивает.
«Шарлатан, – подумалось Бакчарову. – Ох уж эта мне латынь».
Корвин ушел, и вскоре учителю показалось, что болезнь отступила. Вечер стал таинственным и спокойным, а день визитов вспоминался как пройденный адский круг.