Читать книгу "Хрустальный шар (сборник)"
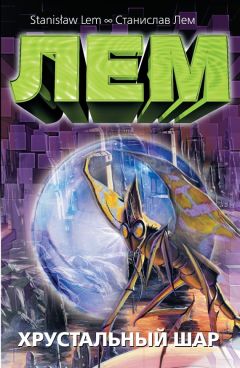
Автор книги: Станислав Лем
Жанр: Зарубежная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Гауптштурмфюрер Кестниц
Казимеж откинулся к темной холодной стене и уперся в нее затылком. Вперив невидящий взгляд в узкое высокое окошко, за которым колыхались деревья сада, долгое время молчал.
– Знаете… – начал он, – во время моей «работы» за последний год я узнал много интересных людей, но такого типа, как комендант лагеря в Гросс-Эзау, думаю, не было и не будет. Это феномен. Скотина, могучая скотина. Колоссальная. И к тому же мужик интеллигентный, образованный; хо-хо, какие он устраивал шутки…
Он замолк, устроился поудобней на кровати, так что захрустел набитый соломой матрас, и продолжил:
– Я попался случайно, даже не по своей вине… Когда-нибудь вам расскажу. Но сейчас о другом. Итак, я попал в этот лагерь. У меня уже было чутье, и я вскоре сориентировался, что и как. Товарищи рассказали мне, что комендант вызывает каждого интересного для него новичка к себе, чтобы его своеобразно вымотать. Я подумал, что, может, я не такая незаурядная личность. Работалось тяжело, били часто, вши, грязь, все по плану: Arbeit macht frei… durch den Tod[94]94
Работа делает свободным… даже в случае смерти (нем.).
[Закрыть]. Но это неинтересно. Однажды днем после переклички приходит эсэсовец Гроэхманн и говорит, что меня вызывают. Я пошел. Идем, идем – а вы должны знать, что, кроме своего барака, дороги на работу и обратно, я вообще не знал лагеря, – пока не подходим к ограде, минуем ее через маленькую калитку, и – открывается вид на рай. Чудесный сад, изящно и со вкусом посаженный, ухоженный, а в полной цветов зелени – современный белый домик. Вилла коменданта. Меня проводили в комнату – шапки долой! Если бы я был в Варшаве и попал в такую комнату, она произвела бы на меня немалое впечатление, а в моей ситуации: уже слегка одичавший, вонючий, покрытый кровью, собственной и раздавленных паразитов, грязный, в полосатой одежде…
Странные тут, однако, были обычаи, ибо эсэсовец оставил меня одного и вышел. Пусто, оглядываюсь: вся меблировка – черное дерево, но все такое, словно мебель кто-то сделал из гробов. Огромная, массивная полированная черная мебель: стол, несколько шкафов, в том числе прекрасный книжный шкаф, – все книги в зеленом переплете, такой же плюш на столе, только эти два цвета: черный и зеленый. Я минуту постоял – глядь в окно: «Может, как-нибудь удрать?» Безумная мысль. Едва я сдвинулся с места – слышу смех. Вошел комендант, который стоял в шкафу, то есть, собственно говоря, это был не шкаф, а рельефная дверь, отлично его имитирующая.
– Так-так, – говорит он, – так заканчиваются песни. Ну и что же, неряха, что вы скажете мне о глубоком смысле жизни?
Он удобно уселся, закурил сигарету и говорит:
– Ну, значит, зачем человек живет? Вы должны знать, что я задал этот вопрос уже несколько сотен раз, но до сих пор никто мне на него удовлетворительно не ответил. Обещание и награда всегда те же самые: кто даст мне удовлетворительный ответ, с тем попрощаюсь тотчас же. Он получит свою одежду и билет домой.
Странный это был немец. Когда он говорил, я смотрел на него и видел, что он думает об этом совершенно серьезно. Это чувствовалось. И то, как говорил этот человек, когда все, от товарища на нарах, надсмотрщика и до эсэсовцев охраны, тыкали нам, было очень непривычно. Сидя в кресле, он, казалось, в нем расплывался: голова совершенно лысая, словно раздвоенная на макушке, ибо у него был впалый, седлообразный затылок. Лицо широкое, огромное, красное, а глаза в мешочках век, таких мокро-красных, почти как щелки. Он также не смотрел в глаза, разве что очень редко. Нос раздвоенный, как картошка, губа с виду сальная. Но вы, наверное, по моему описанию судите, что это такой налитый кровью, толстый, с рыжими выгоревшими ресницами и бровями человек? Вот уж нет. Было в нем что-то, что даже сегодня я не могу определить и объяснить, но что делало его почти симпатичным, – это как-то само собой в этом человеке возникало. Просто ни эта блестящая голова, лысый шишковатый шар, ни нос, ни опухшие глаза не производили неприятного впечатления. Может, это голос? У него был чудесный голос, редко такой услышишь: просто говорящий тенор. Вы должны знать, что типичная лагерная апатия тогда еще меня не охватила, я ведь здесь был всего лишь пару дней, поэтому, хотя и чувствовал, что это абсурдное предложение, я невольно вздрогнул. Повторяю, не верил, но знал, нутром чуял: то, что он говорит, серьезно. Очевидно, я должен был обнаружить свое волнение каким-то движением, ибо этот мерзавец (Казимеж усмехнулся почти нежно) обрадовался.
– Я вижу, что вы меня порадуете, – говорит. – У меня уже был тут один философ, и представьте себе, я убедил его в полной слабости его гипотез. Ха-ха-ха! – взорвался он неожиданно громким смехом. Массивное тело в зеленом мундире дрожало и тряслось.
– Я выбил из него весь идеализм, – рычал он смеясь.
Как вдруг стал серьезным, причем так неожиданно, что это было даже странно.
– Ну и?.. Вы уже будете говорить или, может, нужно время для раздумий? Или знаете что… – задумался он на минуту.
Комендант смотрел на машинописный листок бумаги, который держал в руках.
– Гм… Вы имеете законченное высшее образование… Даже два факультета: философия и право, – это похвально… – кивал он.
Он говорил всегда так, что было непонятно, шутит он или вполне серьезен. Впрочем, мне кажется, что он сам этого не знал. Такой, собственно говоря, он был: двуликий. Комендант посмотрел на меня, а я все больше тушевался. Этот тон, эта обстановка… Мне казалось, что я вижу сон, а он и этим забавляется.
– Не приглашаю вас сесть, – сказал он, – потому что может быть проблема с дезинсекцией… правда? Если разговор будет интересным, в другой раз вы сядете… если будет другой раз.
Окончание фраз опять его рассмешило. Но он сразу стал серьезным и, не глядя на меня, сказал медленно, спокойно, как бы самому себе:
– Прекраснейшая вещь на свете – это жизнь… Я часто думаю, что если бы было кого за нее благодарить, я бы делал это много раз в день… Также и за то, что можно чувствовать, так, как я именно в эту минуту. Но жизнь должна иметь какую-то цену, просто эта цена выше других. И все зависит от формы оплаты. Есть такие законченные глупцы, которые думают, что существуют некие добро и зло, а может, даже граница между ними… Затем, есть такие глупцы, которые вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, отказывают себе во всем во имя так называемых идеалов, они суть обычные бутылки, наполненные цветной водой с этикетками… Следом идут другие, несколько более умудренные опытом, они думают, что самая прекрасная вещь – это уничтожить немного жизни. Разумеется, не своей, – скривился он с усмешкой. – Но это все глупцы. Как можно убить человека? – склонился он в мою сторону с неожиданной плаксивостью. – Ведь, убивая его, я теряю над ним всякую власть, я не могу уже ничего, я бессилен… И это ошибка, – буркнул он печально. – Поэтому каждый случай смерти в лагере досаден и глубоко меня огорчает. Смерть – это побег от живых. Что за подлость! Интересно, – добавил он, – что глупые люди так сильно боятся смерти… Но это же, к счастью, и единственное спасение. Потому что я умею внушить отвращение к жизни… Если бы она не была для вас такой сладкой, то вы бы все друг за другом поперевешались, а так – проводятся различные эксперименты, всевозможные испытания, – растягивал он слоги. – Можно мучить и так и сяк, резать, жечь на железных решетках и на балках индийским способом, и этот испанский сапог, и олово, и доски с резьбой, и японское туше, и бочки для замораживания зимой – что только не пожелаете. Но это все – примитив… Верьте мне, я делал это не из-за садизма, – я не садист, а из интереса. Я думал, что же может получиться из человека после таких мук и пыток? Может, какой-то святой родится? Может, чудотворец? Нет, вы не думайте, что я издеваюсь, – добавил он, – я просто не знал. Такие вот испытания. Что происходит с человеком в минуту пытки? Где его душа находится? Или он уже настолько сросся с кишками, связан так неразрывно, что если эти кишки слегка выпустить, накрутить на палку и потянуть, то человек уже не может думать о Господе Боге? А куда исчезают эти прекрасные узоры из нашего калейдоскопа – мозга? Мне было это интересно узнать, ну и ставил опыты. Но все это напрасно, – недовольно скривился он. – Чем умнее казался кто-то из людей: философ, поэт, художник, – тем быстрее у него душа переставала быть прекрасной. Та или иная косточка трескалась или какой-то чувствительный орган ему придавили, и конец свободе духа. А где же тогда обретается бесконечность, в мозге отраженная? Где идеалы? Э-э-э… – грозил он пальцем, как маленькому ребенку, – не нравится мне это…
– Интересно… – удивлялась эта глыба в кресле, – любопытно: отрезается маленький кусочек тела, не больше кулака, а человек превращается в такого барана, как если бы его разрезали пополам… И вот я придумал такое новшество: мыслящим людям задается вопрос, на который надо ответить, решить его. В случае отрицательного результата – все огорчение на вашей стороне. Я буду стараться сделать с вами все, что ввел последнее время, однако же не убивая. Может, спросишь, почему и за что? Ах Боже мой… Я ж сказал, что я не садист… Я только самый любопытный человек в мире. Как же прекрасно иметь власть, чудесную, неограниченную власть над людьми… Итак, пожалуйста, извольте мне сообщить, зачем мы живем. Ну нет, – добавил он, – вы не схватите это пресс-папье, чтобы бросить им в меня, и не броситесь к моему горлу вот из-за этого пистолета, который я держу в руке, а будете стараться ответить, удовлетворить мое любопытство во… Ох как же каждый из вас старается, как напрягается – а я тогда призываю вашего Господа Бога, чтобы как-то мне хоть помог (и вам, впрочем), чтобы показал мне хоть край, краешек чего-то иного, потому что ведь речь идет не о размозженных костях или зеленых внутренностях, а о том, чтобы выдавить из человека его суть. Ни инквизиция этого не сделала, – прервался он на минуту, барабаня пальцами по столу, – ни эти безмозглые тупицы из школы в Оберхаузене, все они – несчастные садисты. Отщипнет кусочек мясца, хлебнет крови, и сыт… Что за святая простота… Мой голод значительно сильнее. Нет, что вы так смотрите? Я не дьявол, не Сатана, и я не глуп, – к несчастью для некоторых людей. Если бы я был глуп, то довольствовался бы малым. Но я жажду большего. Я помню, что умерший человек – это человек, который сбежал от меня. С его стороны это наглость и вызов, а я признаю коллективную ответственность. Ну, акробат, шарик на потоке, давайте. Зачем мы живем?
Я был спокоен и холоден от макушки до пят. Вот ситуация, подумалось мне. Сейчас начнется какая-то неслыханная, неописуемая пытка. Может, пойти на нее в молчании? Стоит ли вообще говорить или выслушивать дальше эти спокойно и методично излагаемые речи безумца?
– Не знаю, – сказал я, – зачем живу, как не знаю, зачем живете вы, зато знаю, зачем я жил до сих пор. Это я знаю точно.
– Ну-ну? – заинтересовался он.
– Затем, чтобы таких людей, как вы, не было. Чтобы их уничтожить.
– А, вы пытаетесь удивить меня? – спросил он совершенно серьезно. – Это заявление банально. Вы не решили задачу. Однако я пока не разочарован, можете идти. – Он нажал кнопку на столе.
Вошел эсэсовец.
– Еще увидимся, – сказал Кестниц, и двери закрылись.
Казимеж замолчал. Во время рассказа его лицо, налитое кровью, потемнело, глаза загорелись изнутри, время от времени он двигался и жестикулировал, но взгляд его оставался отстраненным, он видел только то, о чем говорил.
– Трудно определить состояние, в каком я находился в течение нескольких следующих дней. Знаете, это была удивительная смесь эмоций, страха, ожидания и какого-то следа, тени, намека на надежду. А может?.. Я видел, так мне тогда казалось, что это не простой, обыкновенный садист. Я старался тот наш разговор, а точнее, его монолог, проанализировать, и не смог. Он был любопытен. Не любопытный человек, а огромный, страшно любопытный зверь. Желающий знать – любой ценой. Такой большой вивисектор.
Это было любопытство ребенка, который обрывает мухе лапки и крылышки – одно, второе – и смотрит, как черный шарик жизни смешно подпрыгивает, словно поврежденная механическая игрушка.
Я вставал каждый день утром, шел на работу, возвращался, меня грызли вши, на спине множились шрамы и, заново рассеченные плетью, превращались в раны, пока однажды во время обеденного перерыва Гроэхманн не повернул в мою сторону свою угреватую серо-красную морду. В душных, вонючих испарениях тел в сумраке барака он посмотрел на меня, и я встал. Пошел за ним, когда он меня позвал, сразу, без лишних слов; я знал, куда мы идем. Я как будто внутренне напрягся, настроился, сделался жестким, и чувствовал только сильное и необычное волнение, но никакого страха не было.
– Потому что знаете, – добавил он неожиданно, глядя мне прямо в лицо, – что с этим страхом вообще-то происходит нечто загадочное. Вот я, например, на экзамене страшно боялся латинского языка: сердце у меня замирало, меня заливал холодный пот, когда я садился за зеленый стол напротив профессора. Страх этот был таким сильным, что после, когда я неоднократно сталкивался со смертью, когда общался с ней, а потрепала она меня изрядно, да, видя даже опасность смерти и саму смерть самых дорогих и близких мне людей, я не испытывал этого чувства настолько остро. Человек как заведенная ключом игрушка: если какая-то ситуация кажется ему как раз подходящей, чтобы бояться, то он боится. Но тут же вкладывается в это чувство целиком, и потом, когда наступают более тяжелые испытания, он уже ничего не может вложить. Однако это лишь замечание мимоходом, чтобы прояснить кое-что. Потому как при настоящей, уже за горло хватающей опасности страха я не чувствовал никогда.
Итак, я снова оказался в этой черно-зеленой комнате напротив стола, за которым никого не было. Но теперь я пытался найти какую-то подсказку, конкретный намек на сцену, которая здесь вскоре разыграется. Теперь я старался подготовиться к наихудшему, потому что это всегда лучше неизвестности. Действительно, через некоторое время появился Кестниц, в натянутом на животе зеленом мундире, на мгновение сверкнув раздвоенной лысиной; его маленькие влажные голубые глазки глядели на меня пронзительно и холодно из-под мясистых век. Он смотрел на меня как классификатор, как энтомолог на бабочку, смотрел почти бесчеловечно – и молчал. К такому я опять не был готов и начал нервничать. Он видел это, и я чувствовал, что он этим наслаждаться, что это является его целью.
– Вы меня вызывали? – в конце концов спросил я, чтобы любой ценой прервать молчание, которое становилось просто отвратительным и начинало хватать меня за горло.
– Только спокойно, молодой человек, – сказал он тихо, словно самому себе. – Вы много думали со времени нашего разговора, не правда ли? Вы пытались классифицировать меня так, как вы это делаете сейчас, поставить к перегородке с табличкой? Лицо такое… рост высокий… глаза голубые… характер такой-сякой – и все. – Неожиданно он рассмеялся. – Ан нет… со мной не так просто. Прежде чем у вас сломается какая-нибудь кость, а эта глупость – дело нетрудное, пусть же сломается мозг. Пусть сломается! – Он проговорил эти два слова резко и со свистом, глядя на меня с затаенной в глазах угрозой.
Я молчал. Он набрал воздуха в легкие, вытянул ноги в сапогах, и их жирно блестевшая чернота образовала несимметричное пятно на зеленой дорожке. Я пытался смотреть на него, но эти два цвета стали еще страшнее, и я предпочел смотреть в лицо. Это было словно заглянуть в колодец: веяло темнотой и холодом.
– Так о чем же речь, – сказал он, громко продолжая невысказанную мысль. – Дело в том, чтобы узнать что-то, не правда ли? Узнать? Или нет? Все это: и собирание цветов, и сонеты, и любовные стихи, и скульптура, и живопись, и теория относительности, и Дахау, и Оберхаузен, и газовые камеры – что это, это все? Вы не знаете? Это поиск. Вечный поиск. Это битье в стену, стучание кулаками, чтобы понять, чтобы что-то узнать. Потому что дело обстоит так, что если один человек для другого хороший или если хочет быть хорошим, то может оказаться, что он будет превратно понят. И это для него является не чем иным, как злом. Значит, такое может быть… А если он как бы плохой? Что это значит – злой? Причиняет боль, ломает кости, угнетает, уничтожает, подавляет? И отсюда в другом человеке рождается тревога, и ненависть, и страх? Значит, тогда нет противоречия – правда? Этот человек знает: он хочет творить зло. А другой знает наверняка: он познает зло. Ясно. И речь идет о том, чтобы было ясно. Потому что человек рождается заключенным, и всю жизнь является пленником, и колотит кулаками в эту страшную стену, и старается вырваться из этого порочного круга, и борется, и разбивает в кровь голову о стену – и все, все напрасно. Заключенным рождается и заключенным умирает. Что же вы так на меня смотрите? Где он заключен? Ну, в себе, в себе самом. Можно ли выйти за пределы круга собственных ощущений? Нельзя. Можно ли ценой пусть даже гибели миллионов людей, переработанных на шлак, перестать на минуту чувствовать так, как я, я, я чувствую? Нельзя…
Он наклонил голову.
– Да, это будто предел. И для меня это граница. – Он опять посмотрел мне в глаза. – Но нет! Это лишь заблуждение. Потому что я могу многое. Потому что я могу и сделаю эксперимент – большой прекрасный эксперимент, какого еще не делал никто, никогда. Хорошо?
Он усмехнулся с застывшей маской на лице, одними губами. Глаза отсвечивали стеклом и влагой. Он нажал черную кнопку звонка. Двери как бы сами раскрылись – ввели двух женщин.
То есть в первую минут я увидел только полосатую одежду с номерами, а что это были женщины, угадал, сам не знаю как: у них не было ни грудей, ни длинных волос, а только две пары глаз горели на провалившихся, сожженных голодом и мукой лицах.
– Будете переводить, – сказал он коротко, глядя не на меня, а на эсэсовца охраны. – Это две подружки из двенадцатого, да?
Эсэсовец возле дверей распрямился и пролаял:
– Jawohl![95]95
Так точно! (нем.)
[Закрыть] – Как железная кукла.
– Na also![96]96
Наконец-то! (нем.)
[Закрыть] Переводи.
И я начал по кусочку переводить на польский медленные, скупо выцеживаемые предложения. Я не буду стараться повторить их вам дословно, он сказал приблизительно так: «Мои дорогие женщины, вы знаете, кто я? Я комендант всего лагеря. Следовательно, имея над вами неограниченную власть, заявляю вам: я освобожу ту из вас, которая – другую – убьет. Ну, кто из вас соглашается?»
Я прервал перевод, но он взглянул на меня только раз, и я договорил предложение до конца. Две женщины, два обвисших мешка полосатых лохмотьев с темными лицами, не дрогнули. Или не поняли? Я добавил по-польски:
– Не верьте ему. Не слушайте.
– Эй! – рыкнул он на меня, одним прыжком перекидывая массивное туловище через стол. – Молчите! Ни слова, кроме того, что я сказал. Пожалуйста, еще раз сначала: переводите.
И снова отчетливо повторил свое предложение. Женщины стояли неподвижно. Тогда он встал, подошел к ним и с трудом, страшно уродуя польский язык, стараясь их уговорить, приблизился к одной, взял ее за безвольную руку – все напрасно. Что-то в ее глазах мерцало: страх, ненависть, голод, – не знаю… Они продолжали молчать.
Кестниц встал ко мне спиной, но на мгновение его лицо мелькнуло в стекле книжного шкафа. Выглядело это так, словно позади его головы находились следившие за мной глаза. Жуткий взгляд маленьких глазок, и мятое, нервно дрожащее лицо. Он двинулся к дверям.
– Ввести, – рявкнул Кестниц.
Эсэсовцы подтолкнули женщин. Ноги мои двинулись сами, клянусь вам, что сами. Я вошел в другую комнату.
Что за картина… это была самая кошмарная явь. Не комната, а клетка, сверху донизу залитая гладким бетоном, выкрашенным в красный цвет. Никакой мебели, ничего – только красный, матово сияющий куб помещения и кусочек закрытого решеткой неба под потолком. Пожалуй, это был лак, ибо откуда же взяться столь свежему цвету у крови?
Кестниц, высокий, толстый, в туго натянутом на животе мундире, повернулся и скомандовал что-то, чего я не понял. Один эсэсовец отклеился от двери и исчез. Воцарилась тишина, слышно было только дыхание присутствующих. Две женщины все время стояли апатично и неподвижно.
Тогда ввели третью, собственно говоря, как бы такую же самую на вид, может, только лицо у нее было более светлое, не знаю, потому что видел ее очень недолго. Широкие массивные плечи Кестница закрыли ее сразу, и он прижимал ее к красному бетону стены, когда его правая рука выхватила из кобуры револьвер. Сверкнул черный металл – женщина у стены не могла видеть оружие, но в глазах немца она разглядела, пожалуй, смерть. Потому что тонкий, беспомощный визг надорвал ей горло, потому что она заметалась под его взглядом, потому что… – Казимеж оборвал рассказ и закрыл лицо руками.
Через минуту, не отрывая их от глаз, он продолжил говорить глухо, понизив голос:
– Кестниц словно впал в экстаз или безумие, глядя на ее реакцию. Я не видел его лица, только туго обтянутую зеленым сукном страшную, ужасную на фоне красной стены спину, полусогнутую, дернувшуюся при звуке неожиданного выстрела. Вспышка, дым; мне в ноздри ударил острый запах пороховых газов. Некоторое время женщина, похожая на растянутую на стене подрагивающую тряпку, была неподвижна, а потом упала со стуком на пол, ударившись о него руками.
Кестниц повернулся к тем двум, по-прежнему так же неподвижно стоявшим узницам, и сказал:
– Ну, понимаете, женщины? Та из вас, которая прикончит вторую, получит свободу! Свободу!
Молчание.
Он впал в бешенство.
– А если нет, то прикажу обеих расстрелять! Сейчас же расстрелять.
Никакой реакции, тишина. И тогда Кестниц схватил руку одной женщины, ударил ею другую и толкнул их друг на друга. И сам не знаю, откуда что взялось, но через секунду по полу уже катался клубок сплетенных тел, и раздавались стоны, крики и хрип, и взметались в бессильной ярости кулаки. Красный туман застлал мне глаза, и я бросился вперед, получил прикладом в бок от эсэсовца и упал. Кестниц не обращал на меня внимания. Он смотрел, как это двуглавое, живое тело переворачивалось, как давило из последних сил, скрипело суставами, пока что-то там не хрустнуло, не поднялось вверх, – и вот одна уже сидит на другой, сдавливает коленями грудную клетку, душит и бьет, бьет, бьет…
Знаю только, что вдруг опять наступила тишина, но не та, что была перед этим. Кестниц стоял, смотрел: одна из женщин встала. На полу осталась маленькая распластанная кучка лохмотьев, и больше ничего. Только беспомощно раскрытые пальцы небольшой ладони обретали покой в расслаблении смерти.
– Ну… что, – сказал Кестниц, вновь обретая довольный голос исследователя. Он был полностью спокоен, безразлично посмотрел на ту, что встала, в разорванной одежде, сквозь которую просвечивало ее удивительно белое обнаженное тело, расцарапанное, все в налившихся кровоподтеках, и бросил лаконично в сторону двери:
– Wegführen![97]97
Увести! (нем.)
[Закрыть]
Тогда, словно сжигаемая огнем, она подскочила к нему:
– Как это? Но ведь я… Нет, я теперь освобожденная! Я свободна…
Град ударов прервал ее лепет. Ее схватили за руки, за складки робы и вынесли. Мы остались одни. Я чувствовал нарастание опасности. Мое состояние я не пытаюсь даже описать. Просто повернул голову, и все закачалось, словно пол стал вдруг непрочным и мягким, но и этого еще было мало. Потому что в то же время я видел ясно и отчетливо, как Кестниц приближался, рос, надвигался, пока не вынудил меня посмотреть ему в глаза. Я боялся этого. Неимоверно боялся того, что было в этих глазах.
В них ничего не было. Спокойные голубые и влажные глаза в красных прорезях век… И он сказал, показывая желтые от табака зубы:
– Na… schön, nicht wahr?[98]98
Ну… прекрасно, не так ли? (нем.)
[Закрыть]
И открыл дверь в черно-зеленый кабинет. Толстую, оснащенную специальным замком дверь.
Я пошел за ним – безвольный, апатичный, напуганный? Не знаю. Назовите это как хотите. Он уселся в кресло, устроился поудобнее.
– Ну и где эти хорошие люди? – спросил он меня с ходу. – Это были две подруги – сердечные, поддерживавшие друг друга подруги по несчастью. Ну и где же дружба? Я показал вам правду – известную мне, впрочем, уже давно: в человеке нет ни добра, ни зла. Есть только основа – и маска. Маска – это гуманизм, достоинства, религия, Христос, ближние, добро и прочие пустяки. А основа, а ядро, а правда – это зло. Точнее, не зло, а то, что вы, глупцы, называете злом. Вам по слепоте вашей не видна суть человека. В человеке есть только одно – не добро, не зло, а то, что минуту назад я выудил экспериментом. Сейчас мы узнаем, как долго вы будете жить. Но до последнего вздоха помните, что нашелся кто-то, кто добрался в человеке до дна. До дна! И это я – тот, кто это сделал: Зигфрид Кестниц. Вы мне верите? – спрашивал он мягко, тихо. – Есть ли добро в человеке?
– Теперь я вынужден прервать повествование. – Казимеж посмотрел мне в лицо. – Если говорить кратко, то ситуация выглядела так: этот человек, который минуту назад убил двоих людей только затем, чтобы мне доказать свой безумный тезис, требовал от меня признать себя побежденным. Требовал подтверждения того, что в человеке добра нет, а если и есть, то только поверхностное и слишком слабое для того, чтобы вынести крайнее и тяжелейшее испытание, связанное с угрозой смерти. Таким образом, можно допустить, что я должен был ответить утвердительно только ради спасения жизни, оставаясь со своей верой в человека, или же не согласиться, тем самым навлекая на себя известное, не выигрывая ничего и теряя все. Кроме, может быть, некоего ореола героизма. Но это вкратце. Потому что в решающую минуту человек становится по-настоящему единым целым, монолитом и – верьте мне – действительно не может следовать ни за каким голосом: ни разума, ни самоотверженности, ни героизма; только все то, что в нем есть, что в нем живет и чувствует, срывается и взрывается, вырывается оттуда, из неких неизведанных в самом себе глубин. И поступает он не так, как хочется, а так, как должен. Так, как должен.
– И что вы ему сказали? – спросил я тихо.
– Я сказал, что он лжет… – Казимеж посмотрел мне в глаза, словно заглядывая в мои мысли. – Понимаете меня?..
– Мне кажется, что понимаю.
– Это действительно не было геройством; геройство проявляется тогда, когда есть два пути: вперед либо назад. У меня выбора не было…
Казимеж продолжил:
– Он не сказал ничего – только как бы немного съежился, выдержал минуту, чтобы во мне поднялся страх после осознания всего того, что я сказал, и нажал на кнопку.
Вошел эсэсовец – Кестниц приказал меня проводить.
Не был ли я прав вначале? Что ж это была за мощная, великолепная скотина, что ж это был за экземпляр, этот гауптштурмфюрер Кестниц…
Он прервался, покашлял и продолжил рассказ:
– Теперь о самом худшем. Я знал, что этим не кончится, что обязательно будет продолжение, что я для него еще не разрешенная загадка, еще не сломанная игрушка, что он не пойдет на то, что сделали бы другие на его месте, что он не применит в отношении меня физические пытки, чтобы вынудить признать свою веру, или, скорее, неверие. Что он захочет меня убедить, убедить на самом деле. А убедить – это значило сломать.
Через несколько недель, когда постоянный страх и напряжение привели меня в некое отупение, эсэсовец Гроэхманн со своим бессмысленным светящимся сальным блеском лицом опять направился ко мне, и тогда мне словно сердце прошила раскаленная платиновая игла: я понял, что пришло время испытания. Я пошел за ним.
На сей раз Кестниц сидел в кресле, ожидая моего прибытия. Он сразу же спросил меня, что я думаю о его эксперименте, не является ли он для меня достаточно объективным показателем. Он говорил так холодно, так безразлично, так спокойно, что единственную страсть, какую я чувствовал в его голосе, была страсть исследователя или ученого. Жуткий стаффаж и обстановка вводили меня, может быть, в некое состояние анормального спокойствия, внутреннего холода – достаточное, чтобы я мог отвечать трезво и коротко, излагая ему свои взгляды не так, как тот, кто хочет защищаться или возражать, а словно описывая что-то, что я вижу, что могу взять в руку, что у меня находится перед глазами. Я говорил, что человек чаще бывает слабым, чем сильным, и чаще злым, чем добрым, но в нем всегда присутствует все. И добро, и зло, и слабость, и сила. Но я верю и знаю, что есть и такие люди, которые являются добрыми – до самого дна своей души, и до самого дна – сильными.
Кестниц молчал, спокойный, когда я говорил. Но когда я закончил, быть может, несколько перевозбужденный именно этими холодом и невозмутимостью, с какой он принимал мои слова, он кратко отозвался:
– Наверное, Яцек Жисневский такой человек?..
Во мне все вздрогнуло. Затрепетало. Замерло.
Яцек? Откуда этот толстый немец знал о моем самом дорогом друге? Я не ответил ничего. Кестниц нажал кнопку.
Двери, черные двери открылись, и Яцек в полосатой одежде, с эскортом из двух немцев вошел, а точнее – его втолкнули, в комнату.
Я смотрел и все еще не верил. И он смотрел. Какая-то искра пробежала между нами.
– Яцек, держись! – воскликнул я непроизвольно, но Кестниц уже встал, его огромное массивное тело двигалось легко и уверенно, глаза прятались в нависших веках. – Maul Halten![99]99
Заткнись! (нем.)
[Закрыть] – рыкнул он на меня, одновременно подходя к Яцеку.
И начал свою игру. Я не могу это назвать иначе: начал играть. Гибкий, быстрый, целеустремленный в словах, в движениях, в жестах, он объяснял Яцеку, который стоял неподвижно, с глубоко скрытым блеском серых глаз, что речь идет о мелочи. Что Яцек обречен на пожизненное пребывание в лагере за работу в нелегальных организациях, но он, Кестниц, возьмет это на себя. Вместо смертельной муки, вместо медленного разрушения всего человеческого, вместо руин и уничтожения всех надежд и мыслей – свобода. Жизнь. Лишь бы только он согласился. И уговаривал, и соблазнял, и объяснял, и сюсюкал, и метался перед ним, а два эсэсовца – два железных атланта – заслоняли сцену тупым взглядом никогда не думающих глаз. Яцек стоял и слушал; не знаю, знал ли он уже Кестница так же хорошо, как я. Гауптштурмфюрер махал руками и просил, грозил и заклинал, обещая все, то есть свободу, за мелочь: за согласие, кивок, обычное согласие на убийство человека, то есть меня. «Ты даже этого не увидишь, – говорил он, – впрочем, он и так погибнет здесь, раньше или позже, следовательно, в чем же тут разница? Только скажешь: да, я согласен, – и будешь свободен! Свободен!» И когда наполнился до краев горячим и бешеным, злым и безумным искушением, тогда – на одно мгновение – между черной каской эсэсовца и широкой спиной Кестница мелькнуло осунувшееся, туго обтянутое кожей лицо Яцека.









































