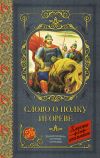Текст книги "Полка. О главных книгах русской литературы"

Автор книги: Станислав Львовский
Жанр: Русская классика, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 65 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
Откуда Платонов знал об ужасах коллективизации? Об этом писали в газетах?
О том, как идёт коллективизация, Платонов мог узнать во время командировки на Среднюю Волгу в середине 1930-го. В газетах о трагедиях деревни не рассказывали, вообще до конца 1980-х правду о коллективизации можно было писать только «в стол». Существует версия, что даты «декабрь 1929 – апрель 1930», проставленные в рукописи, это не время создания, а время действия повести. Это самый жестокий период коллективизации – он начинается с публикации в «Правде» статьи Сталина «Год великого перелома», которая задаёт курс на «ликвидацию кулачества как класса» (выражение, иронически обыгранное в «Котловане»: «Сегодня утром Козлов ликвидировал как чувство свою любовь к одной средней даме»). По местам спущена директива закончить коллективизацию в кратчайшие сроки, у частных хозяйств отбирают в общее пользование землю, скот и зерно, деревенских жителей сгоняют в коммуны с полным обобществлением всего имущества, зажиточных крестьян арестовывают и высылают, в ответ крестьяне режут скот и поднимают мятежи. Конец этому этапу коллективизации положила новая статья Сталина «Головокружение от успехов», где тот объяснил беспримерную жестокость колхозного строительства «перегибами на местах», – в повести это отзывается новой директивой из центра, в которой «отмечались маложелательные явления перегибщины, забеговшества, переусердщины и всякого сползания по правому и левому откосу с отточенной остроты чёткой линии».
Есть ли прототип у «дома будущего», который строят в «Котловане»?
Образ дома будущего восходит к ранним утопистам, а в русской литературе – к Чернышевскому и Достоевскому: хрустальный дворец из романа «Что делать?» в «Легенде о Великом инквизиторе» превращается в Вавилонскую башню, утрачивая всякую утопическую привлекательность. Утопия возрождается в XX веке: в конце 20-х – начале 30-х один за другим появляются проекты «домов-коммун», «жилмассивов», «домов нового быта», которые должны изменить не планировку жилых помещений, но сам быт, организацию жизни. Подобные идеи разрабатывают архитекторы Моисей Гинзбург, Николай Ладовский и братья Веснины, известен даже проект «летающих городов» Георгия Крутикова. Немецкий архитектор Эрнст Май, приехавший в Москву в 1930-м для проектирования «совершенно новых городов», так описывает свою задачу: «Отдельная семья отступает на второй план, она живёт в маленьких жилых ячейках, доступных лишь как спальные помещения. Зато будут построены большие общие кухни, детские сады, клубы, лекционные и читальные залы, спортивные дворцы». Детей предполагается содержать в садах и яслях, школьников – в интернатах, для частной жизни только сон. Для архитекторов, как и для героев «Котлована», это не просто творческий эксперимент: герой повести Прушевский видит в будущем доме убежище от страданий и смерти, его обитатели «будут наполнены той излишней теплотою жизни, которая названа однажды душой». Практически все эти проекты, за исключением нескольких домов-коммун в крупных городах, остались неосуществлёнными. Так и в повести – чем дальше идёт работа над котлованом, тем более призрачным становится дом: «Все бедные и средние мужики работали с таким усердием жизни, будто хотели спастись навеки в пропасти котлована».

Андрей Буров и Михаил Парусников. Рабочие дома для Иванова-Вознесенска. 1926 год[375]375
Андрей Буров и Михаил Парусников. Рабочие дома для Иванова-Вознесенска. 1926 год. Российская национальная библиотека.
[Закрыть]
«Котлован» – это антиутопия?
Скорее нет. Антиутопия описывает нежелательный или катастрофический вариант будущего. В «Котловане» собственно будущего нет, хотя все мысли и действия героев к нему устремлены, да и описание настоящего нельзя назвать однозначно критическим. У автора «Котлована» нет дистанции по отношению к созданному им миру, он как бы проживает, проговаривает его изнутри, не вынося оценок. В отличие от образцов жанра, «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли или «1984» Джорджа Оруэлла, речь здесь не о состоянии мира, которого хотелось бы избежать, а о мире, каким он уже стал. Автору нужно лишь найти язык, который мог бы выразить это положение вещей во всей его чудовищной глубине.
Зачем в повести девочка Настя, которую рабочие приводят жить на стройку?
Оставшаяся сиротой девочка Настя живёт среди строителей котлована на положении «дочери полка» – о ней заботятся, смотрят на неё как на икону, она становится оправданием бессмысленного труда: «…необходимо как можно внезапней закончить котлован, чтобы скорей произошёл дом и детский персонал ограждён был от ветра и простуды каменной стеной!» Настя не выглядит умилительным созданием: ей принадлежат самые радикальные высказывания («плохих людей всех убивать, а то хороших очень мало»), с ней связаны самые жестокие сцены – вроде эпизода, где Чиклин приносит кости её погибшей матери. Настя как бы даёт понять: мир будущего, ради которого приносят себя в жертву герои, будет жестоким. Её гибель ставит в повести безысходную точку: котлован становится могилой, смерть ребёнка (в традиции Достоевского – универсальная мера страдания) делает бессмысленным движение к светлому будущему. «Вощев стоял в недоумении над этим утихшим ребёнком, он уже не знал, где же теперь будет коммунизм на свете, если его нет сначала в детском чувстве и в убеждённом впечатлении? Зачем ему теперь нужен смысл жизни и истина всемирного происхождения, если нет маленького, верного человека, в котором истина стала бы радостью и движением?»
«Котлован» – это ужас без конца? Есть ли в тексте другие оттенки – юмор, например?
Да, безусловно. Текст Платонова местами крайне язвителен. Профсоюзный деятель Пашкин с его мещански-бюрократическими репликами («Ольгуша, лягушечка, ведь ты гигантски чуешь массы! Дай я к тебе за это приорганизуюсь!») – практически герой фельетона. Рабочий Сафронов разговаривает искорёженными лозунгами и «произносит слова… логично и научно, давая им для верности два смысла – основной и запасной». Радио, которое никак не могут наладить в колхозе, транслирует идущие из центра абсурдные указания: «Слушайте сообщения: заготовляйте ивовое корьё!..» Активист, руководящий колхозным строительством, изнемогает в попытках исполнить все директивы начальства и не прослыть «головотяпом и упущенцем». В книге много иронии и сарказма – Михаил Золотоносов считает, что Платонов даже пародирует отдельные пассажи программных статей Сталина, а выражение «колхоз имени Генеральной Линии» само по себе звучит издевательски: «генеральная линия» партии на тот момент предполагает быструю индустриализацию за счёт безжалостной эксплуатации деревни; название колхоза можно перевести как «колхоз имени уничтожения крестьянства». Но это горькая ирония: даже самые комические герои и ситуации «Котлована» вовлечены в цепную реакцию смертей, ведущую всех в одну большую яму.
Можно ли говорить о философии Платонова? Как она выражена в «Котловане»?
Новая жизнь, строительству которой подчинены все действия героев «Котлована», понимается не просто как торжество пролетариата, освободившегося от эксплуататоров, – это «новое небо» и «новое земля», мир после радикального преображения, в нём не будет скорби, бедности, голода и, возможно, смерти (этим устремления героев Платонова близки к идеям «Философии общего дела» Николая Фёдорова). Но результатом сверхнапряжённого жертвенного «общего дела» в повести становится не новая жизнь, а её противоположность – Платонов заворожён стихией смерти, которая поглощает все человеческие планы и усилия. Ощущение «бытия-к-смерти», напряжённого переживания бессмысленности бытия и устремлённости к гибели сближает Платонова с философами-экзистенциалистами. Печаль и сиротство пронизывает весь космос Платонова – вплоть до безвестных предметов, которые собирает Вощев в своём мешке. Это вселенная, страдающая от отсутствия смысла, стремящаяся к высшей цели и упирающаяся в Ничто. Михаил Эпштейн находит здесь параллели с Хайдеггером: для немецкого философа в глубине всего сущего тоже лежит «отчуждающая странность», смертность, Ничто – и именно это неотчуждаемое Ничто создаёт осмысленность и тайну бытия: «Без Ничто мы не знали бы и не созерцали бы сущего, а лишь пребывали бы в нём». Так же как Хайдеггеру, Платонову для раскрытия этих основ бытия приходится заново конструировать язык, возвращая словам их первоначальные значения. «Именно благодаря этому всеобъемлющему чувству смертности проза Платонова и становится метафизической, в том смысле, в каком метафизика означает выход за пределы сущего, в его физической данности»[376]376
Эпштейн М. Н. Указ. соч. С. 214.
[Закрыть].

Осип Мандельштам. Четвёртая проза

О чём эта книга?
«Четвёртая проза» – нечто среднее между исповедью и памфлетом. Текст её вырос из обличительного открытого письма Мандельштама советским писателям. В своём произведении он яростно заявляет о разрыве с этими писателями и с интеллигенцией в целом, обвиняя её в трусливом и угодливом потворстве жестокому произволу, который творит власть.
Когда она написана?
«Четвёртую прозу» Мандельштам диктовал жене зимой 1929/30 годов под свежим впечатлением от последствий так называемого дела об «Уленшпигеле». В середине сентября 1928 года издательством «Земля и фабрика» был выпущен роман Шарля де Костера «Легенда об Уленшпигеле». На титульном листе Мандельштам был ошибочно указан как переводчик, хотя в действительности он лишь обработал и свёл в один текст два сделанных ранее перевода – Аркадия Горнфельда и Василия Карякина. Ни Горнфельд, ни Карякин о готовящемся издании ничего не знали и никаких денег предварительно не получили. Мандельштам первый известил Горнфельда об ошибке издательства и заявил, что отвечает «за его гонорар всем своим литературным заработком». Тем не менее Горнфельд не без оснований счёл поведение издательства предосудительным, а Мандельштама – легкомысленным. Разыгрался нешуточный литературный скандал, быстро переросший в травлю Мандельштама, в которой приняла участие главная государственная газета «Правда». В итоге конфликтная комиссия Федерации объединения советских писателей признала ошибочность травли Мандельштама и одновременно его моральную ответственность за всё произошедшее. Поэт был взбешён таким компромиссным решением.
Как она написана?
Восприятие «Четвёртой прозы» чрезвычайно затруднено, поскольку Мандельштам воспользовался при её написании обычным для себя как для поэта методом сложно ветвящихся ассоциаций. У текста есть пять биографических ключей. Помимо 1) «дела об „Уленшпигеле“», это 2) заступничество Мандельштама за семерых советских работников, облыжно обвинённых в экономической контрреволюции и приговорённых к расстрелу 14 апреля 1928 года, а также 3) трудный быт Мандельштама летом 1929 года в общежитии ЦЕКУБУ (Центральной комиссии по улучшению быта учёных), 4) не состоявшаяся летом 1929 года поездка поэта в Армению и 5) его служба на должности ведущего литературной страницы в газете «Московский комсомолец» летом и осенью 1929 года. Однако эти биографические ключи автор от читателя «Четвёртой прозы» прячет, зато буквально обрушивает на него поток метафор, инвектив, ничего не говорящих читателю фамилий, литературных реминисценций и ядовитых шуток. В итоге у неподготовленного читателя остаётся впечатление художественно очень сильного и негативно окрашенного высказывания, общий смысл которого ему остаётся непонятным.

Осип Мандельштам. Середина 1930-х годов[377]377
Осип Мандельштам. Середина 1930-х годов. Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля.
[Закрыть]
Как она была опубликована?
Разумеется, не могло быть и речи о публикации «Четвёртой прозы» в Советском Союзе сразу же после её написания. Более того, Осип и Надежда Мандельштам никогда не решались держать у себя рукопись этого текста. Некоторое время она хранилась у Любови Назаревской (побочной дочери Максима Горького), а кроме того, текст «Четвёртой прозы» на случай утраты рукописи Надежда Мандельштам выучила наизусть. Первая публикация состоялась лишь во втором томе американского собрания сочинений поэта (Вашингтон, Нью-Йорк, 1964), а в СССР – в 1988 году, в № 3 таллинского журнала «Радуга». Затем последовало несколько изданий с текстологическими уточнениями, среди которых особо выделим тщательно подготовленную А. А. Морозовым публикацию в серии «Литературные мемуары»[378]378
Мандельштам О. Э. Шум времени. – М.: Вагриус, 2002. С. 151–172.
[Закрыть].
Что на неё повлияло?
Текст Мандельштама густо насыщен отсылками к другим авторам. Некоторые из них свидетельствуют о значительном влиянии этих авторов на поэтику «Четвёртой прозы». Среди таких текстов-предшественников – «Божественная комедия» Данте, «Моя родословная» Пушкина, финал «Шинели» Гоголя, «Былое и думы» Герцена, сатирические стихотворения Некрасова («Как будто вколачивал гвозди / Некрасова здесь молоток» – так охарактеризует некрасовские стихотворения Мандельштам в 1933 году), а также ранние фельетоны Зощенко.
Как её приняли?
У «Четвёртой прозы» был весьма ограниченный круг читателей и слушателей-современников. В него входили Анна Ахматова и её третий муж Николай Пунин, филолог Виктор Шкловский, тогдашняя близкая подруга семьи Мандельштам Эмма Герштейн и некоторые другие. Сведения о том, как ими была воспринята «Четвёртая проза», очень скудны. Можно лишь предположить, что общая реакция была сходной с оценкой поэта и переводчика Георгия Шенгели, которому Мандельштам тоже давал почитать «Четвёртую прозу». Как вспоминала Эмма Герштейн, «Шенгели… назвал её „одной из самых мрачных исповедей, какие появлялись в литературе“ и упоминал Жан-Жака Руссо».
Что было дальше?
В мемуарных заметках о Мандельштаме, написанных в первой половине 1960-х годов, Ахматова с горечью, но и с гордостью говорит о произведении Мандельштама: «Эта проза, такая неуслышанная, забытая, только сейчас начинает доходить до читателя, но зато я постоянно слышу, главным образом от молодёжи, которая от неё с ума сходит, что во всём XX веке не было такой прозы». Протоиерей Михаил Ардов так комментирует этот фрагмент: «Ахматова дала мне прочесть „Четвёртую прозу“, и сказать, что она мне понравилась, – ничего не сказать. Полагаю, восторги, которые я высказывал Ахматовой, хотя бы отчасти внушили ей отзыв об этом неподражаемом произведении».
Сходным образом вспоминает о своём восприятии «Четвёртой прозы» в начале 1960-х годов ещё один младший современник, входивший в близкое окружение Ахматовой, – поэт Анатолий Найман. Он рассказывает, как по рукам в Москве и в Ленинграде тогда стала ходить машинопись «Четвёртой прозы», «ошеломлявшей сочетанием эгоцентрически агрессивной изысканности с ругательностью, органичной для ситуации травли и потому лишённой индивидуальных черт. Ритм, приспособившийся к прерывистому дыханию обложенного со всех сторон, но продолжающего свой "косящий бег" благородного зверя; высокий тон, едва не срывающийся на крик; максимализм претензий, поддержанный полнотой самоотдачи, – всё это вместе представлялось молодому человеку наиболее привлекательной и наилучшим образом отвечающей его собственным литературным притязаниям манерой. На неё ориентировались, в частности, и мои первые прозаические опыты: было соблазнительно видеть в ней универсальность и, стало быть, многообещающие перспективы»[379]379
Найман А. Г. Рассказы о Анне Ахматовой. – М.: Худ. лит., 1989. C. 81.
[Закрыть].
Влияние произведения Мандельштама легко выявляется и в некоторых полемических эссе высоко ценившего «Четвёртую прозу» Иосифа Бродского. Безусловно ощутимо оно и в мемуарных книгах мандельштамовской вдовы Надежды Яковлевны, особенно в её «Второй книге», полной страстных обвинений современников поэта и желчных карикатур на них.
Впрочем, эзотеричность мандельштамовского произведения всё же воспрепятствовала его сильному воздействию на русскую прозу и поэзию 1960–2000-х годов. Востребованными в первую очередь оказались отдельные формулы из «Четвёртой прозы»: «ворованный воздух», «для меня в бублике ценна дырка», «писателям, которые пишут заведомо разрешённые вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове» и так далее.
Что происходило в Советском Союзе во время действия и написания «Четвёртой прозы»?
В этот период Сталин прибирал к рукам всю власть в стране и пробовал возможности судебно-карательной системы. В частности, с 18 мая по 6 июля 1928 года в Москве прошёл инсценированный судебно-политический процесс (так называемое «Шахтинское дело»): 53 руководителя и специалиста угольной промышленности СССР были несправедливо обвинены в саботаже, экономической контрреволюции и шпионской деятельности и приговорены к суровым наказаниям (пятеро расстреляны, шесть человек посажены на 10 лет и так далее). Собственно говоря, процесс шестерых членов правления кредитных обществ (их фамилии: Гурвич, Винберг, Ратнер, Капцов, Синелюбов, Ким) и одного работника Наркомфина (Николаевский), за которых заступился Мандельштам, был одним из прологов к «Шахтинскому делу». Несчастных хозяйственников обвиняли в разглашении секретных сведений о хлебных запасах и конъюнктуре советского рынка. Один из обвиняемых (Лев Исаевич Гурвич) был дальним родственником упоминаемых в «Четвёртой прозе» Веньямина Кагана и Исая Мандельштама. Все эти обстоятельства стали фоном, на котором создавалась «Четвёртая проза», источником мандельштамовской злости, многократно прорывающейся в тексте – в упоминании о есенинской строчке «Не расстреливал несчастных по темницам» как «подлинном каноне настоящего писателя» или в проклятиях по адресу «литературы», которая «помогает начальникам держать в повиновении солдат и помогает судьям чинить расправу над обречёнными».

В зале суда во время процесса по «Шахтинскому делу». 1928 год[380]380
В зале суда во время процесса по «Шахтинскому делу». 1928 год. Собрание МАММ.
[Закрыть]
Что значит название «Четвёртая проза»?
«Название это домашнее – она четвёртая по счёту… а цифра привилась по ассоциации с сословием, о котором он думал…» – объясняет Надежда Мандельштам. Но это объяснение само нуждается в комментарии: четвёртым мандельштамовское произведение стало вслед за его относительно объёмными прозаическими текстами «Шум времени», «Феодосия» и «Египетская марка», а «четвёртым сословием», начиная с 1840-х годов, традиционно называют рабочий класс. У Мандельштама это словосочетание употребляется в стихотворении «1 января 1924»:
Ужели я предам позорному злословью –
Вновь пахнет яблоком мороз –
Присягу чудную четвёртому сословью
И клятвы крупные до слёз?

Заключённые по «Шахтинскому делу» выходят из спецавтомобиля у зала суда. 1928 год[381]381
Заключённые по «Шахтинскому делу» выходят из спецавтомобиля у зала суда. 1928 год. Собрание МАММ.
[Закрыть]
По ещё одному предположению, заглавие произведения Мандельштама может означать: последняя, крайняя или не могущая быть продолженной (по аналогии, например, с выражением «четвёртый Рим»). Числительное «четвёртый» встречается в двух стихотворениях поэта: «Не три свечи горели, а три встречи – / Одну из них сам Бог благословил, / Четвёртой не бывать, а Рим далече, – / И никогда он Рима не любил» («На розвальнях, уложенных соломой…», 1916) и «Играй же на разрыв аорты / С кошачьей головой во рту, / Три чорта было – ты четвёртый, / Последний чудный чорт в цвету» («За Паганини длиннопалым…», 1935). Можно вспомнить и о понятии «четвёртое измерение» в значении «другое, фантастическое пространство», именно в этом своём качестве употреблённом в ранней статье Мандельштама «Франсуа Виллон» (1910?): «Высшее общество, вслед за своими поэтами, по-прежнему уносилось мечтой в четвёртое измерение Садов любви и Садов отрады».
В самóй «Четвёртой прозе», во-первых, упоминается «четверг» в качестве традиционного последнего дня выпуска газеты («…московским редактором-гробовщиком, изготовляющим глазетовые гробы на понедельник, вторник, среду и четверг»), а во-вторых, говорится о том, что автор «подписал с Вельзевулом или ГИЗом» договор, «в котором обязался» «отрыгнуть в четверном размере всё незаконно присвоенное».
Так или иначе, но уже заглавие мандельштамовской прозы свидетельствует о том, что в ней он собирается порвать не только с советскими писателями, но и с читателем, во всяком случае с тем читателем-традиционалистом, который ждёт от произведения ясности и прозрачности.
Как Мандельштам относился к победившему в СССР «четвёртому сословью» и его вождям?
Удивительно: автор «Четвёртой прозы» обвиняет интеллигенцию в пособничестве жестокому большевистскому режиму, однако о самóм режиме Мандельштам высказывается в своём произведении скорее с уважением. В третьей главке он говорит про «великое, могучее, запретное понятие класса», а в одном из вариантов произведения прямо формулирует: «Кто же, братишки, по-вашему больше филолог: Сталин, который проводит генеральную линию, большевики, которые друг друга мучают из-за каждой буквочки, заставляют отрекаться до десятых петухов, – или Митька Благой с верёвкой? По-моему – Сталин. По-моему – Ленин. Я люблю их язык. Он мой язык». Согласно Мандельштаму как автору «Четвёртой прозы», омерзительны именно холуйство и беспринципность, а вот принципиальная жёсткость способна вызвать понимание. Плохо то, что потерявшая лицо из-за «животного страха» интеллигенция не выполняет своей главной функции – воспитывать власть и удерживать её в пределах принципиальной жёсткости, не давая соскользнуть в бессмысленную жестокость.
Об этом Мандельштам тоже пишет в третьей главке «Четвёртой прозы», уподобляя большевиков и комсомольцев распоясавшимся школьникам, а интеллигенцию – трусливому учителю Филиппу Филипповичу (уж не с намёком ли на булгаковского Филиппа Филипповича Преображенского из «Собачьего сердца»?): «Мы школьники, которые не учатся. Мы комсомольская вольница. Мы бузотёры с разрешения всех святых. У Филиппа Филипповича разболелись зубы. Филипп Филиппович сватается. Филипп Филиппович не пришёл и не придёт в класс».

Дом Герцена (Тверской бульвар, 25), где в 1932 году жил Мандельштам[382]382
Дом Герцена (Тверской бульвар, 25). Литературный институт имени А. М. Горького.
[Закрыть]
Напомним, что сам Мандельштам, спасая советских работников, обвинённых в саботаже, явился к члену ЦК партии Николаю Ивановичу Бухарину и добился от него отмены смертного приговора.
Как относился Мандельштам лично к Сталину и как это отразилось в «Четвёртой прозе»?
Итак, в одном из вариантов восьмой главки своего произведения Мандельштам воспел Сталина-филолога. Однако в финале пятой главки, посылая очередную порцию проклятий своим литературным врагам, он же позволил себе страшный и крамольный намёк: советским трусливым «писателям я бы запретил вступать в брак и иметь детей. Как могут они иметь детей? – ведь дети должны за нас продолжить, за нас главнейшее досказать – в то время как отцы их запроданы рябому чёрту на три поколения вперёд». «Рябой чёрт» здесь – это, без сомнения, Сталин. Как известно, он стал рябым после перенесённой оспы, Рябым звали его товарищи по революционному подполью. Получается, что уже при первом своём появлении в произведениях Мандельштама образ Сталина амбивалентно двоится: «запроданы рябому чёрту» – негативно, но предположительно, косвенно, эвфемистически, а «филолог Сталин» – одобрительно и прямо.
В этом направлении развивалось отношение поэта к тирану и дальше. Сквозь омерзение прорывалось невольное восхищение силой и последовательностью (как в знаменитой инвективе против Сталина «Мы живём, под собою не чуя страны…» (1933) с её строками: «Его толстые пальцы, как черви, жирны, / И слова, как пудовые гири, верны»). Сквозь одический восторг невольно проступали ужас и страх (как в воспевшем Сталина стихотворении «Когда б я уголь взял для высшей похвалы…» (1937) с его строками: «На всех готовых жить и умереть / Бегут, играя, хмурые морщинки»).
Кого Мандельштам пародирует в третьей главке «Четвёртой прозы»?
Одно из самых страшных мест мандельштамовского произведения – это список продиктованных «животным страхом» призывов из третьей главки «Четвёртой прозы»: «Приказчик на Ордынке работницу обвесил – убей его! Кассирша обсчиталась на пятак – убей её! Директор сдуру подмахнул чепуху – убей его! Мужик припрятал в амбаре рожь – убей его!»
Возможно, автор «Четвёртой прозы» саркастически полуцитирует здесь мгновенно ставшие знаменитыми строки из поэмы Эдуарда Багрицкого «ТВС», написанной в том же 1929 году, что и «Четвёртая проза»:
А век поджидает на мостовой,
Сосредоточен, как часовой.
Иди – и не бойся с ним рядом встать.
Твое одиночество веку под стать.
Оглянешься – а вокруг враги;
Руки протянешь – и нет друзей;
Но если он скажет: «Солги», – солги.
Но если он скажет: «Убей», – убей.

Поэт Эдуард Багрицкий. 1930 год. В «Четвёртой прозе» Мандельштам использует ироническую отсылку к поэме Багрицкого «ТВС»[383]383
Поэт Эдуард Багрицкий. 1930 год. © Фотохроника ТАСС.
[Закрыть]
Должно быть, неслучайно в 1935 году Мандельштам в разговоре с Сергеем Рудаковым[384]384
Сергей Борисович Рудаков (1909–1944) – поэт, литературовед. В 1935 году по причине дворянского происхождения Рудаков был выслан из Ленинграда в Воронеж, там познакомился с Мандельштамом, работал над комментариями и биографическими ссылками к его произведениям. После возвращения в Ленинград Рудаков преподавал литературу, участвовал в работе Пушкинской комиссии Академии наук. Во время войны за попытку спасти своего знакомого-толстовца от призыва Рудаков был отправлен в штрафбат, погиб в бою.
[Закрыть] иронически назовет Багрицкого «подпоэтом».
Кому конкретно и за что Мандельштам в «Четвёртой прозе» предъявляет счет?
Перечислим в порядке появления в тексте:
Профессору математики Московского университета Веньямину Фёдоровичу Кагану за то, что в деле спасения семерых банковских служащих действовал слишком медленно и нерешительно.
Своему однофамильцу (сверхдальнему родственнику) Исаю Бенедиктовичу Мандельштаму за то, что он струсил и никакой реальной помощи арестованным не оказал (от него первого Осип Мандельштам и узнал об этом деле).
Филологу и критику, народнику Аркадию Георгиевичу Горнфельду за то, что вместо товарищеской солидарности с коллегой по переводческому и литературному цеху (самим Мандельштамом) проявил строптивость и высокомерие и, таким образом, превратился в инструмент в руках советских писателей, использованный ими для травли поэта.
Филологу Дмитрию Дмитриевичу Благому за то, что холуйствовал перед большевиками и за то, что организовал при Доме советских писателей (так называемом Доме Герцена) литературный музей, где поместил кусок верёвки, на которой удавился Сергей Есенин (тем самым оскорбив память поэта).
Своему приятелю, благополучному советскому прозаику Валентину Катаеву – за цинизм (Катаев фигурирует в «Четвёртой прозе» как «один мерзавец»).
Французскому поэту Мари-Жозефу Блезу Шенье за то, что, будучи во время Великой французской революции членом Конвента и Якобинского клуба, не заступился за своих арестованных братьев Луи и Андре и не воспрепятствовал казни последнего.
Кого конкретно и за что Мандельштам в «Четвёртой прозе» восхваляет?
Также перечислим в порядке появления в произведении:
Прозаика Михаила Михайловича Зощенко за то, что он в своих рассказах не льстил рабочим и крестьянам (подобно остальным советским писателям), а изобразил представителей «четвёртого сословья» правдиво («Показал нам трудящегося», – формулирует Мандельштам в «Четвёртой прозе») и пытался их тем самым воспитывать.
Поэта Сергея Александровича Есенина за то, что он не подлаживался под строгие правила, установившиеся к середине 1920-х годов в среде советских писателей (был «смертельным врагом литературы» – формулирует Мандельштам), а в строке «Не расстреливал несчастных по темницам» (из стихотворения «Я обманывать себя не стану…») пожалел жертв советского режима.
Секретаршу Бухарина Августу Петровну Короткову – за её доброжелательность и приверженность «Правде-Партии» (Бухарин в течение долгих лет был главным редактором газеты «Правда»).
Французского поэта Андре-Мари де Шенье – за его бесстрашную борьбу с властью и презрение к продажным французским литераторам.
По какому принципу хорошие писатели в «Четвёртой прозе» отделяются от плохих?
Упоминание о двух братьях Шенье (приспособленце и герое), как и парное появление в тексте «Митьки Благого» и «Серёжи Есенина», как и рассказ в начале произведения о другом, трусливом Мандельштаме (Исае Бенедиктовиче), служит более полному раскрытию одной из ключевых тем «Четвёртой прозы». Это тема противопоставления сервильной, угоднической литературы и подлинной, не оглядывающейся на власть словесности. В пятой главке произведения автор обозначает эту оппозицию очень чётко: «Все произведения мировой литературы я делю на разрешённые и написанные без разрешения. Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух».
Почему «китаец» в «Четвёртой прозе» – ругательное слово?
Всего в произведении встречается семь словоформ с корнем «китай» («китайщину», «китайскую», «китаец», «китайца», «китайцам», «китаёзам», «китайском»), и почти все они окрашены резко негативно. В Москве в 1920-х годах жила целая колония китайцев: одних китайских прачечных артелей к 1930 году в столице насчитывалось целых восемь штук. Мандельштам отдавал туда стирать и гладить свою одежду, и вообще к московским китайцам он относился хорошо (напомним о строке про «чистых и честных китайцев» в мандельштамовском стихотворении 1931 года «Ещё далёко мне до патриарха…»). Однако в «Четвёртой прозе» в соответствии с общим негативным её настроем Мандельштам вспоминает не о честности и чистоплотности китайцев, а об их коварстве, угодливости и склонности к социальной мимикрии. Возможно, он имел в виду и то обстоятельство, что многие китайцы после революции служили в Советской России в карательных органах. Отсюда в «Четвёртой прозе» и возникает зловещий образ китайца, который, «когда рубят головы, из той породы, что на цыпочках ходят по кровавой советской земле».
Ещё одна важная составляющая образа китайца для Мандельштама как автора «Четвёртой прозы» – это торжественная пышность китайской речевой манеры. Ещё Чехова в «Скучной истории» это спровоцировало употребить для характеристики выспренней словесной белиберды обидное слово «китайщина»: «…Мы не можем, чтобы не золотить нашей речи всякой китайщиной, вроде: "Вы изволили справедливо заметить" или "Как я уже имел честь вам сказать"…» В сходном значении употреблено существительное «китайщина» и в «Четвёртой прозе»: «Мы стреляем друг у друга папиросы и правим свою китайщину» (устное наблюдение филолога Дарьи Фадеевой).
Наконец, китайская речь непонятна для большинства русских людей, и вот это парадоксальным образом становится в произведении Мандельштама едва ли не единственной положительной характеристикой всего китайского. Во всяком случае, с китайцем, говорящим на тёмном для окружающих языке, он сравнивает себя самого: «Я китаец, никто меня не понимает».
Какую роль в судьбе Мандельштама (не) сыграл «муравьиный нарком» Мравян?
Пытаясь отвлечь Мандельштама от «дела об „Уленшпигеле“», Николай Бухарин придумал отправить поэта в командировку в далёкую Армению. 14 июня 1929 года он написал председателю армянского Совнаркома: «Дорогой тов. Тер-Габриэлян! Один из наших крупных поэтов, О. Мандельштам, хотел бы в Армении получить работу культурного свойства (например, по истории армянского искусства, литературы в частности, или что-либо в этом роде). Он очень образованный человек и мог бы принести вам большую пользу. Его нужно только оставить на некоторое время в покое и дать ему поработать. Об Армении он написал бы работу. Готов учиться армянскому языку и т. д. Пожалуйста, ответьте телеграфом на ваше представительство. Ваш Бухарин». Вскоре из Еревана пришёл положительный ответ, подписанный наркомом просвещения и зампредсовнаркома Армянской ССР Асканезом Артемьевичем Мравяном. В нём говорилось: «Просьба передать поэту Мандельштаму возможность предоставить в Университете лекции по истории русской литературы также русскому языку в Ветеринарном институте». Однако после внезапной смерти Мравяна 23 октября 1929 года поездка была отложена на неопределённое время и состоялась только весной 1930 года. Может быть, «Четвёртую прозу» и можно считать своеобразной «лекцией» по русскому языку, прочитанной в «ветеринарном институте»? Не поэтому ли Мандельштам обращается в своём произведении к советской интеллигенции следующим образом: «Я пришёл к вам, мои парнокопытные друзья»?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?