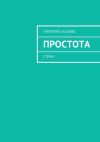Текст книги "Святая простота"

Автор книги: Станислав Мишнев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Заяц в ходоках
(сказка)
В одном Богом забытом лесном хозяйстве не везло на воевод. Только до казны добрались, и давай грабить. Или сопьются. Или подружками обзаведутся с сомнительной репутацией. Зверьё пребывает в небытии: кто сегодня у кормила власти? Кому налог платить, кого сожрут вне очереди? Некоторые медведи по второму заходу в воеводах пребывать стали. Такому только бы ярлык на княжение заграбастать, он ходы-выходы знает, ну и пошел терзать народишко лесное, такому и черт не брат. Пробовали волков выдвигать на руководящий пост, да разве из волка воевода? Серая видимость. Ни тебе почтения, ни уважения, ни твердости в политических решениях, чуть что опять кулаком соседу грозит. Ропот идет по лесу. Всяк под себя положение гребёт, кто кому мзду даёт. Штрафы, налоги, подати, оброк, всякие таможенные сборы, а простой народ одежонку старую латает, рукав к штанине пришивает. Волчицы воют: за что страдаем? Совы анонимки строчат в Прокурорскую Контору. Зайцы осмелели: за что там в Главной Канцелярии вовсе с ума посходили? На дворе март, сезон жениться подошёл, а без разрешения как женишься? О группе крови толкуют, о наследственных генах, предполагаемые тещи зубоскалят о каких-то испытательных сроках, а сердчишко огнём горит, костерком страсти пылают, того гляди скоро снег сойдёт. Старые драные лисами зайцы молчат: сами безотцовщиной выросли, вроде и ум есть, и силенки, даже совесть по кустам не растеряли, а теперь все от законов зачумелые, законов – пруд пруди, огород городи… да ну их, с институтами и с заграничной помощью. Вызывается один заяц ходоком. Отъел морду в воеводской казенной роще. Галстук нацепил, штаны моднющие, – давно косой метил занять место хранителя рощи и посвататься к вдовушке лисе. Согласись лиса на брак, он бы всё племя заячье за пояс заткнул. Заявляет во всеуслышанье, что нет порядка в хозяйстве, кругом беспредел, он за твердую руку, за Конституцию свобод и браков, и детишек своих будет воспитывать за границей. Зайцы согласились: твердая рука нужна, а вот про заграницу, регистрацию браков, визовое передвижение, и прочее… Нам бы чего попроще, без выкрутасов.
До Бога высоко, до царя далеко: и мерз, и голодал ходок, лапу занозил, от легавых увернулся, под выстрел охотника не попал, от голодного волка ускользнул. У Главной Канцелярии дух перевел. Музыка, свет, зверье всякое парами и в одиночку сытое шастает, лиса расчесывает шкуру тигру и смеётся, смеётся…Иностранный волк с нашим медведем в бане парятся, один другого вениками хлещут, оба без галстуков, но оба в кальсонах. Обалдел заяц. Возможно ли такое? Какая-то неземная цивилизация, а где стражи порядка, где юстиция? Возможно ли дурью заниматься и пребывать в праздности? А у них в глубинке дорог нет, освещения ноль, нищета как в колхозе, угодья силой отнимают…и текут слезы по щекам зайца. Подошел к дремлющему льву, поздоровался вежливо превежливо, просит вразумить его, сон он видит или явь. Лев позевал, снисходительно разрешил сказать, чей он да откуда. Горько зайцу за свою опоганенную родину, и про лису вдовушку забыл, и про бахвальство своё, про Конституцию свобод и браков, защемили его сердце вычурная благопристойность да показная роскошь. Стал он сказывать, как сгорела у них кондитерская фабрика, а виновным признали глупого Ежа, признали и шкуру содрали. И про шашни воеводские, про иностранные транши, про заграничные турне, про грабежи да наезды. Старухи на пенсии долго не живут, голод кругом, беспризорщина. Удивляется лев: быть того не может! Это в его Вотчине?!..Заяц пуще, что и дядя родной по матери знал, и то не утаил. Ведет Лев Зайца в отдел статистики, подняли с постели заведующего, Шакала Пятого. Как пошел завотделом цифрами крыть, у Зайца челюсть отвисла. И зарычал владыка Вотчины:
– Меня, Льва Справедливого, гаранта свобод, наследного боярина обманывать?! Что послы заграничные подумают?
Страшно Зайцу, из последних силенок попросил Льва Справедливого сверить показания Шакала Пятого с данными электронных машин, – хоть и в глуши жил, а прогресс понимал.
– Ладно, уважим, – снисходительно говорит Лев Справедливый. – Подать сюда программистов!
Программисты сплошь дятлы, лишь главный программист Селезень Стреляный. Какого умника из кабака выдернули, какого с пляжа голым притащили. Грозится Лев Справедливый всем оторвать головы, в сей же миг заложить данные в машины! Программисты клювами щелкают, шушукаются на своём птичьем языке, кто у кого трешку взаймы просит, кто кого на именины приглашает, а Лев Справедливый уселся в кресло и задремал. Шакал Пятый недвусмысленно намекает программистам, что виной всему «косоглазый», разворошивший ихние палестины. Заяц смекает, что быть ему чучелом в кабинете зоологии – эти программисты… рад бы сбежать, да в дверях два кабана с дубинами стоят.
Спешит куда-то мышка – мышек часто держат на побегушках, видит плачущего зайца. Кокетка была мышка. Сделала премилую мордашку, по губкам карандашиком мазнула: по какому случаю слезы?
Говорит ей Заяц, что надумал справедливость искать в Главной Канцелярии, да по всему видать жизни лишится.
– Хотел на лисе жениться, хотел по иноземным законам жить. Там, за морями, в моде такие браки!..Слониха, например, живёт с ишаком.
– Слониха с ишаком! – хохочет мышка. – Глупее ничего не придумали? Там воры пишут законы для воров, До нас эта пакость ещё не дошла, – глубокомысленно говорит мышь. – Демократии захотели, справедливости…Держи карман шире. Хочешь, помогу?
– Как же ты поможешь, ты такая маленькая, такая …
– Обещаешь, как будешь воеводой, назначишь меня завскладом? Детям потомственный титул, хороший оклад, пенсии по старости?
– Все, всё обещаю! – заверил Заяц и в порыве благодарности расцеловал мышку.
Прибегает мышь к главному программисту Селезню Стреляному, так мол и так, воевода одного дальнего лесного хозяйства приглашает на отдых на великолепное чистое озеро.
– Неужели еще есть такие озера? – усомнился Селезень Стреляный.
– У нас все есть, дорогой ты наш праведник. Народ птичий тебя неподкупным величает. Приватизировать не успели, заграница не берёт – далеко, а какие там заводи, а какие камыши… – выпевает Мышь.
– Говори, говори, что я должен сделать? – загорелся Селезень Стреляный.
– Сущая ерунда: пусть твоя машина напишет, что потомственный князь заяц Хромая Лапа назначается воеводой в лесное хозяйство Главной Канцелярии. Лев Справедливый гарантирует неприкосновенность, разрешает всему зверью вольно жить и плодиться как деды жили и плодились. Написал? Слетай, пускай Его Величество Бревно распишется.
И все. Живёт Заяц воеводой. За чистоту старинного уклада держится. О женитьбе на лисе даже не думает, зайчих молодых около него хоровод. Волки таможню несут, мышка складом продуктовым заведует. Селезень Стреляный на озере дачку отгрохал. Хлопочет в ООН о правах потомственного владения и присвоения прозвища Неподкупный.
Живет Хромая Лапа, научился пыль в глаза пускать, опыт, слава Богу, заимел.
Золотой
Механизатор широкого профиля Гордей Лосев колет на своей улице дрова. Помахивает колунчиком, что Илюшенька булавой, с протяжкой. Поставит чурку на «попа», приноровится, по какому месту садануть, ну и сада нет. Другую поставит, дух пере ведет, на пустынное поле посмотрит, вдоль деревни глазами проедется – и опять вдарит. Раньше, бывало, час не знал как выкроить на разделку этих самых дров, а теперь вольному – волюшка. Седьмой день бригадир за порогом не бывал, а чего ему над душой стоять, коль топлива нет, запчастей нет, а деньги председатель – бедолага кует около Воркуты: маслом сливочным промышляет, копеечку до бывает. Не жизнь – пряник медовый. Был на днях государственный человек, где-то около Вологды отирается, мужики и насели на него скопом: это к чему же дело идет, коль колхозы под нож пустили? Помассировал тот человек трехэтажный подбородок, снисходительно-покровительственным тоном принялся вещать, как старый ворон, про союзников перестройки, большие заграничные кредиты, про фермерские рычаги.
– Так это, выходит, кто куда? – спрашивают мужики.
– Да Бога ради! Вот был я в Канаде…
Гордей Лосев со товарищи в Канаде не были, в заокеанскую сказку не врубились, потому человек отбыл из глупой провинции разочарованным.
На противоположном краю деревни поя вились две легковые машины. Одна – белая, другая – красная. Из них вышли женщины с большими рюкзаками, мигом рассыпались по деревне. «Эхе-хе, – сдвинул шапку на затылок Гордей, – цыганье пожаловало». На цыган Гордея прямо-таки тянуло. При виде их какой-то бесноватый демон заводил его, как заводят пружину патефона, и не отпускал, пока не разыграет всю программу. Антипатия появилась в детстве, когда старая цыганка увидела на руке матери смерть сына в колодце. Гордей с тех пор панически боится воды, и всякий раз, когда появляются цыгане, его подмывает опровергнуть предсказание. Он не был иезуитом, но это христовальное племя считал паразитами народа.
Весной он брел в ремонтную мастерскую. Осенние колеи вы буханы до пупа; ни дорогой, ни стороной по ноздреватому снегу. Навстречу идут три молодые цыганки и цыган. Ноши у них тяжелые, скрючило их как верблюдов.
– Кормильцы вы наши, поильцы вы наши, – изображая большущую радость, возопил Гордей – Не иначе сам Господь Бог указал вам путь в нашу пустыню!
А сам норовит поцеловать полновесную некрасивую цыган ку с глазами навыкате и носом загогулиной. Фуфайка на нем насквозь мазутой продезинфицирована, подноси спичку – факелом вспыхнет, брось в воду – век не утонет. Цыганка отворачивается, руками его отодвигает, бормочет что-то сердитое на своем языке, а ноша ей мешает, а глина ноги спеленала что цемент – осилил охальник, чмокнул раз, приложился другой; женой бы взял, да сердце другой занято. Держится за женщину, одаривает далеко не изысканный выбор свой нежной улыбкой. Зарделась толстуха, сомлела, маковым цветом рас цвела среди грязной дороги, перестала его отталкивать.
– Обносился весь, срам при крыть нечем, родные вы наши…
Расчувствовался цыган, снял с загривка перинник, начал вынимать товар.
Сбросил Гордей фуфайку прямо в колею, бродни снял, на фуфайку ступил. Отвернулся от дам и брюки – долой. – Стоит в одних трусах на весеннем ветру, цыган знай подает, а он примеривает.
– Эх, и добры штаны… а те вон вроде лучше, лучше…
– Бери, бери, золотой, – при говаривает цыганка, поддерживает его за локоть, когда он скачет на одной ноге. Прищелкивает цыганка языком от удовольствия. То ли лестно ей, что мужик ее облобызал, а не подружек по бизнесу, то ли то, что товар пошел, не доходя еще деревни. Все перемерял Гордей, в свое рванье оделся, виновато посмотрел на цыгана.
– Эх, душа моя, все бы купил, да купило кошка отступила. Пожаром в августовской ночи полыхнули глаза цыгана, гыр-гыркнул на толстуху, по-русски обломил матом. Разошлись как подводные лодки, каждый взял свой пеленг. Оглянулся Гордей – бодро идут, толстуху впереди гонит, дорогу проминает остальным.
Рассказал в мастерской мужикам под веселую ногу о своей проделке, слухи дошли до жены Насти. И появились у нее симптомы аллергии на сивушный запах. Стоило ботнуть стакан водки, как из нее, что из помойного ведра, лились нечистоты. Жена кляла всю непутевую ро дню Гордея, вспоминала цыганку, предлагала взять шапку в охапку и ехать аж до Магадана. Летом аллергия развилась до трехмерного изображения, гостил старший брат, потом – младший, потом – шурин с Урала, дядя из Киева. Все мясо съели, три ящика водяры опорожнили. Осенью косяком пошли советские, религиозные, государственные праздники, а как отгуляли Николу-зимнего, жена сгребла обеих дочерей и подалась к матери в Каргополь. Гордей против не был: пускай проветрится, но зачем оставила ему стельную корову, которая вот-вот опростается?.. Живет бобылем, злится на жену, потому в избе не прибирает и кошек не гоняет. Затхлость, вонь, запустение…
Колет дрова Гордей, а сам фиксирует, в какой дом сбега ли цыганки и как долго в нем пробыли. Тут лихо подлетает к нему белый «Жигуль» и у самых дров придумывает дать лихой разворот. Жж-жжиии – и сидит на брюхе. Вышел цыган молодой, высокий, усы – как два серпа отбитых, заглядывает под машину, ни здравствуй, ни прощай, командует Гордею:
– Талкай, чего смотришь.
Не по сердцу пришлось это Гордею это «талкай», холодом колодца опахнуло от слов.
– Черт на попа не работник.
Гыр-гыркнул цыган, сел в машину, газовал, газовал – вылез.
– Дай лопату, земляк.
– Какую, мой черный брат?
– Железную.
– Вон в углу стоит… Часа через два обязательно поставь на место.
– Пачему два? Пачему, земляк? – встревожился цыган.
– Осенью я как втряпался тут, меня двумя тракторами тянули.
Не поверил цыган, весь снег выгреб, распарился шубу-романовку на чурки бросил сел рядом с Гордеем, сказал зло.
– Будь проклят тот день, когда я праменял каня на эту ванючку!
– Твоя правда, – согласился Гордей, – лошадь что: витнем огрел по хребтине – из хомута выскочит, а тарантас выдернет.
– Какой конь был, какой конь! Отец стригунком выменял, беречь завещал, а я… в саседнем калхозе на каня и быка-трехлетка праменял.
– Да ну?
– Эх, мало взял… Такой конь!
– Как же это ты облапошить так сумел? Ну и деляги. Прав да, что лошадям золотые зубы вставляете?
– Клянусь атцом: да! Если бы тот плешивый с пятном на башке не сбежал, этот, Мишкой-камбайнером завут!.
– Вовремя сковырнули. Что, хочешь выкарабкаться?
– Земляк, пажалуйста…
– Шубы не жалко? Обдуришь кого-нибудь, чего жмешься?
– Бери, чтоб ее собаки порвали!
– Да не мне, под колесо подложить.
Выехал цыган, выбил из шубы снег. У нее оказались оторванными рукав и воротник.
Подошла толстая цыганка, весенняя знакомка Гордея, узнала его, улыбается.
– Давай погадаю, золотой, что было, что есть и что будет – скажу, все вижу…
– Давай лучше я тебя научу гадать, деньга сама пойдет, – говорит Гордей. – Ты вот усатая – за тобой грешки водятся, в изрядных телесах – детей у тебя нет, глаза большие – сердце твое свободно от мужика, любишь визжать и сплетничать, характер покладистый, но вспыльчивый, торговать ты не умеешь, тебе бы по хозяйству управляться – самое то.
– Он тебе сказал? – сердито тыкая в стороны руками, говорит цыганка, ставит перед Гордеем полутощий рюкзак. – Мой муж умер, ясно тебе?
Цыган часто мигает, приподняв густые брови, вопросительно смотрит на Гордея.
– Перестань, у меня на это дар от Господа, – говорит довольный собой Гордей. – Вот покажи, в ка кой дом ты ходила, а я скажу, чего ты там продала и на сколько.
– Знахарь, – поджимает губы цыганка, – ну вон тот, где собака маленькая, а злая?
– От силы тыщ двадцать пять выцыганила, а продала кофту.
Цыганку чуть не хватил апоплексический удар, настолько точно угадал Гордей.
– Душа моя, – говорит Гордей низким придушенным голосом, вожделенно глядя на цыганку, – брось ты эти копейки, займись тем ремеслом, что природа тебя наградила: вымой у меня пол в избе – и будешь довольна.
Злой демон опять начал беситься внутри Гордея. Он не прочь разговеться, он все же мужик и все мужское ему не чуждо. Месяц живет без женщины, а деревня – не город, женщины на углу не стоят.
Цыганка говорит что-то цыгану, тот усмехается, пожимает плечами, хмыкает и идет к машине. Она говорит ему что-то гортанное, цыган даже не оборачивается.
Не сразу цыганка схватила тряпку и ведро, она как экскурсант, принюхиваясь крючковатым носом, обошла избу, при виде неприбранной постели с простынями жгутами игриво спросила:
– Плохо спишь, золотой?
Гордей осмелел в греховодной страсти, змей-искуситель принялся шептать ему на ухо, чтобы лишка не рассусоливал. Взял цыганку за руку, притянул к себе.
– Не спеши, не спеши, золотой.
Чувствуя себя на небесах от легкого счастья, Гордей слетал в магазин, прикупил винца, кол баски, достал из подполья банку тушенки и огурцы.
– Иди работай, золотой, работай, – попросила цыганка.
И заходил колун в руках Гордея, эдак палица у Илюшеньки не хаживала. Во всем теле он ощущал нетерпение, содомская потребность горячила кровь.
Вспомнил о корове, сбегал проведать.
Притопала баба Шура, пощупала у коровы задние кости, приговорила:
– Скоро отелится, не проворонь. И послед чтобы не съела, смотри.
– А доить, а доить как?
– Руками. Да что тужишь, вроде у тебя доярка на дому.
Баба Шура – красивая полная женщина, лета ее определить трудно, но держится всегда молодой и любит подкузьмить.
Гордей покраснел под смешливым взглядом, вся его фигура превратилась в пустопорожний чучун.
По всей улице шел дерущий нос аппетитный запах, приготовила цыганка что-то вкуснейшее. «Хорошо Настя тушенку варит», – подумал Гордей и засовестился, чужая баба хозяйничает вместо Насти, притом цыганка!
Выпили по стопке, по второй чокнулись. Горит Гордей от не терпения, забыл про нравственность. Подъезжает к толстухе то с одного, то с другого бока, а она жеманится, ласкать дозволяет, а дальше не пущает. Не приведи Господь, муки Тантала были не под силу Гордею. Он был похож на лошадь, которая видит овес, но не может дотянуться до него губами.
Пришла баба Шура, от порога сказала.
– Пить пей, да ум не пропивай: скоро воды отойдут.
Посидел, сбегал во двор, не висит под хвостом пузырь водяной – и скорее к цыганке. Так часа два мучился. То баба Шура мешает, то к корове бегал.
А ту как застопорило, то копытца покажутся, то назад спрячутся.
– Да что ты в самом-то деле! – закричал Гордей. – Телись!
Выпучила корова глазищи, с немым укором смотрит на хозяина.
Цыганка смолит сигарету за сигаретой, смотрит «Поле чудес», на приставания Гордея – ноль внимания.
Кричит от порога баба Шура.
– Тянуть пошли, задохнется телёнок!
А под окном машина сигналит.
– Ой, меня ищут, – спохватилась цыганка и начала одеваться.
Перематерился про себя Гордей, недовольный, поплелся за бабой Шурой.
– Посмотри, посмотри, как бы не слямзила, – шепчет баба Шура.
Гордей в сердцах плюнул на стену, пошел вон.
– Смотри, Настя не похвалит. Дойди, пощупай.
А цыганка уже на – пороге сама и с маху вешается на шею Гордею.
– Ты сердит, золотой? Ты жди, жди, я скоро вернусь.
Смотрит Гордей, вроде сум ка у нее разбухла?
– Ты это… ты куда?!
– Жди, золотой, жди!
И бегом к машине.
Вихрем влетел в избу Гордей, раскрыл шифоньер – сиротливо сгрудились в углу голые плечики, ни шубы Настиной, ни платьев дорогих. Побежал на улицу, выхватил по пути топор из-за топорника Смотрит, мелькают на другом краю деревни красные огоньки. Изо всей силы всадил топор в стену, погрозил в темноту кулаком.
– Облизнулся? – смеётся баба Шура – Думал пощипать, а самого ощипали? Во, мычит… ну, слава Богу.
Как Жуков на ярмарку ездил
(бухтина)
Представилась бабка Павла, схоронили чин-чинарём и поминать стали. Хорошая была бабка, к людям с душой, лишнего не брякала, на собрания ходила. Одна как перст жила, коз держала. Много народу пришло на поминки. Бородатый и волосами богатый Николай Жуков могилу копал, ему почет и уважение, сразу под образа затолкали. Бригадир вспоминал сенокос – в золотую пору бабка Павла валила траву что жнейка; бабка Курлыкина – соседка по левую руку (хорош сосед за высоким забором) качала головой – все тебе, Павла, на выхвалку надо было, хоть на займы подписываться, хоть на сплав идти, из-за тебя и мы страдали. Соседка по правую руку хохотушка Наталья рассмешила народ бывальщинкой, как они в бане с Павлой мылись; Жуков к хорошей душе покойной притянул и землю хорошую, в которую положили бабку. На столе в траурной рамочке стояла бабкина фотография: бабка Павла прищурила глаза, мол, давай, язык без костей, собирайте, я послушаю. Прищур не нравился полоротой кладовщице Мотьке Ишовой: когда понесли покойницу на машину, Мотька заорала голосом мужским прокуренным: «Куда ногами-то тащите, головой поверните». У мужиков слабость в ногах появилась от такого окрика, вроде раньше ладно носили…Сейчас Мотька сидела как раз напротив фотокарточки покойной, хмыкала во всеуслышанье: надо же, ум за разум зашел с этими похоронами.
– А редко народ мрёт, то всякие запуки и забываются, – говорит беспечная Мотька. – Хоть бы мор какой напал, тогда… я молитву с пелёнок учу не могу запомнить, а тут…от табаку что ли?
Поднабрался Жуков. Закодирован был, пять лет капли спиртной за губой не бывало, а тут понесло. Жена злобится, в бок локтем тычет, а он плясать порывается. Председатель сельсовета говорит про машины: что кабы бабка Павла дотянула до ста, ей бы первой из сельсовета бесплатно американского вездехода дали. Соседка Курлыкина кляла рыжего Чубайса: она-то ваучер на мешок сахарного песку обменяла, а Павла посовестилась, ваучер в музей отослала. Бригадир пустил слезу – жить бы да жить Павле, сейгод созвала его острови заткнуть – заткнул, ста граммов не выпил. «Все знаете, какое лето было, едва ломом лунки пробил. Жалость меня заедает, как вижу народ беззащитный». Бабка Курлыкина тихонько сказала бригадиру, чтобы не спешил Павлино сено на телятник везти, за такое сенцо и рыжиков не жаль, и водочка найдётся.
Потянуло Жукова в сон. Отвык от спиртного. Сладостный дурман обволок пышностью оконные рамы, печь с вырезанными на боку цифрами 1917, прибавила воздушной легкости озирающаяся бабка Курлыкина…Цифры отнесли его в клокочущую пучину революции – пушку-то матросы в самую душу наводят! Читает про себя стихотворение: «…бежит солдат, бежит матрос, стреляют на ходу. Рабочий катит пулемёт…»Состояние удушья, состояние страха… Рванул на груди рубаху – фу ты, черный ухват на кожухе качается, последний переход у ухвата из Времени в Вечность. Закурить бы, да папиросы не знает где. Долой печали! А хороша Мотька, черт бы её побрал с её толстыми губами и неподдельным блеском в глазах! Глупая, да все глупые бабы до секса жадные. Все домой пошли, спит Жуков под образами. Жена рукой махнула: спи, дьявол с тобой. Пока не пил, какая радость была, теперь опять пойдут свары, опять начнет муженёк вещи в окошко выкидывать.
Зря она дьявола помянула. Только люди за двери, дьявол о двери; явился Сатана, губитель душ человеческих, сдернул Жукова с лавки на пол, всю посуду с поминального стола смахнул. (Под шумок сперла бабка Курлыкина с божницы Николу Угодника, лишился дом защиты). «Давал клятву вина не пить до смертного часу?» – спрашивает Сатана. «Давал», – поник челом Жуков. Во рту сухость, рукой-ногой пошевелить сил не имеет. «Не забыл, как в Михайлов день вёз нетель на автомашине?…Не мнись, вижу, что помнишь. Тогда я вместо шофера за руль сел, я с подножки кричал вам, стоящим в кузове с нетелями: «Хо! Хо!» Выпасть первым из кузова ты был должен, ведь ты стоял у самого коровьего хвоста, но я поменял тебя местами с Мишкой Кожевниковым, и именно Мишка смерть принял, его на выбоине нетель вышибла вместе с досками борта, а ты… Ты!» В ярость вошёл Сатана неописуемую. «По обету назорейскому, давшим клятву вина не пить, волосы брить запрещается, в дом с мертвым телом не входить, на похоронах не присутствовать. Ты нарушил свое слово, потому вместо лошади повезешь меня на ярмарку! Слышишь, брюхо житное?!» Тут и дровни нашлись, и хомут подходящий, и кнут ездовому: плеточка-семихвосточка. Оставил Сатана Жукова в одной рубахе; мороз дыхание леденит, ноги тепла не чуют.
Машисто идет Жуков. Ездовой в дровнях приподнимется, как обжарит плеточкой-семихвосточкой лошадку от ушей до задницы!.. Взвоет Жуков от боли и того ретивее катит. Напропалую несется, кустики мелкие своим телом ломает, через камни– валуны лётом летит. Вроде местность знакомая, вроде летом коровы тут паслись…вперёд! некогда оглядываться.
Костер. Огонь до неба. Угрюмые мужики в черной одежде вокруг высунувшейся из земли трубы сидят. Увидели подкатившие дровни, вскочили, Сатану к огню на руках несут. Жуков дух перевёл, смекнул, что горит в трубе нефть русского олигарха и ни чуть не пожалел нефти. Чтоб, думает, скорее газ да нефть кончились, тогда и олигархи выгорят. Разрешил Сатана угрюмым мужикам поразвлечься, по очереди на нём кататься. Станет Жуков лениво перебирать ногами, вытянут по спине кнутом. И круг за кругом, круг за кругом. Один мужик лихачит на Жукове, остальные у огня кричат, спорят, кто ножовкой трубу пилит, кто во всю Ивановскую цены заламывает. Нет, думает Жуков, это не орда монгольская, это чужая рать. Я много на себя взял, и враг напал на меня, и завертел, и бросил в бездну без стыда. Выпрягли Жукова, лопату подали. Копай, велит Сатана, копай без роздыху семьдесят седмин или пока жена твоя не принесёт жертву. Копает Жуков как бы под картошку, а сам гадает: велики ли семьдесят седьмин и чего жене не жалко за него отдать? Корову не отдаст – корова для нее что подруга верная. Трактор зятю отдаст, рада зятю угодить да и зять на трактор глаз положил. Оба его смерти обрадуются. Стиральную машину тоже пожалеет. О сберкнижках министр товарищ Павлов позаботился, до копеечки вычистил. Много чего умом перебрал, остановился на отцовском тулупе. Пить Жукову охота, а попросить боится. Оглянется на мужиков у огня, так бы и сбежал, да ведь догонят… Слезы по щекам бегут. Смотрит, стоят три мешка сахарного песку, маркировку хохляцкого завода изготовителя прочитал явственно написанную. Мужики в те мешки наплевали, нагадили, быстро неси, велят, мешки бабке Курлыкиной. Ей три года жить осталось, пускай пьёт чай не скупится. И как плечи три мешка выдержали, как ноги не подломились, себе не верит. На крыльцо Курлыкиной бабке скинул, до своего дома рукой подать, а мужик сопровождающий в обратную дорогу разворачивает. Заартачился, упал и лежит у дома бригадира. Бригадир на улицу вышел в одних кальсонах, помочился на него, поверженного, «поминальник» свой достал, читает записи. Много гадского материала на него накопил. В одном месте Жуков схалтурил, в другом надул, в третьем оболгал ближнего колхозника, и надо повесить его как предателя Иуду на осине. Не раз у Жукова с бригадиром раньше стычки бывали, – дай этому дармоеду власть прокурора или начальника милиции, весь колхоз жизни лишит. Жалкое положение жертвы, нестерпимая тяжесть, презрение к самому себе, эти и прочие причины наполнили глаза Жукова влагой. «Согласен дровни таскать на себе до скончания века, только повесьте бригадира на колхозной конторе, – просит Жуков мужика. – Пусть он сдохнет раньше меня». Захохотал мужик, по плечу приятельски хлопает. Был он как бы в чалме, нос свекольный. «В масть козырей положил! Низко пал! Почти что прямиком на сковородку. Любим мы забавы да игры. С древнейших времен любим смертельные схватки и боевые состязания, особенно драки людей в грехах запинающихся». И погнал мужик бригадира вместе с Жуковым. Тот было «поминальник» бригадирский швырнул в кусты, так мужик подобрать велел. Откуда-то Мотька Ишова взялась с пулемётом, как закричит дурным своим голосом: «Куды по моей капусте леший несёт?» И сгинула.
Похвалил Сатана своего подручного за смекалку, чалмой его свою поганую личину утёр, велит бригадиру-праведнику драться с грешником Жуковым, да не воздух бить кулаками, а на полное порабощение тела противника. «Победителя обращу в жеребца, и будет тот жеребец началом новой и сытой колхозной жизни».
Крепко дрались бригадир с Жуковым. Бригадир Жукову бороду проредил, Жуков бригадиру несколько зубов выстегнул. Весело Сатане и его подручным, ставки делают, пари заключают. «Вот бы, – думает Жуков, – бабу бы мою сейчас…ручищи у нее будь здоров. Корова растелиться не могла, вчетвером теленка тащили не могли вытащить, она одна вытащила».
Скрипит что-то очень даже похожее на скрип половиц, недовольный голос жены:
– Бесстыдная рожа! Алкоголик!
«Победил гада! – чуть не кричит Жуков. – Жеребец я теперь!»
– Ну-у, – и пинок под ребра.
Разлепил глаза – под порогом крючком лежит, борода засохла винегретной отрыжкой, грозным утёсом жена над ним нависла и тулуп отцовский в руках держит. Выкуп, значит, принесла. Себя ощупал – нет, не жеребец он, приснилось ему, как Сатану на ярмарку возил, обрадовался, вскочил, тулуп на плечи и домой побежал. Жена следом.
– Бригадира ночью на «скорой» увезли. С печи упал, ребра сломал. Споткнулся Жуков, со страхом на деревню смотрит: не сон был…
Побежал обратно в дом Павлы, тулуп под образа кинул.
– Бери! Бери и отвяжись!
Ножницы бабки Павлы со стены снял, бороду перед зеркалом окорнал, волосы в печку за заслонку положил.
Назавтра Николай Жуков поехал в Вологду к врачу Куликову. Кодироваться.
– Просужий мужик, – судачат у колодца бабы. – Олигархом бы выбрать, колхоз в силу войдет.
– Тю, соловая! Куды ему… Телевизор не смотришь? Да олигархи сплошь ворьё. Ты в районе глянь, глянь, где теперь наши организации разворованные, выбрать… Каждый раз выбираем достойного сына народа, да раз от разу сыновья больно ушлые излаживаются. Как бы ободрать нас, а там и в депутаты.
– Где-то воры, у нас, милая, уважаемое сословье. Кто на «день деревни» два ящика водки привёз? Так-то, и крыть нечем!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?