Читать книгу "Молоко львицы, или Я, Борис Шубаев"
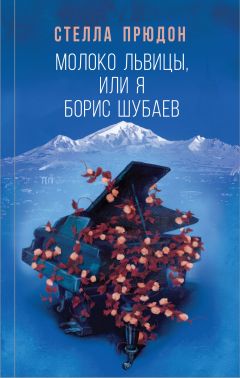
Автор книги: Стелла Прюдон
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Когда настало время рожать, Зумруд собрала сумку и принялась ждать. Но ожидание затянулось. Ребёнок в её чреве как будто уснул. Зумруд предупреждали, что ребёнок будет крупным, и предлагали сделать кесарево, но она не хотела, чтобы резали её плоть, и только упорно продолжала молиться и каждый день бросала монетку в копилку с наклейкой «цдака». Она также просила мужа каждый день ходить в синагогу, собирать миньян и молиться всем вместе за здоровье её неродившегося дитя.
Роды были тяжёлыми и длились целый день. Родился богатырь, которого нарекли Барухом, благословенным, а между собой называли Борей. По домам родни проехался на своей новенькой «Ниве» Гриша, доставляя всем радостную весть, даря подарки, как и положено на мальчика – сладости и шёлковые платки. Но очень скоро обнаружилось, что с мальчиком что-то не так. Он никогда не плакал. Не заплакал он при родах, не плакал он, когда ему на восьмой день делали обрезание, хоть личико его стало похожим на сморщенный помидор, не плакал он ни от холода, ни от жажды. Он никак не проявлял голоса.
3
Аудиопробы показали, что слух в норме, но это было лишь временным успокоением. Знакомые уверяли, что так бывает, но Зумруд была безутешна. Она возила его к профессорам в Москву и к знахаркам в отдалённых сёлах. И те, и те брали деньги и обещали скорое выздоровление. Одна слепая пощупала горло Бори и сказала, что оно похоже на землю после засухи, а московский профессор долго и нудно объяснял причины подобного заболевания, а потом нарисовал специально для Зумруд цветными карандашами структуру гортани и ввёл в её лексикон словосочетание «голосовые связки», взяв за приём сто долларов. Через три года мучений Боря начал мычать, если чего-то сильно хотел, но разве мычание достойно человека? Зумруд цеплялась за малейшую надежду, и когда по телевизору начали показывать Чумака и Кашпировского, ставила несколько стаканов воды – заряжаться, чтобы потом полоскать ими Борино горло, и усаживала мальчика перед телевизором. Он сидеть не хотел и вырывался. Сила в нём была огромная, и он выглядел, как вполне созревший упитанный бычок, бодающийся и отчаянно мычащий, а на тоненьких руках Зумруд после этой схватки оставались синяки величиной в ладонь, но она не сдавалась. Посадив Борю на колени и прижимая к себе, она простирала руки к экстрасенсам: это мой сын, пусть он заговорит.
Неужели это возможно, что Господь вложил в человека столько мощи, столько телесного совершенства, столько безудержности, и всё это – побрякушка, бездумный и безумный монумент физической силе, похожий на тот, что Зумруд видела на ВДНХ в Москве, когда возила Борю к профессору? Неужели и Боре, её любимому и долгожданному сыну, быть рабочим? Неужели ему надо будет наниматься на тяжёлый физический труд, ведь без языка, без речи, без чего-то внешне маленького и незаметного, практически необъяснимого, нематериального, он не сможет ничего. Ни-че-го.
Не находя ответов у врачей, она искала их в священных книгах, и как-то наткнулась на историю из устной Торы, мидраша, которая называлась «Молоко львицы». История настолько её впечатлила, что её чтение Боре стало ежевечерним ритуалом. Она хотела, чтобы и Боря, хоть он был ещё мал, проникся верой в силу своего языка, а значит, и в своё исцеление, так же, как и она.
– Однажды персидский царь тяжело заболел, – рассказывала Зумруд. – Врачи сказали ему: «Ты поправишься, если выпьешь львиного молока». Тогда персидский царь отправил богатые дары в Иерусалим к прославленному своей мудростью царю Шломо, умоляя его помочь в этом деле. Шломо перепоручил эту задачу своему советнику Бенаяу бен Иеояде. Подумав, Бенаяу сказал: «Пусть мне дадут десять коз». Взяв одну из коз, он отправился к львиному логову, где львица выкармливала детёнышей. Остановившись на безопасном расстоянии, Бенаяу бросил козу львице, которая немедленно её разорвала. На другой день он подошёл чуть ближе и снова бросил козу львице. Так он делал десять дней подряд, каждый раз всё больше приближаясь к львам, пока, наконец, львица, привыкнув к нему, не позволила себя подоить. Получив молоко, Шломо сразу отправил его персидскому царю.
Обычно Боря засыпал на этом месте, но Зумруд всегда читала историю до конца – уже скорее для себя, чем для сына:
– Пока посланец шагал по дороге, члены его тела заспорили между собой о том, какой из них заслуживал почестей за свершение подвига по добыче львиного молока. «Это наша заслуга, – похвалялись ноги, – ибо если бы мы не подошли к логову, молоко не было бы добыто». – «Нет, наша, – возразили руки, – если б мы не подоили львицу, молока бы не было». «А как же мы? – воскликнули глаза. – Не мы ли обнаружили тропу к логову?» – «Вы забыли про меня, – возмутился мозг. – Это мне с самого начала пришла такая блестящая мысль!» Общий шум был прерван языком, который заявил: «Все вы ничто передо мной! Если бы не я, где бы вы были?» Услышав такое, все члены закричали: «Как осмеливаешься ты сравнивать себя с нами? Ты просто мягкий нарост, заточенный в тёмную пещеру!» Оскорбившись, язык ответил: «Подождите, и я покажу всем, кто властелин над вами всеми!» Посланец прибыл ко двору персидского царя, и его спешно подвели к трону. Он хотел было произнести подобающие слова, но язык его вдруг сказал: «При сём я преподношу тебе, о великий, собачье молоко, о котором ты просил!» Царь впал в ярость и приказал немедленно повесить посланца. Когда беднягу вели к виселице, все его члены содрогались. «Теперь вы видите, что я важнее всех вас?» – заявил, торжествуя, язык. «Мы признаём это, – в один голос закричали все члены. – Ты распоряжаешься жизнью и смертью!» Язык был доволен. «Я должен передать царю очень важное сообщение, – воскликнул он, – прошу, на один миг приведите меня обратно к нему!» Стражники услышали его слова и вернули посланца к царю. «За что меня казнят?» – спросил посланец. «Ты принёс мне собачье молоко!» – закричал царь. «Уверяю тебя, – сказал посланец, – что это молоко исцелит тебя. Мои слова были просто оговоркой, ибо на языке моей родины одно и то же слово означает и «собака», и «лев». Царь поверил ему, выпил молоко и излечился. И тогда он помиловал посланца.
Прочитав историю до конца, Зумруд ещё долго сидела в комнате Бори и слушала его дыхание. Оно было спокойное и ровное, и Зумруд нравилось дышать с ним в такт. Это успокаивало и утешало её. Если только Боря сможет обнаружить связь между языком и остальным телом, между языком и мозгом, то он рано или поздно заговорит. Рано или поздно. Зумруд верила в это. Очень хотела верить. Она яростно боролась с неверием, жёстко контролируя свои мысли, ловя себя на каждом неправильном слове, каждый раз принося жертву, если чувствовала, что её язык или помыслы были греховными. Она убедила себя, что провинилась перед Ним, раз у её сына было отобрано Слово. Конечно, она могла отправить Борю в школу для глухонемых, его бы там обучили грамоте и жестовому языку, она бы тоже обучилась жестовому языку ради него, но это значит, что он навсегда будет зависим от кого-то, кто также знает этот сложный язык рук, кто способен понять, перевести, посредничать. Нет, не такой судьбы она хотела для него. Она будет биться до последнего, будет цепляться за малейшую надежду, чтобы Боря заговорил. Борина немота стала новым врагом Зумруд, и она готова была бросить на него все силы.
Тем временем открыли границы, и еврейские дома в городе один за другим пустели. Люди бросали всё и убегали от этих бесконечных продовольственных карточек, от баснословных очередей, от невостребованности и ненужности. Зумруд убеждали, что и им надо поехать – хотя бы ради Бори – ведь израильская медицина – одна из лучших в мире, там любой заговорит. Если раньше Зумруд могла закрыть глаза на происходящие в стране изменения, просто выключив телевизор, то теперь она и этого не могла. Достаточно было просто выглянуть за калитку их дома, чтобы заметить перемены. Всё как будто замерло в ожидании. Было очевидно, что страна переживает невиданные до сих пор катаклизмы. Перемены очень пугали Зумруд, и она сутками не выходила на улицу, а когда выходила – возвращалась бледной и осунувшейся, будто за ней всю дорогу бежали вооружённые грабители. В один из таких дней Зумруд и уговорила Захара купить на чёрном рынке пистолет, который мог защитить их семью, если милиции не окажется рядом. Захар удивился, но посчитал желание Зумруд вполне разумным – ведь это он сам рассказал ей, что у Натана было ружьё – и в один из дней пришёл домой с таинственным видом и показал ей завёрнутый в кучу старья чёрный стальной ствол.
Какой будет новая жизнь, не знал никто. Но Захар и Гриша были на коне. Они все чаще ездили в Москву по торговым делам, а когда они возвращались, у них в доме появлялся новый тайник, полный пятидесяти– и сторублевых купюр. Зумруд могла беспрепятственно брать из тайников деньги на лечение Бори, которое требовало все больше и больше вложений. Болезнь Бори была её главной тревогой. Порой Зумруд часами не могла уснуть и долго ворочалась, проигрывая разные сценарии борьбы с ней, все больше тревожные, и когда наконец засыпала, уже начинали петь петухи и лаять собаки из соседних дворов.
Её проблемой была усталость – часто ей казалось, что по голове проехали гусеницы танков, подмяв её под себя. Но она старалась держать себя в руках, не отягощая Захара своими заботами. «Мужу жена нужна здоровая», – говорила она про себя и молчала. «Ничего, потерплю, – говорила она себе, – наши родители терпели и не такое, а мы все неженками стали». Во время одной из поездок мужа и сына в Москву Зумруд осталась с Борей дома одна. Лёжа в кровати, она проматывала произошедшее за день. Татьяна Ивановна, логопед-дефектолог, которую ей советовали как лучшего специалиста, добавила к диагнозам Бори ещё один. «Он у вас гиперактивный». И несмотря на то, что встречи с ней Зумруд ждала как манны небесной, потому что её рекомендовали сразу несколько человек, она через десять минут была выставлена за калитку. Распущенные седые волосы, растрёпанные и сухие, морщинистое лицо без намёка на улыбку, делали её похожей на Бабу-ягу, а не на ангела, которого она ждала. Она даже не пыталась найти подход к Боре, а плаксиво показывала на него: «Почему он у вас такой невоспитанный?» Боря крепко уцепился за юбку Зумруд и не разжимал кулачки даже за обещание дать ему конфет.
Потом был рефлексотерапевт. Он был раздражённый и вздыхающий, деловито хватался своими большими руками за Борину голову и крутил её в разные стороны, пытаясь рассказать Зумруд о дефекте речевого аппарата и порекомендовав ежедневный массаж ротовой полости в течение месяца.
– Вот, возьмите, – он протянул ей визитку.
«Сергей Валентинович Бобровский. ЧП Эскулап», – прочитала она.
– Там мой телефон и на обороте стоимость сеанса. Если возьмёте месячный курс, получите скидку. Если это для вас слишком дорого, я могу сделать для вас смесь из трав. Многим помогает.
Зумруд проводила Сергея Валентиновича, заплатив сто рублей за приём. Конечно, можно попробовать массаж ротовой полости. Хоть Зумруд и сомневалась в эффективности этого метода, она решила, что попробовать стоит. Ещё один шанс. Но может ли этот человек помочь? В его глазах Зумруд не видела любви, как не видела она любви в десятках, сотнях людей, с которыми общалась из-за Бориной болезни раньше. Неужели люди с таким выжженным сердцем могут им чем-то помочь? Себе бы помогли. Но деньги у Зумруд были, хоть с этим, слава Всевышнему, проблем нет. И Захар ещё ни разу не спросил, куда уходят деньги. Всё-таки отличный у неё муж, щедрый и работящий. Вот бы ещё ей самой не подкачать.
Зумруд чувствовала, что силы у неё на исходе. Чем больше она боролась, тем меньше оставалось надежды. А без надежды – как жить? Как жить без сил? Хватит ли оставшейся на донышке её колодца воды на то, чтобы напиться самой и напоить Борю? Уже начались тревожные звоночки, говорящие о том, что она слишком долго шла, слишком много отдала и, возможно, не дойдёт до конца. Звон в ушах возникал внезапно и одолевал её часами. Чуть ли не каждый день ей теперь приходится жить с таким шумом, будто все городские пожарные решили вдруг проехаться через её голову, как через подземный тоннель, а иногда ей казалось, что она находится где-то у них на пути и никак не может спастись бегством, потому что обездвижена. Машины одна за другой проезжают по ней, вдавливая её в асфальт, а она крепко держит себя за живот, боясь, что с её ребёнком случится непоправимое. И тут в темноте она видит, что ребёнок кричит, но она не может его услышать, потому что крик его заглушается воем сирен. Машины с визгом проезжают мимо. Вдруг появляется резник, и отлично заточенный нож падает на Борину шею, голова отлетает и катится прямо под колёса автомобиля. Зумруд бежит и кричит: «Подождите, я должна его похоронить!» Она берет голову и кладёт её в маленький гробик, а рядом кладёт его тело. Она не плачет – слёз больше не осталось. Рядом какие-то люди – они тоже не плачут. Всё проходит в мёртвой тишине. Вдруг она слышит голос – он доносится прямо из гробика.
– Откройте, откройте!
Неужели её сын заговорил? Надо открыть, помочь ему выбраться! Она пытается протянуть руки к гробику, но валится в бессилии. На гробик уже падает земля, слышен женский вой – её вой. Но что это? Неужели они похоронят его? Он же жив!
– Я жив, я жив, я жив! – доносится до Зумруд. – Откройте, откройте, откройте!
Зумруд открыла глаза, её тело тряслось. Она с изумлением поняла, что лежит в своей кровати и всё увиденное было сном. Но когда она это осознала, голос не исчез.
– Откройте! Откройте! Умерли, что ли, все?
Кто-то стучался в калитку. Зумруд посмотрела на часы. Час ночи. Вышла из дома.
– Кини у? Кто там? – Зумруд пытается совладать с дрожащим голосом и не может.
– Ты что, спишь?
Зумруд выдохнула. Это был Натан, брат Захара.
– Почему ты так поздно? Захара нет дома.
– Сумасшедшая! В стране такое творится, а она спит и ни о чём не подозревает. Захар несколько часов не может до тебя дозвониться. Попросил меня приехать. У меня своих проблем хватает, а мне ещё о вас заботиться, пока ты здесь курорт себе устроила.
– Что случилось?
– Она не знает! Она даже телевизор не смотрит! Реформа денежная, вот что случилось. Все пятидесятирублевки и сторублевки через три дня бумажками станут, если не обменять.
– Как станут?
– А, – махнул Натан рукой, – женщина, что ты понимаешь. Давай все деньги, которые у вас есть, я Захару обещал, что попытаюсь обменять. Захар сказал, что у вас спрятано пятьдесят-шестьдесят тысяч. Тысячу оставь, ты их завтра сама в банке обменяешь. Только тысячу можно, остальное сгорает.
Последующие часы превратились для Зумруд в кромешный ад. Она переворачивала дом, доставая отовсюду деньги: из книг, из-под кровати, из морозилки, из банок под крупу. Отовсюду, словно фокусник, она выуживала пачки пятидесяти– и сторублевых купюр образца 1961 года, складывала их в пакеты и отдавала Натану. Он убегал и через несколько часов возвращался с разными вещами: телевизором, магнитофоном, радиоприёмником, велосипедом, золотом, посудой, стульями, часами и коробками, наполненными консервами. В промежутках между его приходами Зумруд садилась перед телевизором и, не включая его, смотрела в экран, качаясь из стороны в сторону. Десятки лет работы её мужа были в этих сбережениях. С этими деньгами они могли позволить себе почти всё. Купили новую машину, начали строить большой дом, покупали продукты на колхозном рынке и, главное, заказывали из Нальчика кошерное мясо, которого было не купить в Пятигорске. И теперь их налаженная жизнь разрушилась за считаные часы. Всю ночь Зумруд сидела у телевизора, ловя каждый шорох. Она не знала, что в этот раз на уме у Всевышнего, но чувствовала, что её ждут новые испытания. Если у них не будет денег, не на что будет лечить Борю. А значит, Боря останется немым. Немым!
– Вой, вой, вой, – раскачиваясь, еле слышно произносила Зумруд.
Калитка открылась и снова послышались шаги Натана. Зумруд не встала со стула. Натан с грохотом вошёл в дом и поставил перед ней картину.
– Вот, это последнее, что я смог купить. Пять тысяч отдал. Жора, который в этом разбирается, говорит, что потом, после реформы, мы её за восемь – десять сбагрим. Чистая Италия!
Зумруд подняла взгляд. На неё, лукаво щурясь, смотрела восточного вида женщина, держащая в руках поднос. А на подносе у неё лежала мужская голова в луже крови. Зумруд охнула, недавний сон отозвался болью в груди, закрыла рот рукой и заплакала.
– Что ты воешь? – недовольно буркнул Натан. – Жора говорит, это известная картина. Такая же в музеях разных висит. А Саломея эта – не абы кто, а иудейская принцесса. Жора рассказал мне, что это крепкая тема. Сейчас все в произведения искусства вкладываются, это очень выгодно стало. Так что спрячь получше, а то узнают, украдут. Она через месяц как машина, как две машины стоить будет.
Натан ушёл, а Зумруд ещё долго сидела перед картиной и смотрела – то в пустые и безжизненные глаза Саломеи, то в полные жизни вытаращенные глаза Крестителя, и пыталась найти ответ на свой вопрос: как живой человек, обладающий крепким и здоровым телом, может быть таким мёртвым, а мёртвый – таким живым? Сколько она так сидела, она не знала, но очнувшись, обнаружила, что рядом с ней стоит Боря и тоже смотрит на картину. Зумруд вздрогнула, стянула со стола большую скатерть и накрыла картину.
– Нельзя тебе на это смотреть! – закричала она. – Забудь о том, что видел!
На самом деле Зумруд хотела сказать это себе. Это она хотела забыть о том, что только что увидела. Она схватила картину и отнесла её в деревянную избушку, где обычно сваливался всякий хлам. Там картина простоит нетронутая пятнадцать лет, до тех пор, пока избушку не разберут по брёвнам и не перевезут в другое место.
4
Наутро Зумруд оставила Борю на соседку и пошла в город, ведь Натан велел ей обменять часть денег самой. Вокруг с выпученными глазами сновали люди. У Сбербанка выстроилась километровая очередь. К очереди подходили люди и предлагали доллары в обмен на сторублевки, сто рублей – один доллар, хотя ещё вчера – Зумруд это знала, так как для московских врачей покупала доллары на чёрном рынке – стоили двадцать пять. Слухи о денежной реформе ходили уже давно, но мало кто придавал им значения, да к тому же всего несколько дней назад эти слухи были опровергнуты на самом высоком уровне. Сам премьер-министр Павлов обещал, что реформы никакой не будет. Иначе они нашли бы способ избавиться от крупных купюр заранее.
– Денег нет! – кричит кассир в окошко. – Не привезли денег, уходите по домам!
Пенсионеры пытаются обменять положенные двести рублей, судорожно записывают номера очереди на завтра – на ладони. Это напомнило Зумруд кадры военного времени, которые она любила смотреть после того, как уложит спать Борю. Они давали ей силы: раз те люди выжили в страшной войне, значит и она выдержит в своей войне, которая по сравнению с той большой казалась ей детской игрой. И, словно читая её мысли, рядом запричитала дряхлая старушка.
– Я блокаду Ленинграда пережила, тогда мы тоже номера на ладони записывали, чтобы хлеб получить. А эту блокаду, чувствую, мне не пережить.
– Бабушка, а вам сколько поменять нужно? – спросила Зумруд.
– Мне пятьсот надо. Я на похороны себе копила. А пенсионерам можно только двести, а остальное по заявлению в горисполком. На всё про всё – три дня, а они ещё ни денег не привезли, ни комиссии при исполкоме не создали. Значит, и хоронить меня будут как собаку. Жила бедно, хотела умереть достойно. Но, видимо, не судьба.
– Бабушка, вы только не переживайте, всё будет хорошо. Не могут они так поступить с людьми. Обязательно вам ваши пятьсот рублей обменяют.
– Они – не могут? Они ещё как могут. Ну да ладно. Я, русский человек, всю жизнь патриоткой была, сначала комсомолкой, потом членом партии, коммунисткой. И что в итоге? Стою как попрошайка, с цифрой на ладони, и молю вернуть мне мои жалкие пятьсот рублей. Для чего жила, спрашивается? Для чего всю жизнь спину гнула? Ни на лекарства, ни на достойную старость денег нет. Всё время уходит на очереди. То за хлебом, то за солью. А сейчас и стояние в очереди не помогает. Пустота вокруг. Ни молока, ни мяса, ни хлеба. Куда весь хлеб уходит? Ведь вокруг же пшеничные поля, кукурузные поля. Была бы помоложе, пошла бы работать. А сейчас что уже? Сейчас только ждать осталось, когда Господь наш Иисус меня к себе призовёт. Ты, дочка, верующая?
– Я? – Зумруд растерялась.
– Ты-ты, а кто же ещё? Я с тобой разговариваю. Ты нашей веры-то? Христианской?
– Я – еврейка, – честно ответила Зумруд.
– А-а-а, – бабушка сжала губы, – из этих-то? Ну это ничего, это поправимо. Пойди, раскайся, прими крещение, и всё будет хорошо. Нет другого Бога, кроме Христа. Спасёшься – не для этой жизни, так хоть для следующей.
– Нет, не пойду. – Зумруд почувствовала, как в голове летают назойливые мухи. – Мне и с моей верой хорошо. Я горжусь быть еврейкой.
– А вот ты мне скажи тогда: Христа вы зачем распяли-то?
– Да ладно, бабка, отстань ты от неё. Человек тебе ничего плохого не сделал. Что ты на неё напала? – попытался вмешаться мужчина в меховой шапке.
– Я на неё не напала. Это она напала. Стоит, выспрашивает. А потом пойдёт, куда надо донесёт за тридцать-то сребреников. Знаем мы ихний нрав, уже две тысячи лет как знаем.
– Жалко мне вас, – сказала Зумруд, развернулась и ушла, с каждым шагом убыстряя темп, пока не перешла на бег.
Она бежала по улице Кирова, до угла Калинина, потом налево, она бежала и бежала до автовокзала, гул в ушах стоял оглушительный. Она не помнила, как перебежала улицу, машины сигналили ей, и водители крутили у виска, но она не видела их, она вспоминала их потом, как будто они всплыли откуда-то из сна, и не понимала, как она так могла бежать, не осознавая себя. Сон наоборот: сила в мышцах есть, а сознание спит. Она добежала до своего дома и к тому времени, как она вошла во двор, сознание полностью вернулось к ней. Как вспышка света в темноте донеслась до неё мысль: «Надо уезжать». Эта мысль стучалась задолго до этого дня – в закрытую дверь, но тут вдруг в одночасье дверь раскрылась настежь, и мысль об отъезде предстала перед ней во всей своей полноте. Уже давно уехавшие год назад нальчинские родственники зазывали их к себе, живописуя красочные картины жизни в Израиле. Но Зумруд неизменно отвечала им, что не думает о переезде: она хочет жить там, где родилась, и умереть там, где похоронены её родители. Но в этот день, 23 января 1991 года, в образе счастливого будущего на родине возникла большая и глубокая трещина, как в земле после землетрясения. Немного успокоившись, она решила, что не будет гнать лошадей и всё потихоньку обдумает. Но мысль, словно зерно, упавшее на вспаханную землю, продолжала прорастать, и невольно Зумруд стала наблюдать за происходящим с возросшей критичностью и видеть вещи, на которые прежде предпочитала закрывать глаза.
Когда на следующий день из Москвы вернулись Захар с Гришей – уже с крупными банкнотами нового образца – и взяли все заботы об обмене оставшихся купюр на себя, Зумруд с облегчением выдохнула. Как хорошо, что ей не приходится стоять в очередях, не приходится ограничивать свои расходы на Борино лечение. Захар дал знать Зумруд, когда она пыталась спросить, что происходит, что она должна заниматься своими делами как прежде – вести хозяйство, заботиться о Боре и брать деньги там, где брала всегда, – а для всех остальных вопросов есть мужчины. И она с ещё большим рвением стала готовить любимые блюда мужа, она готова была лепить долму и курзе хоть каждый день. Ей нравилось их семейное устройство, и ничего менять она не хотела ни за какие деньги.
Двадцать пять лет назад Зумруд отдала бразды правления своей жизнью Захару, полностью доверившись ему и его представлениям о долге. Он взял её в жены, когда ей было шестнадцать, и заменил ей прежнюю семью. Он отвечает за неё перед Всевышним, он обещал это её дяде, и ещё ни разу не нарушил обещания. А она пообещала, что отдаст ему свою жизнь без всяких сомнений и условий, покорится его воле. Она безраздельно принадлежит ему. Зумруд чувствовала себя за мужем как за каменной стеной, через которую никто не посмеет пробраться, чтобы нарушить её покой. Если Захар рядом, то она в полной безопасности. Недостатки Захара – у кого их нет? – она старалась не замечать. Захар иногда был холоден и груб с ней, иногда слишком тщательно наряжался перед выходом, требовал принести ему духи и ругал её за недостаточно хорошо наглаженные рубашку или брюки; иногда приходил домой сильно навеселе и от него пахло женскими духами – в такие дни он был добр и ласков с ней; а иногда приходил в ужасном настроении и изводил её придирками за плохо протёртый стол или за пол, который недостаточно сверкает. Зумруд никогда не отвечала, а лишь тихо и как можно более незаметно исправляла свои ошибки, переглаживала одежду и перемывала полы, но старалась никогда Захару не отвечать, потому что знала: одно её слово породит десятки его слов, и если кран прорвёт, то его уже не остановить.
Это она знала, наблюдая за жизнью своих родителей. Мама никогда не уступала отцу, и жизнь в их доме была неуютной, душной, в постоянном ожидании грозы, и в последние годы – особенно после смерти братьев – свет и вовсе исчез. Крики и ругань не прекращались никогда, а если отца не было дома, мать изливала всю горечь на единственного оказавшегося рядом человека, на Зумруд. Тогда-то Зумруд и научилась не перечить, а принимать удар молча. Она знала, что словесная перепалка легко может вылиться в ссору, а ссора для неё была сродни землетрясению. У себя в семье она собиралась установить другие правила и сделала всё, чтобы ссор в её жизни с Захаром не было никогда.
Захар почти принял то, что Зумруд стала иногда уходить к себе – помолиться – и лишь когда её не было рядом час или два, он начинал ворчать и высказывал ей потом своё недовольство. Но он не потешался открыто над её набожностью, не пытался убедить её в том, что всё это – «чушь собачья» (хотя в разговоре с Гришей, который она подслушала случайно, он позволял себе высказаться так), и лишь однажды он сказал, что религия – это «утешение для бедных», а зачем это всё нужно ей, Зумруд, он не понимает. Но Зумруд продолжала ежедневно уходить на молитву, и лишь через десять лет решилась попросить Захара читать молитву перед шаббатней трапезой, а ещё спустя десять лет, когда в Пятигорске открыли синагогу, она добилась того, чтобы он ходил туда по пятницам молиться за здоровье их сына. Ведь очевидно, что молитвы десяти мужчин, собранных в миньян, быстрее дойдут до Всевышнего, чем если она будет молиться дома одна. Сначала он ходил туда со скрипом, но через какое-то время Зумруд заметила, что больше не надо его упрашивать, что он сам спрашивал её о времени захода солнца и принимал душ, одевался в чистое и уходил, не дожидаясь её просьбы.
Иногда он возвращался домой с мужчинами в кипах, и Зумруд была невероятно рада, когда удавалось услышать, как за столом молятся сразу несколько мужчин, когда Захар разламывал собственноручно испечённую Зумруд халу и окунал в соль, когда они хоть на несколько мгновений становились теми, кем создал их Всевышний. И пусть пока в формально произнесённых Захаром словах молитвы не было особой святости и проникновенности, Зумруд знала, что всё это – дело времени, и надо просто набраться терпения. Зумруд надеялась, что Захар когда-нибудь сам убедится в том, что праведность – в его интересах, но не позволяла себе намёков и тем более нравоучений, чтобы не погубить едва проросший стебель. Она просто изо дня в день следила за тем, чтобы мясо на стол попадало только кошерное, хоть это и доставляло ей немало лишних хлопот. Надо было также проследить за тем, чтобы молочная трапеза была отделена от мясной длительным временныˆм промежутком, и подавать после мясной трапезы сладкое, в котором нет молока. Все эти хлопоты занимали её день полностью, и ей нелегко было отучить своих домашних есть борщ или долму без сметаны, а на завтрак выбирать между колбасой и сыром, но в конце концов мужчины смирились.
В её налаженной долгими годами жизни ничего не изменилось и после реформы, если не считать того единственного дня, событий которого она уже не могла отчётливо припомнить. Но та вспышка, которую она увидела, ослепляла её, и как она ни старалась её потушить, занимая ум своими повседневными делами, она больше не могла совсем не видеть того, что происходит вокруг неё. И даже если она не смотрела телевизор и не читала газет, она не могла не замечать, что мир вокруг неё меняется. Захар по-прежнему был рядом, и она по-прежнему считала правильным полностью доверять ему во всём, однако с каждым днём всё больше и больше стала ловить себя на мысли, что появилось в её душе что-то ещё, не вполне осознаваемое. Как будто реальность вдруг разделилась на две части, на ту, которую она хорошо знала и принимала, и на ту, в которой было мутно и темно и которой она очень боялась. Поход на рынок, уборка дома, готовка, глажка, забота о близких – это были хлопоты, которые Зумруд нравились, это была реальность, в которой она чувствовала себя легко и комфортно. Ей нравилось отвечать за домашнее благополучие, быть домашним главнокомандующим, как иногда называл её Захар. Но всё чаще стала открываться для неё та тёмная, пыльная сторона жизни, от которой она всегда пыталась закрыться. Всё чаще она ловила себя на мысли, что если Захара вдруг не станет, ей придётся лицом к лицу столкнуться с той, другой, реальностью. Эти страхи усиливались тем, что у Захара было больное сердце; об этом знали все, хоть Захар запретил об этом говорить. Но разве можно загнать в клетку пугающие мысли?
Чем больше Зумруд отгоняла эти страхи, нагружая себя больше и больше домашними делами, делая даже то, что было совсем необязательно, тем чаще ужасные картинки вставали перед её глазами, и от них не избавляло ничто, кроме молитв – ни бесконечное мытьё рук, ни поворачивание ключа в замке строго определённое количество раз, – но как уйти на молитву, если на тебе маленький ребёнок? Зумруд не знала, когда с ней стали случаться мелкие, но ощутимые неприятности, заставляющие её на время забыть о внутренней боли и сосредоточиться на теле. Всё началось с того, что у неё сломался ноготь и она должна была думать о том, чтобы не задеть сломанную часть, которая тут же давала о себе знать. Потом защемило нерв, и на несколько дней её мысли были заняты тем, чтобы безболезненно повернуть шею. Соринка в глазу или заноза в пальце освобождала её от мыслей о невыносимом на несколько часов. Иногда неожиданно на палец соскальзывал нож, или она оступалась на ровном месте и подворачивала ногу. Но когда физическая боль утихала, мысли снова саранчой атаковали её.









































