Текст книги "Свободный человек"
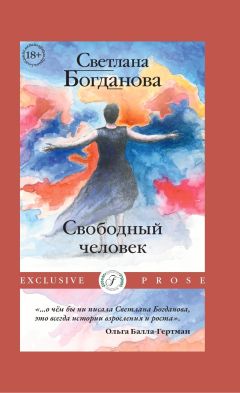
Автор книги: Светлана Богданова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
И тогда, разделившись на две отторгающие друг друга части, я стану мозаикой, гравием, и один из меня будет равнодушен ко всему и вечен, а другой – уязвим и мягок. И тот, последний, станет пищей, и пока мне небезразлично, кто меня съест, я завещаю себя Глазу.
А. Б.
Глава 5
Умерев в возрасте семнадцати лет от гемофилии после жестокой драки в школе – с кем и из-за чего – мне так и не удалось выяснить, – Алеша оставил мне в наследство несколько лоснящихся от ужасного обращения блокнотов и ворох разрозненных листков, исписанных цитатами из прочитанных книг и собственными Алешиными заметками.
После его смерти я занялся перебиранием всего этого, кое-что занося в отдельную, специально заведенную для этого тетрадь – обыкновенную, школьную, тонкую, в бумажной обложке темно-зеленого цвета, – поскольку довольно быстро понял, что действительного Алешиного, подлинного, самобытного, найду там немного.
Внезапно я сильно повзрослел, и, хотя мне было еще только чуть меньше тринадцати, я ощущал себя на все тридцать, словно Алешин возраст перетек ко мне и стал моим. Мне даже иногда думалось, что, собственно, никакого Алеши и вовсе не существовало и что каждый вечер меня посещало нечто вроде видения: больной юноша, склонившийся над письменным столом. Разбирая эти записи, я поразился сильной отстраненности, владевшей Алешей, он, погружаясь в чужие мысли, словно бы оставался над ними и парил, с любопытством изучая узоры новых для него ландшафтов. Эта его позиция была мне очень близка, подобное чувство парения и я научился испытывать и распознавать, сидя с папкой бумаги на коленях и карандашом в руке и рисуя в бесконечно разных ракурсах Алешу. Выяснилось, что одни и те же мысли приходили в головы нам обоим, хотя мы не делились ими друг с другом. Именно это наше странное сходство лишь подтверждало мою догадку о том, что никакого Алеши вообще не существовало.
Читая его блокноты и не понимая только, каким образом удалось мне записать все это совсем другим почерком, я убеждался снова и снова, что мы с Алешей – одно лицо и что меня с его смертью просто оставило чувство раздвоенности, и отныне я сам не понимаю, как долго меня мучили галлюцинации – яркие и явственные, какие бывают у тяжелобольных людей.
Но, несмотря на то что мне удалось наконец разобраться во всем происходившем со мной, одно так и оставалось неясным: почему, уверившись в своем окончательном исцелении, я стал бояться сидеть в детской? Со всем живописным хламом, а также с неопрятными стопками Алешиных, вернее, лже-Алешиных записок я переехал в кабинет к деду.
После школы я взял за привычку долго шататься по улицам, иногда заходя в маленькие кафе, и, согревшись там, снова отправлялся бродить. Домой я теперь возвращался чуть раньше деда, Люся кормила меня обедом, а затем, когда появлялся наконец дед, я усаживался на скрипучий кожаный диван в его кабинете и занимался своими делами. Иногда я рисовал его, как он сидит за своим массивным дубовым столом – старинным, покрытым таким же старинным зеленым сукном, и аккуратно, ровными строчками, заполняет длинные машинописные листы. Он читал лекции в университете, и, собственно, то, что он писал каждый вечер, было подготовкой к той теме, которой он собирался посвятить следующую лекцию. Однако буквы, выводимые его рукой, были настолько безупречно ровны, что издалека, с моего места, казались мне лишь одинаковыми значками, которые он рисовал с параноидальной сосредоточенностью по нескольку часов в сутки.
Первое время он пытался прогнать меня из кабинета, но затем понял всю бесполезность своих стараний и в конце концов разрешил мне остаться. Вскоре он заметил, что, сидя на диване, я сутулюсь, склоняясь к коленям, служившим мне подставкой под бумагу. И тогда, обеспокоенный внезапно моим здоровьем, он перетащил из гостиной маленький ломберный столик, прятавшийся там в каком-то из углов, и водрузил его рядом с диваном, и мне стало много удобнее заниматься тем, чем я хотел. А хотел я поскорее разобрать лже-Алешины записи и составить из них нечто вполне связное, лучше всего отражающее характер писавшего. А затем я надеялся выполнить наконец давнюю просьбу деда и приступить к его портрету.
Люся по-прежнему почти не участвовала в моей жизни, более того, ни ее поведение, ни ее облик ничуть не изменились: она, как и раньше, красила губы малиновой помадой, отчего ее повсюду сопровождал сильный ягодный запах, и, хромая, ходила на работу в кондитерскую, – один раз в два дня, – время от времени принося с собою серые кульки карамели или пряников. Только теперь она молчала по-другому, будто ей уже никогда не приходила в голову мысль, что она кому-либо мешает (как тогда, когда был жив лже-Алеша), но словно она была погружена в себя и всякое слово для нее оказывалось тяжелой работой, ей приходилось выныривать из своих глубин и появляться на поверхности затем только, чтобы с кем– нибудь поздороваться или обменяться парой вежливых фраз, и, кажется, все это она считала пустым занятием. Однако разница между ее тогдашним и нынешним молчанием ничуть не убеждала меня в том, что ее сын действительно когда-то существовал. Напротив, перемены, произошедшие со мной в последнее время, представлялись мне слишком значительными, чтобы весь мир и все люди вокруг меня ни изменились, и любую новую деталь, любое новое неожиданное событие я воспринимал как еще одно доказательство того, что лже-Алеша был лишь моей болезнью, которая наконец прошла.
В лже-Алешиных записях я нашел огромное количество фраз, относящихся к пище, и стал даже подозревать его в каком-то скрытом гурманстве, о чем, судя по всему, никто никогда не догадывался. Сперва я растерялся, не зная, как логически оправдать для себя эту его черту, затем нашел тонкую ниточку, связывающую его тайную страсть к еде с его матерью, работающей в кондитерской, и удовлетворился этим объяснением. Мне нужна была лишь уверенность в том, что я прав, и эту уверенность мне приходилось обеспечивать себе любыми путями.
Когда все было готово и моя тетрадочка, правда, не до конца, но все-таки была заполнена, я достал из шкафа один из моих любых альбомов и выбрал подходящий эпиграф.
Глава 6
Анфиладу снова закрыли, на этот раз по очевидной просьбе дедушки. Он объяснял это тем, что постоянно чувствует какой-то назойливый сквозняк, из-за которого совершенно не в состоянии работать. Я же почти совсем переселился в его кабинет, остальная часть квартиры мне вдруг стала казаться слишком сумрачной и холодной. Даже летом я не мог подолгу находиться в детской: та самая пустота, которую я уловил перед самой лже-Алешиной смертью, с тех пор разрослась и воцарилась, и я уже много месяцев не ночевал в ледяной постели, застеленной в день моего торжественно-печального выздоровления.
Я снова рисовал, почти столько же, сколько и раньше. Только отныне я полюбил рыжую сочность и теплую мягкость сангины, мне нравилось проводить жирную линию на шероховатой бумажной поверхности, а затем размазывать ее подушечкой среднего пальца – так, чтобы возле каждого извива роилась розоватая муть. Тени выходили легкими, а блики особенно яркими на чуть матовых плоскостях. Я не оставлял мысль о создании дедушкиного портрета, и все же я никак не решался приступить к нему, боясь, что мой суровый дед не увидит в этом портрете себя, а потому я делал бесконечное множество эскизов, никак не находя в себе сил исполнить свой замысел.
Сейчас, конечно, я понимаю, что деду не работалось и было неуютно вовсе не из-за вечно распахнутых дверей анфилады, и уж тем более тут не виноваты сквозняки, которых нигде в нашей квартире, кроме светлого коридора, не было. Он никак не мог сосредоточиться под изучающим его черты взглядом, он, скорей всего, сам даже был не в состоянии это понять, поскольку любил меня.
А мне и правда нравилось спать на кожаном диване в его кабинете, я привык к его густому и крахмальному скрипу, и уже не просыпался, переворачиваясь с боку на бок. Но все же, видимо, этот скрип влиял на мои сны, и мне часто снилась зима и будто я хожу по очень глубокому снегу, а он проваливается и стонет под моими ногами.
Между тем я готовился к тому, чтобы написать портрет маслом. Мне необходим был холст, стоивший, правда, очень дорого, поэтому несколько недель я вынужден был копить деньги и покупать лишь самое необходимое, оставив мысли об интенсивной работе. Я должен был отказаться от рисования тушью на тонированной бумаге и даже перестал запасаться альбомами и карандашами. Вытащив из своего ящика в детской старую гуашь, которую я не использовал уже несколько лет, я открыл баночки и заглянул внутрь. Краска высохла и потрескалась, ее поверхность была покрыта сухим пепельным налетом, а глубокие трещины, уходившие далеко внутрь, к самому дну баночки, напротив, напоминали яркий узор, их цвет был праздничным и пастозным. Мне пришлось залить туда немного воды, чтобы ссохшаяся масса размякла, превратилась в вязкую кашицу, с которой уже можно было бы работать. Пару дней я бездействовал, ожидая чудесной метаморфозы, и вот в один тихий вечер, когда дед, как всегда, уселся за свой стол писать лекцию, я достал последний рулон ватмана, разрезал его на несколько крупных прямоугольных кусков, взял кисточки и уже отмокшую гуашь, поставил перед собой пару литровых банок с водой и принялся за дело. В тот вечер я создал три эскиза будущего портрета, так называемые «быстрые» рисунки – я любил этот жанр, хотя он считался всегда ученическим, почти как этюд. Мне нравилась та свобода, с которой можно было смешивать краски: на желтом лице, освещенном настольной лампой, появлялся бордово-коричневый рот, и за носом и под глазами – насыщенно-синие треугольники теней. Такие эскизы и правда делались очень быстро – за десять – пятнадцать минут, и эта неимоверная скорость позволяла чувствовать в руке силу и смело, зачерпнув сразу побольше краски из баночки, наносить на бумагу очередное вызывающее пятно. Самое парадоксальное, что именно такие портреты наиболее напоминали саму натуру и лучше всего демонстрировали зрителю скрытый ее характер.
Итак, три «быстрых» рисунка – было то, что я смог себе позволить перед долгим затишьем, перед сомнамбулическим ожиданием холста.
Был май, самый конец учебного года, и я стал больше времени проводить на улице. Вечерами я лишь выполнял домашние задания, а затем брал книжку, ложился на свой скрипучий диван и, читая, медленно погружался в дремоту. Бывало даже, что я так и засыпал с книжкой в руках, а затем, утром, обнаруживал ее – жесткую, острыми краями впивающуюся мне в щеку или в висок – рядом, на подушке.
Оказалось, мне ничего не стоило сдерживаться и не рисовать. До этого я с содроганием думал, что мои школьные тетрадки отныне покроются монотонными зарисовками, сделанными столь непривлекательными для меня шариковыми стержнями, но вскоре я с облегчением заметил, что рисование не было для меня такой уж необходимостью. Все эти годы, отдавая свое время живописи, словно пытаясь выдержать кем-то заданный безумный темп, я не отдыхал ни дня и, точно какой-то упорный механизм, работал, работал, как будто боялся что-то потерять. Наконец, вынужденная бездеятельность расслабила меня, и мне понравились эти случайно наступившие каникулы – тем более что они совпадали с летними школьными.
Я вдруг подумал, что, в сущности, все эти годы ничего толком не видел и не позволял себе никаких удовольствий, кроме удовольствия от работы и от книг, словно это дурацкое соревнование с собственной тенью было для меня смыслом жизни. Я не знал ничего о людях, окружавших меня, я никогда не интересовался, к примеру, их прошлым или их планами на будущее. Я не знал, о чем они мечтают, что делают, оказавшись вне дома, что им снится по ночам. И когда Люся за одним из ужинов неожиданно предложила мне отправиться к ее сестре в деревню, чтобы погостить там до конца лета, я тут же согласился, решив, что это моя единственная возможность оглянуться вокруг себя и обнаружить при этом не огромные серые окна светлого коридора и не пыльную мебель, громоздившуюся по темным углам, а нечто неизвестное, но таящее в себе столь необходимые мне свежие впечатления.
Весть о том, что я еду в деревню, настигла меня именно в тот самый вечер, когда я принес домой долгожданный холст – уже загрунтованный и натянутый на деревянную раму. Несмотря на то что мне назавтра следовало уже собраться и ночным поездом отправляться к Люсиной сестре, я все же решил начать работу над портретом: слишком долго я предвкушал это мгновение, и мне не терпелось хотя бы разметить холст. Углем я аккуратно, чтобы он не очень-то ломался и крошился в моих напряженных пальцах, сделал несколько резких штрихов. Затем я взялся за уже приготовленные масляные краски. И хотя дед был против, я зажег весь возможный свет в кабинете. Он, недовольный, насупился и, съежившись под своим любимым шотландским пледом, углубился в бумаги.
Именно в такой позе я его и запечатлел: сутулые плечи, янтарно-индиговые складки мягкой шерстяной ткани, поблескивающая лысина, очки, слегка съехавшие на кончик носа, и взгляд, недоверчиво-вопросительный над тонкими круглыми стеклами. Подобное выражение лица ему было совершенно несвойственно, он обычно хмурился и выглядел даже чересчур неприветливо. А здесь – какая-то неуверенная уязвимость, глаза потрясенного ребенка. Это произошло по той лишь причине, что именно глаза я рисовал, уже вернувшись домой после каникул, осенью, когда моего деда не стало.
И взгляд, собственно, принадлежал не ему, а другому старику, чью фотографию я случайно увидел в деревне, на захламленном газетами и поношенной одеждой чердаке, в каком-то давнишнем журнале, и это наваждение меня неотвязно преследовало все лето, пока наконец я не справился с ним, подарив столь чуждое выражение чертам моего деда, которому было уже все равно.
Глава 7
Хотя я чувствовал себя уже совершенно взрослым, впрочем, я уже и вправду был немаленьким – ведь я как раз закончил девятый класс, и через год мне уже следовало бы подумать об университете, все-таки я был сильно напуган своим путешествием. Я обожал гулять по улицам, но я никогда не садился в поезд и не проводил в нем ночь, тем более в одиночку.
Вагон дернулся, и, сидя на своей полке, я увидел, как пейзаж, уныло застывший за грязноватым стеклом, вдруг стал смещаться и подрагивать, и я ощутил, как у меня в животе что-то вдруг тоже затрепетало, словно стараясь остаться на месте, противясь внезапно быстрому движению. Мне стало нехорошо, и я прилег, уткнувшись носом в жесткую накрахмаленную наволочку, пахнущую, как мне казалось, кипяченым молоком – приторно-тошнотворно. И тогда я впервые понял, что мне страшно и я совершенно не знаю, как я должен поступить и могу ли я побороть этот ускоряющийся стук колес. Я пытался проглотить болезненно-липкий шарик, застрявший у меня в горле, но он лишь прокатывался по тонкому тоннелю пищевода к желудку и тут же возвращался обратно. Мне захотелось спать, но уснуть было невозможно, все мое тело грохотало и вибрировало, точно огромная и неуклюжая фабрика по производству страха. Я вспотел, но не мог пошевелиться, чтобы снять свитер и носки, я не был в состоянии даже открыть глаза. Так и лежал в своем ужасном оцепенении, трясясь вместе с царапающей мне лицо подушкой и обтянутой дерматином скользкой полкой в душном купе, уносящем меня прочь от дома, от моих привычек и от меня самого.
Мне чудилось, что в детстве, когда – я вспомнить не мог, – но я уже испытывал нечто похожее: движение, и гудки, и скрежет, – и мне вдруг пришла в голову мысль, что я делаю что-то не то, что я допускаю какую-то ошибку, позволяя себя уносить вот так – безвольным куском теста – скрученным, взмокшим, – пряничным полумесяцем, задохнувшимся ломтем пастилы – прочь. Я знал, что давным-давно уже пережил это ощущение: что-то чуждое и неправильное уже врывалось в мою жизнь, а я не умел противостоять ему и вынужден был повиноваться.
Дом, и два овальных пруда – один перетекал в другой по узкой трубе, кем-то заботливо проложенной под пыльным шоссе, и лес, – я разглядел только через неделю, когда оправился от гриппа, начавшегося у меня еще в поезде и заставившего меня несколько дней пролежать на железной койке в маленькой светлой, абсолютно пустой комнате, смежной с Наташиной спальней. В отличие от Люси, она любила болтать, и в те дни, когда температура у меня еще не упала, я сильно раздражался на ее высокий и резко звучащий голос. Вечерами она, готовя еду, слушала старый потрескавшийся пластиковый приемник, а затем весь следующий день пересказывала мне то, что услышала по радио накануне.
Вскоре, однако, поправившись и немного успокоившись, я научился поддакивать ей, не вникая в смысл ее бесконечно сумбурной речи. Довольно быстро я осознал, что чувствую себя неуверенно и много волнуюсь не столько оттого, что оказался в незнакомом и новом для меня месте, но потому, что нарушился мой режим, который я установил для себя сам несколько лет назад, и теперь мне постоянно мерещилось, что я то ли что-то забыл сделать, то ли чего-то кому-то не передал. Путешествие в поезде словно бы насытило меня впечатлениями, и незаметно для себя я снова оказался в плену собственной замкнутости и отрешенности.
Каждый день после завтрака я брал с собой несколько бутербродов, завернутых в маленький мятый пакетик, и отправлялся бродить по лесу. Лес меня успокаивал: когда я не видел горизонта, я ощущал себя более защищенным, почти как в городе. И все– таки я как будто не замечал ни деревьев, ни травы, я словно бы и не слышал птиц и не чувствовал запахов: я блуждал бесконечно, весь день, независимо от погоды – под дождем ли, в жару ли, – и чудилось мне, что я плыву в совершенной тишине, среди сочных пятен света – странных форм и непонятного происхождения.
К вечеру я возвращался, чтобы поужинать, послушать Наташину болтовню и, как всегда, с книжкой отправиться спать.
Я быстро дочитал то, что захватил с собой, и тогда Наташа отвела меня на чердак, где я смог бы подобрать себе что-нибудь другое.
Мне показалось забавным сидеть на пыльном дощатом полу и копошиться в стопках пожелтевшей бумаги, и я совсем забыл о своих регулярных прогулках. Я вновь был в своей стихии, я проводил все время, разбирая этот печатный хлам. Тогда-то я и наткнулся на фотографию неизвестного старика, чертами лица внезапно напомнившего мне деда, он смотрел исподлобья со столь поразившим меня выражением. Это был какой-то старый литературный журнал, который я вытащил из пачки, лежавшей в стороне от остальных. На удивление, мне именно в той пачке попались самые интересные публикации и несколько книг – какие-то приключенческие юношеские романы. На следующее утро я поинтересовался у Наташи, откуда там так много журналов. Она объяснила, что их собирал покойный ее и Люсин отец.
– Потом, – добавила она, – там Алеша копошился чего-то. Он любил читать на чердаке.
Отныне я разбирал все это старье с одной лишь целью: наткнуться на что-нибудь, касающееся Алеши, на какую-либо вещь, принадлежавшую ему и носившую на себе его отпечаток. Я осматривал каждую страницу в надежде найти случайную запись на истертых, местами выщербленных краях – просто слово, или чье-то имя, или рисунок – обычный пистолет либо кошачью мордочку, какие обычно оставляют во множестве дети, заскучавшие над взрослыми газетами. Но я не находил ничего.
АНОНИМНЫЕ СТИХИ, ОБНАРУЖЕННЫЕ В ОДНОМ ИЗ ЖУРНАЛОВ И ПРИПИСЫВАЕМЫЕ МНОЙ ПО СЛУЧАЙНОЙ АССОЦИАЦИИ АЛЕШЕ
Однажды я увидел
Пурпурные сосуды, сдерживающие мелкой сеткой
Чей-то быстрый взгляд.
Он показался мне холодным,
Словно оружие, звенящее о бедро воина.
Он бездействовал.
И тогда я понял, что здесь
Моя блестящая могила,
Меня похоронят в сплетении этих
Трепещущих нитей.
Так водоросли окутывают мертвую рыбу,
Похожую на собственную фотографию.
Отчаявшись, я стал играть сам с собою, загадывая, что вот если я сейчас найду что-нибудь необычное, то, значит, Алеша находится где-то рядом, значит, он видит меня и помнит, значит, он действительно когда-то существовал.
Я листал журналы, подолгу задерживаясь на тех разворотах, где, как мне казалось, были видны следы чьего-то неаккуратного чтения: либо заломан уголок, как это любил делать Алеша (впрочем, я прекрасно понимал, что точно так же подобную привычку мог иметь и другой, незнакомый мне человек), либо немного поцарапана глянцевитая обложка, либо вырвано и безвозвратно утеряно несколько страниц…
Спустя несколько дней я сильно затосковал. Ничто не свидетельствовало о давнем Алешином присутствии, во всяком случае, ничто не доказывало его явно и безусловно.
Я все реже появлялся на чердаке, гулять мне тоже уже не хотелось, да и моя пустая комнатенка совсем не радовала глаз. Я вдруг заскучал по нашей квартире, по деду и даже по молчаливой хромой Люсе, по ее дешевой маслянистой подсолнечной халве и по липким жестким карамелькам. Меня снова стала раздражать Наташина суетливая визгливость, и однажды я не выдержал и попросился домой.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































