Текст книги "Милостью Божьей"
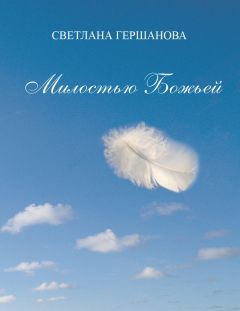
Автор книги: Светлана Гершанова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
3. Пржевальск
Живём отдельно от бабушки. Комната с тремя кроватями вплотную, двор с крепкими дощатыми воротами. Мама постоянно что-то готовит на двух кирпичах, тогда ещё стоило сказать, что хочешь есть, и она тут же начинала готовить.
Бабушка жила в двух кварталах от нас. Хорошо помню там мамину старшую сестру, тётю Любашу. Она кончила консерваторию, преподавала много лет.
Ведёт меня гулять и просит что-нибудь спеть. Я знаю множество звонких маршей, знаю про любовь, мы столько песен перепели с папой, когда ходили гулять к Дону. И я громко пою тётё Любаше наши с папой любимые песни.
– Музыкант из тебя не выйдет, к сожалению.
Оказывается, мама попросила её проверить, выйдет ли из меня музыкант!
– Не выйдет? Ну и что! Я и не собираюсь – музыкантом.
– А кем ты собираешься стать?
– Понимаете, я ещё не знаю. Например, сегодня мне хочется стать доктором, а завтра принцессой.
– Какой принцессой, откуда они в нашей стране?
– Ну, можно же думать, нарочно ты принцесса?
– Думать можно, – озадаченно соглашается тётя Любаша.
– Она у тебя фантазёрка, Томочка.
– Да, этого хватает. Так не учить её музыке?
– Какая музыка сейчас? Ты ещё большая фантазёрка. Война идёт, Юра неизвестно где, инструмента нет, а ты – музыка. Но знаешь, со слухом у неё неважно, а чувство ритма поразительное.
Это лето я помню чётко, день за днём.
У Вовки корь. Меня переселяют к бабушке и не пускают домой.
Помню острое чувство заброшенности, ненужности своей. Прихожу, стучу в глухие жёлтые ворота. Выходит мама, закрывает калитку за своей спиной, чтобы я и заглянуть не могла во двор:
– Я же не велела тебе приходить, что за упрямый ребёнок! Русским языком было сказано – Вовочка болен, ты можешь заразиться!
Потом заболела бабушка, и меня забрали домой. Я тут же слегла, конечно. Помню не саму болезнь, а выздоровление. Мы одни в комнате, кидаемся подушками и хохочем, особенно Вовка.
Чтобы услышать его смех, я готова опять и опять перебегать с одной кровати на другую за подушкой, которую он не может добросить до меня. Он слабенький и бледный после болезни, и такой счастливый смех!
И тут пришла мама, остановилась в дверях.
Вовик стоит на кровати с подушкой, я на земляном полу, босая, пух летает по комнате, и мы просто закатываемся от смеха.
– Перестаньте сейчас же! Бабушка умерла…
Зима. У нас уже своя комната, земляной пол, дверь прямо на улицу.
Сумерки у холодной печки. Мы сидим и ждём, когда вернётся мама. Темнеет, будто кто-то прикручивает фитиль у керосиновой лампы. Впрочем, её у нас уже нет, есть только тряпочка в плошке с жиром, но мама не разрешает нам зажигать её самим.
Мы сидим в темноте, притихшие, как мышата. Дверь открывается. Они здесь не запираются вообще, только на ночь мама накидывает крючок, который сделал из гвоздя сосед-киргиз.
Это он и пришёл, больше к нам некому приходить. Берёт Вовика на руки, протягивает мне жёсткую ладонь:
– Поднимайся, девочка, пойдём к нам, незачем сидеть в темноте и холоде.
Вовка обнимает его за шею, они такие друзья! Ведь наш сосед – хозяин лошади, арбы, и жеребёнка. Он обещал выучить Вовку на извозчика, когда вырастет во взрослого парня, а жеребёнок – в коня. А ещё он катает Вовку на облучке, даёт подержать кнут, и такое счастье светится на Вовкином лице!
Со мной у него другой разговор, два-три слова за день. Я понимаю, я ведь женщина, он и со своей женой и дочками так разговаривает, а сыновей у него нет. Иногда зайдёт за Вовкой, окинет взглядом комнату и пойдёт к двери. И я сразу берусь за веник.
Сейчас он уводит нас к себе. Пылает очаг, в комнате тепло и светло, жена и все три его дочки ходят вокруг, и чай дымится в большой пиале.
И приходит мама.
– Зачем вы забрали детей, у вас хорошо, но завтра им всё равно сидеть одним.
– Детей нельзя оставлять одних, киргиз не может этого видеть.
– Если я буду с ними, чем кормить?
– Дети не должны быть одни.
Ещё киргиз не может видеть, как женщина сама рубит дрова, железные от мороза. Он забирает у мамы топор:
– Иди к детям, топи печь, сейчас принесу.
Входит, борода и усы белы от инея, кладёт охапку дров и смотрит, как дымят сырые полешки.
– Пусти, я сам.
И вот огонь разгорается, я смотрю на его весёлую пляску, а за стеной – гудит, и ухает, и воет!
– Что это, мама?
– Не бойся, – отвечает за маму сосед, – это ветер, он объезжает белого коня.
Будто это всё было вчера… Через много лет откликнулось стихами:
Буря
Буря начинается с затишья,
С ясной и звенящей тишины.
Ветер притаился, и не дышит,
Ни с какой не дует стороны!
Только вдруг едва заметной дымкой
Замутится солнца ясный свет,
Шевельнутся верхние снежинки,
Поглядеть,
Свободны, или нет,
И порыв —
Один, второй, и третий,
И схлестнулись вихри в вышине,
И над степью —
Только снег и ветер,
Только ветер да колючий снег!
Я такую вьюгу помню в детстве,
В искорёженной войной судьбе…
Там киргиз, живущий по соседству.
Нас увёл с братишкою к себе.
И сказал:
– Да вы не бойтесь, дети!
Вот вам чай,
Присядьте у огня.
Это ветер, это просто ветер
Объезжает белого коня…
А потом – огромное лето, почти мирная жизнь, только обрывки случайно услышанных разговоров – идут жестокие бои, потери огромные. Как там наши, живы ли, не ранены…
Писем от папы не было, мы получили только одно письмо, ещё в Грозном, я до сих пор помню его наизусть:
«Доехали благополучно, находимся на формировании».
Как только Ростов освободили, мама написала знакомым, хотела узнать самое главное, самое важное – нет ли писем от папы.
Почтальон – девочка-подросток, смуглая, чёрненькая, черноглазая. Она смотрела прямо на меня, когда входила во двор. У меня на лице, наверно, было написано такое ожидание! Я вставала с земли, где играла в камушки, или выбегала на порог…
– Вам нет ничего! Я бы сразу принесла!
И тут, наконец, пришло письмо. Девочка – почтальон несла его отдельно от остальных и кричала ещё издали:
– Танцуй, танцуй, Светка! Вам письмо!
– От папы? – с замиранием сердца спрашиваю я. – Он… живой?
– Не от папы, письма с фронта не в таких конвертах, это гражданское письмо, из Ростова. Ладно, можешь не танцевать.
Мама прочла его вечером. Она ходила по комнате с письмом и плакала, плакала, я никогда не видела у неё столько слёз, даже когда бабушка умерла.
– Мама, что там написано? Что-то с папой?
– Нет, нет…
– Наш дом разбомбили?
– Нет, нет, ох, Господи… Убили дедушку.
– В него попала бомба, да?
– Нет, нет… Его расстреляли на площади.
– За что? Он был партизан?
– Он был еврей.
У меня в душе что-то оборвалось и повеяло жгучим холодом.
– Я знала, я знала, – повторяла мама, – я так просила его поехать с нами! Не хотел быть в тягость никому. Я знала, знала!
– Значит, если бы мы не уехали…
– Да. Это было безумие – остаться!
– А папа тоже еврей?
– Да. Но он на фронте, только бы не попал в плен.
– Только бы не попал в плен, – повторила я, как заклинание.
– Поедем в Ростов, дом наш цел, будет крыша над головой. А вдруг там письма от папы? Ведь он не знает нашего адреса, а домой-то напишет наверняка. Как узнает, что Ростов освободили, так и напишет!
– Конечно, поедем домой!
4. Ростов сорок третьего года
Мне кажется, мы вернулись в Ростов, когда развалины ещё дымились и были тёплыми на ощупь. Сколько раз наше возвращение проплывало у меня перед глазами, может, наша память и есть кинолента, замкнутая в круг?
Мы сидим с Вовкой на чемоданах посреди вокзальной площади. Мама пошла за тачечником. Она долго не возвращается, но мы ждём терпеливо, мы привыкли. И Вовка в свои четыре года не думает капризничать, сидит и смотрит куда-то далеко своими круглыми карими глазами.
Я должна стеречь вещи, смотреть неотрывно на два больших чемодана и один чёрный, маленький. Мама сказала мне:
– Будь внимательней, это всё, что у нас осталось.
И вдруг подходит женщина, самая обыкновенная женщина, и берёт крайний чёрный чемодан.
– Не трогайте, не берите! – кричу я, а она уходит с нашим чемоданом спокойно и медленно, а я даже не могу бежать за ней, только плачу и кричу:
– Чемодан украли!
Мама пробирается сквозь толпу, она думает, наверно, что с нами случилось что-то ужасное. Мы целы, только ревём оба, а тётки с нашим чемоданом нет и в помине.
– Там были все детские вещи. Какие люди, так пользоваться человеческим горем…
Вовка у мамы на руках успокаивается сразу, а я всю дорогу плачу – видела, всё видела, и не могла остановить.
Мы идём в горку медленно, мама с Вовкой на руках, тачечник с двумя чемоданами на просторной тачке, и я. Идём от вокзала по главной улице, и нет ни одного не разрушенного здания вокруг, обгорелый кирпич, разноцветные стены внутри, голубые, розовые, жёлтые…
Эта картина и сейчас у меня перед глазами. Наверно, запала глубоко-глубоко в душу и осталась там на всю жизнь, как осколок в коре молодого деревца. Нарастают кольца, год за годом, а он живёт там, в глубине, и не даёт забыть про войну. Эти стихи я написала через много-много лет.
Колесо
Мы были чуть повыше колеса
На той войне.
И души наши помнят
Разбитый дом,
И стены бывших комнат,
И матери безумные глаза…
Мы были чуть повыше колеса
Повозок
На дороге той разбитой,
Расстрелянной, сухой,
Не позабытой —
И помнить больно,
И забыть нельзя.
А колесо огромное Судьбы
От наших судеб тяжести —
Скрипело,
И было невесомым
Наше тело,
Немыслимым,
Как «быть, или не быть».
Мы дети
Не вернувшихся с войны —
Давно в земле
Лежат они, покоясь,
Но в нас они живут,
Живут, как совесть,
Со всею нашей жизнью сплетены.
Идеалисты и весельчаки,
Они ушли,
Но мы от них зависим,
Не предавая
Выстраданных истин,
Не подавая
Подлецу руки.
Мы выросли.
Мы вынесли её,
Свою Судьбу —
И в тяжести – прямую.
И жалость запоздала,
Не приму я,
Ни я, ни поколение моё.
А колесо огромное Судьбы
У наших лиц,
И мы теперь в ответе
За шар земной,
За всё-про всё на свете,
Быть небу чёрным
Или голубым.
Они глядят доверчиво в глаза,
И льнут ко мне,
Не представляя даже —
Что это я
Всё волосы им глажу,
Тем, кто сейчас
выше колеса.
А тогда, летом сорок третьего, мы идём по моему любимому городу. Поворачиваем на проспект, и здесь все дома разрушены. Мне кажется, мамины знакомые ошиблись, и нашего дома тоже нет. Как может остаться один дом среди сплошных развалин, таких чудес не бывает!
Мы все молчим, и мама, и Вовка, и я, и тачечник. Но вот поворачиваем на тихую нашу улицу, и я вижу первые дома, не искорёженные войной. Вот он, наш дом в глубине двора, целёхонький, только шальной снаряд влетел откуда-то сбоку, обрушил угол на первом этаже. Его заложили кирпичом с развалин, и он похож на латку. А наш, второй миновало. И вокруг все дома целы!
– Повезло вам, – говорит тачечник, – от вокзала далеко, и от моста, вот и бомбили меньше.
– Да, повезло, – соглашается мама.
Оказывается, я отлично помню камни, которыми вымощен двор, и железную лестницу:
– Мама, правда, это наша дверь? И окна, и балкон? Правда, я всё узнала?
Бегу вверх по лестнице, и она отзывается на мои шаги, как будет отзываться ещё долго-долго.
Дома трогаю стены, стол, кровать, я узнаю всё! Память, оказывается, сохранила каждый штрих того счастливого времени, когда мы жили здесь все вместе, папа, мама, бабушка и мы с Вовкой.
Но дом пуст – ни тарелки, ни чашки, какие-то старые пальто на кроватной сетке. Пустые полки в буфете и шифоньере, пустые ящики папиного письменного стола. И книжный шкаф пуст, правда, на самой нижней полке, в глубине, я нашла две книги – задачник и журнал художественной самодеятельности.
И ни одной игрушки.
Как-то я видела у Саши Стукаловой, соседки по балкону, кроватку для куклы с пружинной сеткой, мне её купили перед самой войной. Я так обрадовалась, я не сомневалась, что мне её немедленно вернут!
Но Саша закричала, выбежала её мама:
– Не твоя это кроватка. Их полны были магазины перед войной. А ты, растяпа, не выноси ничего из дома!
Больше у меня не было игрушек в детстве. Никогда, ни одной.
Я уже работала после института, когда мне подарили плюшевого медвежонка.
И опять – эта давняя рана, эта память сердца, стихи…
Подарок
Все универмаги —
Это много слишком,
Я и без подарков
Счастлива, поверь…
Хочешь, подари мне
Плюшевого мишку,
В детстве не купили —
Подари теперь!
С чёрным-чёрным носом,
С мягкими ушами,
С капельками солнца
В бусинках-глазах…
Что же ты смеёшься —
Я уже большая,
О других подарках
Ты хотел сказать?
Видно, повзрослели
Мы внезапно слишком.
Что ж, война прошедшая
Этому виной…
Подари мне мишку,
Плюшевого мишку,
Как кусочек детства,
Взятого войной.
5. Школа
А тогда – зима наступила как-то незаметно. Закрыли дверь в мамину спальню, где был провален потолок, поставили буржуйку.
Электричества у нас не было, радио тоже не было, не было и часов. Я не считала это трагедией, мне уже казалось, – сколько я себя помнила, у нас не было ни света, ни радио, ни часов.
То, что было до войны и что стало теперь, любили сравнивать взрослые. Я не сравнивала, там была совсем другая жизнь, и другая девочка смотрела на меня с довоенной фотографии, большеглазая, со светлыми локонами, похожая на куклу только-только из магазина.
Я опять опоздала в школу. Мама дежурила в ремесленном училище, она устроилась туда воспитательницей и ночной нянечкой, чтобы ей давали два обеда.
Мы проспали. Было так страшно светло!
Плакать мы начали, как только проснулись. Я – оттого, что опоздала, а Вовка оттого, что плакала я.
Оделась, натянула на себя ещё одно платье поверх того, в котором спала, кофту, шаровары с дырками на коленках, через них были видны дырки на чулках, старое пальто, я из него давно выросла. Вовка помогал, как мог, подавал одну одёжку за другой.
Потом пошла в школу. Я даже не спешила, не знала, который час, какой идёт урок. Каждый день начинался страхом, что я опоздаю! Успокаивалась только в классе, в своём углу. Но так я ещё не опаздывала, ни разу.
Дежурная повела меня прямо к завучу. Та вышла из-за стола:
– Почему ты плачешь?
А я уже и сказать ничего не могу от отчаянья, от непоправимости того, что произошло.
– Почему ты опоздала?
– Мы проспали, когда проснулись, было совсем светло.
– Кто это – мы, ты и мама?
– Нет, я и Вовик, мой брат.
– Сколько ему лет?
– Четыре года.
– И вы сами просыпаетесь, вас никто не будит? А где мама?
– На работе.
– А часы у вас есть?
– Есть, папины, только они поломаны.
– Хорошо, иди в класс, перестань плакать, ты же взрослая девочка.
И снова утро. Мама на дежурстве. Ещё совсем темно, ещё не может быть поздно! Я одеваюсь, Вовик просыпается и помогает мне, как всегда.
Выхожу на улицу в непроглядную тьму. Город засыпан снегом, по краям тротуара сугробы выше моего роста. На улице пусто, но я иду, иду в школу!
Замерзаю мгновенно, я ведь вышла из нетопленой комнаты. И ноги в ботинках замерзают, и руки в носках вместо перчаток. Потом холод забирается под пальто, и внутри у меня всё начинает дрожать.
В школьном дворе пусто, входная дверь заперта. Я кладу портфель на ступеньку, сажусь на него и жду, когда откроют школу. Я не знаю, сколько проходит времени, просто сижу и жду.
Но вот послышались шаги за воротами школы, ещё и ещё, это люди пошли на работу. И приходит дядя Миша, сторож, он же дворник, он же главное лицо после директора – столяр, слесарь, истопник, – в общем, мужчина в доме, где остальные женщины. Одна нога у него деревянная, и он прибил к ней кусок валенка, чтобы не стучать, когда идут занятия.
– Ты что здесь делаешь?
– Жду, когда будет утро.
– Пойдём в школу, ты же совсем замёрзла! Послушай, как тебя мама отпустила в ночь?
В классе очень холодно, единственное окно наполовину забито фанерой. Мы сидим в пальтишках, закутанные в платки крест-накрест и слушаем «Робинзона Крузо». Честно говоря, меня не трогают его лишения. Я думаю, какой он счастливый! Там было так тепло!
Зима всё длится и длится, самая долгая в моей жизни, самая лютая зима. У меня болят руки и ноги, не могу надеть утром ботинки, завязать шнурки, каждый шаг отдаёт болью. Вовка застёгивает мне пуговицы. Маме не говорим, чтобы не волновалась, и она не замечает ничего. Замечает учительница, Полина Павловна:
– Ты странно держишь ручку.
– Мне больно.
Она ведёт меня к школьному врачу. С меня снимают ботинки и чулки, врач трогает пальцы на руках и ногах и хмурится.
– Да… Комнатное обморожение второй степени.
– Комнатное? – удивляется Полина Павловна. – Как это может быть?
– Сейчас всё может быть.
Мне смазывают руки и ноги какой-то мазью, перебинтовывают, и каждый день я хожу на перевязки. Боль уменьшается, но от меня, наверно, за квартал несёт этой мазью. Никто, никто не хочет сидеть со мной рядом, никто не хочет стоять возле меня у печки, меня просто отталкивают, это хуже, чем боль! Только Вовка и терпит меня, только он и терпит.
Мы не выходим на улицу, и мир сужается до холодной комнаты с большой кроватью без простыни и наволочки, со старыми пальто вместо одеяла, до Вовки и в редкие счастливые часы мамы.
Не знаю, что стало бы со мной, но я неожиданно для себя открываю новую планету – книги.
6. Дома
За физкультурным залом, огромным и нетопленым, заваленным отсыревшими матами и сломанными брусьями, есть лестничка в школьную библиотеку. Я хожу туда каждый день.
– Неужели прочла? Разве можно так глотать книги! Что ты могла запомнить?
– Всё я запомнила, честное слово, дайте мне что-нибудь ещё!
– Пойди сама поищи на полках.
Это лучшее время дня, хожу вдоль полок, трогаю корешки книг. Про меня забыли, наверно, и можно не торопиться.
На тонкие книги не обращаю ни малейшего внимания, только толстые и потрёпанные. Их множество, почти все мне рано читать, через несколько лет я буду перечитывать их, открывая заново.
Но когда это будет! А сейчас я иду домой, и книга в портфеле толстая и тяжёлая.
– Принесла? – спрашивает Вовка с порога.
– Принесла, Жюль Верн, «80 000 километров под водой».
– Ура!
Быстро делаю уроки, слишком быстро и небрежно. Мы усаживаемся в кровать, подтыкаем пальто со всех сторон.
И всё забыто, – голод, холод, мои руки, от которых так противно пахнет. Читаю вслух, а Вовка слушает и переворачивает страницы. Назавтра мы дружно решаем, что уроки лучше потом.
А зима всё длится и длится, самая долгая, самая лютая в моей жизни зима.
Конечно, спасали книги. Но я не воспринимала свою жизнь, как что-то ужасное, не думала, что кто-то живёт иначе, что можно жить иначе!
Я удивляюсь сейчас, как мы вынесли всё это, как я не ожесточилась против всего мира, и моя душа не превратилась в ледышку…
Наверно, тогда я научилась жить, как это я сейчас называю, в предложенной системе координат. И ещё меня спасала человеческая доброта. Вокруг были хорошие, добрые, настоящие люди!
Вода у нас во дворе напротив. Я чуть выше ведра, поэтому путешествие за водой для меня целое событие. Вниз по лестнице, покрытой льдом и звенящей от мороза, до ворот, а двор у нас покатый и тоже заледенелый. Потом через дорогу и в дальний угол большого двора.
Хорошо, когда железный рычажок торчит на колонке, но чаще его убирают, потому что дети разливают воду.
Стучу к тёте Ляле. Когда она дома, это здорово! И воду откроет, и поможет набрать ведро, и донесёт до самых ворот.
Можно постучать в подвал к тёте Марусе. Она донесёт воду ещё дальше, но мама не разрешает, у неё больные ноги.
Ещё у нас во дворе две Марии, – Мария Леонтьевна, тётя Маня, и Мария Соломоновна. Её я никогда не называла тётей.
Тётя Маня занята дочками, хозяйством и мужем. После войны он вернулся первым, тихий невысокий человек. Я так удивилась, когда в какой-то юбилей он надел все свои ордена!
Она не расспрашивает ни о чём, протягивает руки и обнимает крепко-крепко. Я утыкаюсь в её мягкий живот и вбираю в себя это тепло, молчаливую её доброту и ласку. Мама не обнимает меня, она думает, наверно, что я большая, и мне это не нужно.
Мария Соломоновна похожа на мою бабушку. Она высокая, прямая, с непередаваемым достоинством, которое не мешает ей целыми днями стирать, убирать и готовить.
Она выходит на крыльцо, и такая жалость светится в её глазах:
– Светочка, идём к нам, погреешься, у тебя же дома никого, одна печка холодная.
Я захожу и оттаиваю в тепле и уюте. Очень долго квартира их казалась мне верхом изысканности и роскоши. Большая столовая без окон с овальным столом посредине, абажур над столом, бахрома у бархатной бордовой скатерти золотая…
Когда меня удаётся усадить за стол, поверх бархатной скатерти стелется белая, жёсткая от крахмала – верх аристократизма, знакомого только по книгам.
В спальне красивое трюмо с зеркалом, в котором видишь себя с головы до ног. Лёгкое шёлковое покрывало на широкой кровати, рогожка на диване, на котором я читаю, забыв обо всём на свете.
А можно лежать прямо на ковре возле дивана. И ещё у них тепло, всегда тепло!
Я упрямо отказываюсь от супа. Мама говорит, нечего есть у чужих, мы не нищие. И вообще, говорит, не привыкай ходить по хаткам, у человека должен быть свой дом, какой есть, такой и есть.
Но я захожу иногда. Там целый шкаф старых книг, потрёпанных, часто без обложки, и мне разрешают брать любую!
Говорю с порога:
– Не надо меня кормить, хорошо? Я просто посижу и почитаю.
– Ладно, я не буду тебя заставлять, но чашку чая ты можешь выпить с улицы? У матери твоей сатанинская гордость, только дети здесь причём!
Я не знаю, что такое сатанинская гордость, но мне не нравится, когда о моей маме плохо отзываются. Опускаю глаза, и говорю, что мне надо делать уроки.
Потом, потом…
Когда мама работала в строительном тресте, позже – на Киномеханическом заводе, и даже когда я уже работала после института – денег всё равно не хватало до зарплат на самое необходимое.
Гордая моя мама не просила взаймы у соседей, не могла себе позволить, посылала меня. Я шла по кругу – тётя Маня, Мария Соломоновна, Елизавета Савельевна. Никто из них мне не отказал ни разу, хотя трудно жили все. Правда, занимала я гроши и отдавала аккуратно.
В моей душе всю жизнь живёт огромная благодарность им.
В поэме о детстве, которую я написала через много лет, есть строчки:
Я зову, только нет ответа,
Я шепчу, но ответа нет —
Три Марии с Елизаветой,
Феи добрые детских лет.
Чем держалась душа моя в теле!
Согревая её еле-еле
Одежонка болталась на мне,
Как мы выжили —
Я не знаю,
Наша комната ледяная
И конца не видать войне…
………………………………
Но стирает – сетуй не сетуй —
Время в памяти их черты…
Три Марии с Елизаветой,
Тесный двор наш,
Университеты
Человечности и доброты…
Раз в два-три года, когда затоскую, прихожу в свой двор. Он стал ещё меньше. Булыжника нет, всё залито цементом, и лестница моя уже не лёгкая, железная, а тоже из цементного монолита.
И кажется, что само время остановилось, окаменело.
Марии Леонтьевны давно нет, и старшая дочь забрала отца к себе. Бог дал ей за её доброту и дочек выдать замуж, и вырастить внуков, и даже правнука покачать в коляске в тихом нашем дворе.
И Мария Соломоновна умерла без меня. Она постарела как-то сразу, когда внучка забеременела, не выйдя замуж. Сидела в старом кресле, и слёзы застилали ей глаза.
– Знаешь, Светочка, она ему доверилась, а он… Такой позор!
– Мария Соломоновна, в наше время это никакой не позор, это же счастье – ребёнок, вы увидите, сколько радости он принесёт в дом!
– Ты так считаешь?
– Конечно.
Никогда не забуду, как наш двор выдавал меня замуж. Свадьба была дома, никаких ресторанов, машин с лентами. Только родные люди за столом.
А на столе знаменитая фаршированная рыба, Мария Леонтьевна наготовила целых полведра. И огромный, в половину стола, роскошный торт, настоящее произведение искусства, от Марии Соломоновны.
И деньги на свадьбу Елизавета Савельевна заняла. В моей душе они живы все…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































