Текст книги "Милостью Божьей"
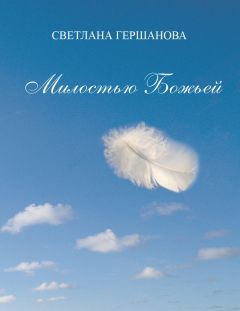
Автор книги: Светлана Гершанова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Часть III
Заблудившийся трамвай
1. Новая жизнь
И вот я познаю мир в качестве студентки. Наконец, долгожданная самостоятельность, студенческое общежитие, совершенно новая жизнь! А институт – труднейший. Я еле справляюсь с контрольными, чертежами, заданиями. Невероятное напряжение!
Думаю сейчас, как легко и радостно было бы мне в Театральном или в Литературном институте. Какая была бы прекрасная жизнь…
Но меня занесло в Радиотехнический. Конечно, мне было интересно, мне всё и всегда было интересно! Просто интересно жить, чем бы я ни занималась.
Какая-то лекция вечером с многообещающим названием. Иду на неё, конечно, и засыпаю на жёстком стуле. Я же ещё была дистрофиком, мне каждый день делали уколы глюкозы, для меня эта нагрузка была просто непосильной.
Но я учусь! Тройки и четвёрки в первой сессии. Но умная преподавательница электротехники говорит, ставя мне заслуженную четвёрку:
– Детка, вам надо было идти в гуманитарный.
– Почему? Я же вам всё ответила!
А она смотрит на меня сочувственно…
Были, были ребята, которые понимали, что их занесло не туда.
И уходили в Театральный или в Консерваторию. Я не понимала, или просто плыла по течению в чужой колее. Но иногда течение выносило меня в предназначенное мне русло, и я съезжала с этой чужой колеи, пока через много лет не съехала окончательно.
В нашей комнате в общежитии приёмник, который вместо обычных новостей передаёт голос какого-то радиолюбителя Миши. Я пишу стихи в институтскую газету:
С добрым утром, оператор Миша!
Вы о нас не знаете, увы…
Мы ж ваш голос очень часто слышим,
Чаще, чем концерты из Москвы!
И меня немедленно вводят в редколлегию, я проработала там до самого конца института. Меня приглашают в Городскую комсомольскую сатирическую газету, и там я тоже работаю с удовольствием!
А по выходным – танцы, танцы! Я всё забываю – «хвосты», чертежи, контрольные, и с упоением отдаюсь музыке, веселью, этому крошечному празднику среди трудных будней.
Мой будущий муж учился в нашем же институте, только старше на курс. Когда мы встретились через много лет, он сказал:
– Как же ты меня не помнишь, мы же просто бросались к тебе на танцах!
С тобой было так здорово танцевать, особенно вальс. Ты была лёгкая, как пушинка.
А через много лет совместной жизни проговорился:
– Мы тебя называли Освенцимом…
И ещё два раза в неделю я хожу на греблю. Тренировки в семь утра, но я просыпаюсь без будильника, радостно двигаю тяжелёнными вёслами, у нас обыкновенные старые шлюпки.
Потом бегу впереди ребят по нашей высоченной лестнице от яхт-клуба, босиком, с мокрыми волосами, и совершенно счастливая.
Но лекцию по марксизму-ленинизму раз в неделю в восемь утра мы дружно просыпали всей комнатой.
– Ты же просыпаешься на свою несчастную греблю! – кричали девчонки после проработки в деканате.
2. Чёрненькая
К общежитию я так и не привыкла. Как я рвалась туда, и как часто вспоминала потом тихую комнату дома, и стремилась сбежать домой хоть на пару дней!
Мы были очень разные. Одна – красавица, блондинка, смотревшая поверх голов. И сейчас помню её фразу:
– Не верю я в любовь и в электроны!
Дружила она с красивой девочкой, чёрненькой, как по контрасту.
А я подружилась с Пашей. Она приехала из деревни, и училась с каким-то остервенением, мне приходилось долго уговаривать её пойти в кино, если надо было выполнить какую-то работу. Я, конечно, тоже старалась, но не так…
Как-то, уже на третьем курсе, она вдруг стала рассказывать, с каким трудом вырвалась из колхоза, из беспросветности, ведь у колхозников даже не было паспортов! Я возмутилась, дурочка:
– Что ты такое говоришь, не выдумывай, этого быть не может!
– Ты просто детский сад. Как будешь жить, не представляю.
Я часто слышала это определение именно от девчонок. От ребят – никогда. Я была для них «своим парнем», я так считала, во всяком случае.
Насчёт внешности своей не обольщалась. Худая, бледная, единственное платье, на лекции – со свитерком в полоску, уже моя покупка со стипендии, на танцы – без свитерка…
Платье мне купила мама перед выпускным вечером в школе, второе настоящее в тогдашней моей жизни.
Я сказала:
– Если ты можешь купить мне платье, не надо к выпускному, это же на один день. Купи шерстяное, чтобы мне было в чём ходить в институт.
Я и ходила в нём все пять лет.
В первый раз какое-то сомнение по поводу своей внешности – на том же первом курсе. Чёрненькая повела нас в городскую фотографию, и мы снялись вчетвером и по одиночке.
Я очень удивилась, когда увидела свой портрет. Честно говоря, я любовалась им, и назавтра, на лекциях, и ещё больше удивилась, когда кто-то из ребят сказал:
– В жизни ты лучше!
Я была очень открыта, улыбалась всем, шла гулять с каждым, кто меня звал, танцевала с тем, кто первый успевал пригласить. Надо сказать, что поцеловалась я в первый раз на преддипломной практике в Саратове.
Через много лет, на какой-то встрече в институте, незнакомый парень сказал:
– Мне очень хотелось пригласить тебя танцевать тогда, но я не мог себе представить, как можно такого ребёнка обнять даже в танце…
Но чёрненькая моя соседка по комнате, злой гений всей моей взрослой жизни в Ростове, считала моих мальчиков по пальцам.
Капитан моей лодки как-то особенно смотрел на меня, староста группы водил меня поздно вечером на море – я сама его попросила! Один из художников газеты, поэт с радиофака…
Она помнила всех, даже тех, кого я немедленно забывала, простившись возле учебного корпуса или у входа в общежитие.
Когда мы оказались с ней в одном КБ, и даже в одной лаборатории, она открывала на меня глаза всем, всем, всем. А я, как в детстве со стихами про Гиббона, даже не знала, от чего защищаться.
Через много лет мы с мужем приехали на очередную встречу в институт. В прошлый раз он приезжал один, я была еле живая после тяжелейшей операции.
Шли девяностые годы. Приехали считанные люди, из друзей мужа – никого, он жил один в пустой комнате. А мы оказались с ней вдвоём, грели чай одним кипятильником и проговорили всю ночь, как две сестры.
И вдруг я спохватилась:
– Пойду, посмотрю, как там Витя.
– Зачем?
– Он переживает, никто из друзей не приехал – Валера умер в сорок лет, Олег болен, Славка еле ходит…
– А тебе-то что?
– Как что? – Не понимаю я, и иду тихонько в дальний конец коридора.
Витя спал, обняв подушку. Он всегда так спал, когда меня не было рядом. Шла обратно и думала – её рано оставил муж, бедную. Она не понимает, как болит душа за близкого человека!
– Знаешь, – сказала ему утром, – встретились, как сёстры…
– Да? В прошлый раз, когда я один приезжал, она пыталась мне открыть на тебя глаза.
– Правда? – удивилась я. Вите, который только что вытащил меня, вынес буквально на руках с самого края… – А ты?
– Я послал её матом, далеко-далеко. Видишь, как она меня обходит…
А тогда в институте, мы с Витей жили каждый своей жизнью, не догадываясь, что Судьба соединит нас через много лет. Так жалко, что не знали и не поторопили её…
3. Стихи
Первый курс, весна. Мальчик на танцевальном вечере, чтобы произвести впечатление, говорит:
– Я пишу стихи.
– Подумаешь, я тоже пишу стихи!
Так я оказываюсь в Литературном объединении газеты «Таганрогская правда».
Сижу у стенки, слушаю. И вдруг на одно из занятий приезжает Вениамин Константинович Жак. И очень удивляется:
– Почему Вы поступили не в Литинститут?
– Но вы же сами сказали про этот снег, прошлогодний…
– И вы пропали на столько лет! Покажите стихи.
Руководитель Литобъединения спросил:
– Как вы считаете, что можно опубликовать из Светланиных стихов?
– Всё, что она сочтёт нужным.
Я была на седьмом небе, выше не бывает! Выбрала стихотворение "Весна", у меня тогда потоком шли весенние стихи. Вениамин Константинович взял ручку…
По-моему, в результате, моими остались только знаки препинания. Я согласилась почему-то с этой правкой. Может, думала – так и надо, когда стихи идут в печать?
Это первое моё стихотворение, увидевшее свет:
Весна
Всё приобрело другой оттенок —
Снег, ещё не стаявший в ложбинах,
Ветер – тёплый, ласковый, весенний,
И кусочек моря – синий-синий.
Воробьи, что стайками на крышах
Сыплют незатейливые песни,
Двор наш, что для стайки ребятишек
Стал весною почему-то тесен…
И на сердце неспокойно как-то,
Будто я увидела впервые
И последние лучи заката,
И ночные звёзды, как живые.
Будто я узнала лишь весною
И мечты, и счастье, и тревогу,
Ветер, солнце, небо голубое —
Целый мир – так мало и так много.
Я долго была на том же самом небе – Жак уехал, а мои стихи печатали в газете, в настоящей газете! И никто не правил, как я написала, так и печатали, ведь сам Жак сказал!
Такие светлые, девчоночьи были стихи, сплошная любовь и весна. Правда, стихи о любви я не показывала никому и не печатала.
Следующая весна, опять весенние стихи, и я решаюсь послать их в «Комсомолец», областную молодёжную газету. Для меня это была следующая высота.
Первое весеннее
Что случилось?
Не сидится дома!
Ветром потянуло из окна —
Так неповторимо и знакомо
Это приближается весна.
Ищут внешних признаков в природе —
Солнца, луж, а может быть, грачей,
Я же сердцем чувствую – подходит!
И тянусь, тянусь навстречу ей.
Море подо льдом, и снег не стаял,
Ветер лишь – доверься болтуну!—
Раззвонил, над городом летая:
– Ждите мол, товарищи, весну!
Пусть люблю и зиму я, и лето —
Но весной у песен я в плену!
Потому что птицы и поэты
Первыми предчувствуют весну!
Получаю письмо от лит. консультанта, и сейчас помню его фамилию – Худяков. Газета не может опубликовать мои стихи. Но я даже не расстроилась, ведь в письме были строчки: «Чувствуется, что вы в поэзии не новичок». Это было главное!
А то, что он просил присылать стихи о целине, уже не имело значения. Я была счастлива.
4. Любовь
В моём сердце с самой ранней юности постоянно жила любовь. Она занимала самое главное место в моей жизни – с юности и до седых волос.
Тому Мальчику из Белогорки я посвятила всю первую тетрадку стихов. Думала, дурочка, что я – однолюб! На самом деле сердце моё было распахнуто для любви…
Я и влюбилась опять на первом же курсе, перед самыми летними каникулами.
Опаздываю, опаздываю на поезд в Ростов, они ходят редко. Влетаю на перрон, а он трогается уже! Смотрю растерянно на дверь вагона, слёзы на глазах… И вдруг чьи-то сильные руки отрывают меня от земли, и я в тамбуре! Какое счастье!
Его сокурсницы удивлялись потом:
– Тебе не скучно? Что ты в ней нашёл! Это же детский сад!
Ему не было со мной скучно почему-то всё долгое лето и начало осени…
Он был небольшого росточка, косил на один глаз. Мама сказала:
– Когда ты перестанешь таскать в дом больных щенков и котят, и приводить убогих мальчиков!
– Он ещё понравится тебе, он очень хороший!
Уехала вожатой в тот же пионерский лагерь. Он писал мне на деревенскую почту… Я ходила за его письмами за три километра в свой выходной, получала сразу несколько толстеньких конвертов и читала их, спотыкаясь, всю обратную дорогу.
Был ещё июль и август! Мы ходили на Дон каждый день. Однажды встретили его знакомых, беременную женщину с красавцем – капитаном. Пара фраз, и они ушли, потому что жарко, а мы остались, потому что жарко.
На мой день рождения, двадцать девятого июля, поехали в Таганрог. Бродили по городу, сидели в ресторанчике. Вечером в пустой комнате общежития он сдвинул на полу две кроватных сетки и положил на них матрацы. Я проснулась ночью – его лицо было над моим, близко-близко. Вздохнула и улыбнулась ему:
– Ты почему не спишь? Спокойной ночи! – Никаких грешных мыслей или побуждений. Поколение наше? Книжное воспитание? Или это я – такая дурочка?
И вдруг мы встретили того Мальчика из пионерского лагеря!
– Светлана, здравствуй. Что ты здесь делаешь в каникулы?
– Приехала с другом отпраздновать свой день рождения.
– Сколько же тебе лет?
– Девятнадцать.
– Прекрасный возраст!
Это был второй и последний наш разговор.
А тот мой друг…
Всё закончилось седьмого сентября. Я хорошо помню этот день, – вся вторая тетрадка стихов, так или иначе, повторяла эту дату. Он сказал, что женится на той беременной женщине с пляжа.
– Она носит моего ребёнка, я должен жениться, как честный человек.
– Только поэтому?
– Нет. Я люблю её.
– Это меняет дело. Что ты хочешь услышать от меня?
– Не знаю…
– Будь счастлив.
Назавтра перед лекциями он протянул мне листок бумаги и ушёл. Это были стихи:
«Мой друг, забыты мной следы минувших лет…»
«Мой друг, забыты мной следы минувших лет,
И юности моей мятежное теченье,
Не спрашивай меня о том, чего уж нет,
Что было мне дано в печаль и наслажденье.
Душа твоя светла, унынье чуждо ей,
Чиста, как ясный день, младенческая совесть,
К чему тебе читать безумства и страстей
Незанимательную повесть?
Не требуй от меня опасных откровений,
Сегодня я люблю, сегодня счастлив я».
Сейчас я думаю – надо же, просто письмо Онегина к Татьяне! Тогда мне было не до ассоциаций. Все всё видели, я и сейчас не умею скрывать своих чувств. Галя Шевченко подошла ко мне:
– Поедем к нам, тебе надо полежать! – И я дала себя увезти.
Не знаю, что это было – какая-то сухая горячка, температура, ни слезинки, но что-то буквально сжигает тебя изнутри. Не помню, сколько дней пролежала в чистой и тихой её светёлке. Молчала, смотрела в потолок.
Меня ни о чём не спрашивают, только Галина мама жалостливо поглядывает на меня из дверей. Или подходит, убирает мокрые волосы со лба:
– Детка, выпей узвару! Ведь помрёшь ни за что, ни про что, разве оно того стоит!
Потом, наверно, по другому случаю, я написала эти стихи. Любовь предавала меня не один раз, но я верила и верю ей, как самой себе…
«Нету слов…»
Нету слов —
Остались только звуки.
Мыслей нет, осталась только боль.
Боль, отдай мне сердце на поруки,
Только на день взять его позволь.
Чтобы никого не огорчали
Горестные складки на челе,
Чтоб не прибавляла я печали
К сонму всех печалей на Земле…
Просто жить на этом свете надо
У любви предавшей – не в плену!
Боль, отдай мне сердце только на день,
Ночью я тебе его верну.
Но как-то утром я встала и поехала с Галей на лекции. Острая фаза прошла. Ночью на кухне в общежитии жгла его письма и плакала, я уже могла плакать.
«Письма жгу…»
Письма жгу,
Чтобы всё на ветер!
Письма жгу,
Словно жгу мосты,
Чтоб забыть,
Что живёшь на свете,
Существуешь на свете ты.
Письма жгу,
Чтобы не было боле
Ни любви, ни тоски, ни обид,
Чтобы не было этой боли —
Что сгорело, то не болит.
Что же сердце удары частые —
Сердце мечется у меня,
Будто это не письма, а я стою
На горячей ладони огня…
А огонь собирается с силами,
И простые слова твои
От него превращаются в символы
Боли, нежности и любви…
Тогда Аля впервые заговорила со мной. Почему она оказалась на кухне ночью?
– Не плачь, всё пройдёт.
– Такое не проходит…
– Пройдёт, вот увидишь.
И вправду – прошло! Через год, на третьем курсе, моё сердце, всё моё существо заполонила новая любовь!
5. Жизнь продолжается
А пока – сдаю зимнюю сессию, на тройки, но сдаю. Дружу с поэтом, художником, с поэтессой, старше меня лет на восемь-девять, работает в канцелярии института и рисует мой портрет.
Я храбро высказывала какие-то замечания по её стихам, она только улыбалась. Она была Поэтессой в институте так же, как я – в школе. Она – поэтесса, а я кто?
Ну, пишу какие-то сатирические стихи в городской газете и в «Радиосигнале». Свою тетрадку со стихами о любви я только года через два показала одному журналисту. Не знаю, понравились ли ему стихи. Он написал на последней странице – «Очень уж они открыты и неправдоподобно чисты». Ей не показывала почему-то.
Сатира наказуема, она всегда была наказуема. А я – непуганной, в сталинское-то время!
Столовая у нас была ужасная. Котлеты с макаронами выставлялись на раздачу заранее, к перерыву в лекциях, и застывали, становясь совершенно несъедобными. На старших курсах мы стали готовить сами, впрочем, готовить – не то слово, жарили с Пашей картошку на постном масле, ели её с солёными помидорами, голодали ужасно… Сколько мне в жизни пришлось голодать! Но на первом-втором ели с отвращением столовскую еду.
Кто-то придумал бойкотировать столовую. Я с готовностью шла в пикеты, писала куплеты про столовую, и чуть не вылетела из института.
Было разбирательство в русле тех, сталинских времён. На комиссию вызывали по одному. Хорошо помню белую комнату, стол на возвышении, за ним несколько мужчин. Я вхожу – маленькая, худая и храбрая. Не понимала, насколько всё серьёзно! Спас секретарь Горкома комсомола, он был в комиссии.
– Светлана! Как ты попала в эту компанию? Это же наша активистка!
А я была не его активисткой, я была активисткой в самом широком смысле этого слова!
Чей-то сынок, разгильдяй, усиленно опекался деканатом. Я написала стихи:
В институте, в деканате
Много нянек у дитяти!
Тише, деточка, не плачьте,
Вам позволят пересдачу.
И до конца института нажила себе двух лютых врагов – декана и преподавателя вакуумной техники.
И ещё одно приключение в самом конце второго курса. В пикете у столовой мы стояли как-то с преподавателем по сопромату. Зачёт я ему уже сдала, экзамен был далеко, и мы разговаривали на равных. Ещё бы – пикет! Почти революция! Мы все за справедливость!
Экзамен был уже после разбирательства. Коснулась ли его карающая десница, я не знала, меня отсеяли, как случайного человечка, детский сад…
На нашем этаже, в самом конце коридора, жила странная девочка. Почему-то её тянуло ко мне.
В тот день она сидела у себя в комнате у зеркала, глаза заплаканы, и пристраивала к платью чудовищный кружевной воротник. Вкус у меня, наверно, врождённый, я вижу, что он не подходит, но молчу. Я молчу, потому что она сегодня получила вторую двойку на экзамене. А следующий у неё – сопромат.
– Я его не сдам ни за что. Говорят – сдал сопромат, уже инженер… Я ничего в нём не понимаю…
– Что же делать?!
– Надо пойти к преподавателю, я знаю, он в соседнем подъезде живёт. И попросить, чтобы поставил тройку.
– И ты пойдёшь?
– Я очень боюсь. Пойдём вместе, ты просто рядом постоишь, чтобы мне не так страшно было…
И я согласилась, дурочка! Пошли-то мы вместе, но она сбежала, когда он открывал дверь. Он очень удивился, очень.
– Помню эту девицу. Зачёт сдавала явно по чужой работе, мямлила, слёзы на глазах. Поставил я ей зачёт. Вы-то причём?
– Поставьте ей тройку, очень вас прошу, у неё уже две пары в этой сессии, отчислят её…
– И вам поставить три, а может, пять?
Он наклоняется ко мне – невысокий, коренастый, вне себя от гнева!
– Мне? Что вы… Я – как все…
Поставил он ей тройку, но её всё равно отчислили. Я получила свою четвёрку, и до конца института обходила его за версту.
6. Новая любовь
Впрочем, каждая любовь у меня в жизни была новая, настоящая, на всю оставшуюся жизнь.
У художника редколлегии «Радиосигнала», были удивительные серые глаза с длиннющими ресницами. Он был старше меня на семь лет, на войну. Ребят, прошедших войну, принимали в институт без конкурса, их было много среди нас, вчерашних школьников.
Он рассказывал мне про свою войну. Я ему про свою не рассказывала, я больше молчала рядом с ним.
– Знаешь, как меня провожали на фронт? Был длинный-длинный стол из тёмных струганных досок без скатерти. И на нём по всей длине – гранёные стаканы с водкой. Иду вдоль стола, беру стакан за стаканом и пью…
– Знаешь, как-то на марше – иду, рюкзак тяжеленный, сапоги тонут в грязи, мне семнадцать всего, сразу из-за парты… Вдруг открываю глаза – оказывается, я заснул на ходу, представляешь? Иду один по дороге, вся колонна повернула…
Весь третий курс, до самых майских праздников, я танцевала только с ним. Нам уже не разрешали устраивать танцы в Базе – большом актовом зале не втором этаже, боялись, что мы провалим перекрытия. Танцы были в Малом зале – Мазе, или в коридоре, мы его называли Дазом – длинный актовый зал.
Мы с ним останавливались у окна, и я оказывалась в профиль к нему. А я считала, дурочка, что профиль у меня некрасивый.
– Почему ты отворачиваешься от меня?
Как я могла объяснить…
Почему я помню каждую мелочь, ведь полвека прошло!
Вот я жду его на проходной, лекции окончились пять минут назад, семь, десять. Он бежит по дорожке бегом.
– Знаешь, устроили комсомольское собрание курса. Я послал записку, что ты меня ждёшь.
– И тебя отпустили поэтому?!
– Ну да.
Или идём с Пашей из кино в нашем Базе, и вдруг я вижу его! Она очень рассердилась:
– Вы шли, как по ниточке, сквозь толпу, смотрели друг на друга, и шли. Ты совсем про меня забыла!
А мы сидели рядышком на скамейке в институтском дворе, касались плечами. Он держал меня за руку, и такое счастье – сколько его было в жизни, Господи!
Наверно, я просто умею быть счастливой…
Весной он вдруг сказал, что ему надо поехать со мной в Ростов.
Мы обедали за нашим большим столом, он сидел рядом с мамой, а я – напротив. И вдруг он говорит маме:
– Нам со Светланой пора пожениться. Вы не возражаете?
Мама, наверно, подумала, что между собой мы всё решили, а он и не спрашивал, люблю ли я его, согласна ли стать его женой? Со мной и так всё было ясно!
– Гена, подождите до конца института! Она же слабенькая, будет ребёнок…
Почему он согласился! Почему я не сказала – не хочу ждать, если ты решил, пусть так и будет!
Зачем-то на майские праздники я поехала в Ростов одна. Я много делала глупостей в жизни. На перроне меня ждал Олег, мы поссорилась после школы и не виделась три года.
– Здравствуй, Светик.
– Здравствуй. Что ты здесь делаешь?
– Встречаю тебя.
– Откуда ты знал, что я приеду этим поездом? – спрашиваю я, как будто это самое важное через три года, что мы не виделись.
– Я встречал все поезда из Таганрога.
И мы уходим вместе с вокзала на виду у всех наших, и той, чёрненькой… Мне и в голову не приходит, что я не должна, не имею права, что я теперь и вправду невеста, невеста другого человека!
Но другой человек – это вся моя жизнь, а с Олегом просто мы друзья!
Он провожает меня домой, и мама так рада ему, будто всего неделю назад я не приводила к ней Генку. Или он меня, неважно.
Мы опять сидим за столом, а потом мама говорит:
– Пойдите, погуляйте, ведь праздники!
И мы бежим вниз по лестнице, как в последнее школьное лето, и она звенит у нас под ногами.
Я рада его видеть, это очень странно, но я рада его видеть, это как встреча с детством.
Поздним вечером сидим с ним на скамейке в городском саду. Сад у нас двухъярусный, говорят, такой есть ещё в Париже.
Мы сидим над спуском, наверху. Гулянье кончилось уже, сад затих, и кажется, что мы одни на целом свете, только деревья и звёзды, и красные цветы внизу.
И я всё время спрашиваю:
– А помнишь?
– Да, – говорит он и умолкает. А я не вижу, не понимаю, что он собирается с духом, чтобы сказать мне то, главное, ради чего он встречал сегодня все поезда из Таганрога.
– Светик, послушай. Ты сможешь подождать, пока я кончу институт?
– Подождать? Зачем?
– Понимаешь, меня просто замучили дома. Они не хотят, чтобы я женился на еврейке.
– Женился? Но я же никогда не собиралась за тебя замуж, этот вопрос даже не возникал никогда!
– Я бы женился на тебе, если бы не отец.
– Как, интересно?
– Не знаю, добился бы. Но сначала отец сказал, что я тогда не поступлю в Мед. У него там все друзья, ты же знаешь, а с моими оценками… Помнишь, мы шли на Дон, и у меня не было паспорта? Они его прятали от меня.
– Я им не понравилась, когда была у вас в гостях?
– Они потом откуда-то узнали, что ты еврейка. Я и сам не знал.
– А для тебя это имело значение?
– Н-нет. Пока я не увидал твою тётю Бетю. Это было ужасно. Жуткая комната, буржуйка, кругом набросано, она неопрятная…
– Не выдумывай. Она была в халате, ну и что? Они не ждали гостей, мы зашли к ним, потому что я замёрзла! А комната… До этого они вообще жили в подвале!
И Ленку она одна тянет, и не ноет, не жалуется, всегда весёлая! И меня любит, всегда любила, как моего папку…
– Ну, не будем о ней. Отец сказал, если я не женюсь на тебе, он поможет мне и кончить институт, и стать на ноги. Возьмёт к себе на работу, и диссертация будет, и всё. А если женюсь… Но мне не нужна диссертация, мне бы только институт кончить, а там куда пошлют, там и буду работать. Ты подождёшь меня три года?
– Даже если бы я тебя любила… После всего, что ты сказал, это было бы немыслимо. А так и подавно. Скажи своему отцу, что он может быть спокоен, ты никогда не женишься на еврейке. И всё у тебя будет, и работа, и диссертация. Не надо меня провожать, ты же знаешь, я ничего не боюсь.
– Я не отпущу тебя одну. Если хочешь, просто буду идти сзади.
Я шла домой, не оглядываясь, и слышала в пустом гулком городе его шаги за своей спиной. Они замерли, когда я зашла в свои железные ворота.
Римма спросила потом:
– Олег сказал, вы опять поссорились. Почему?
– Он не сказал, почему?
– Нет.
– Когда-нибудь я расскажу тебе.
И я поехала в Таганрог. Разговор с Олегом царапал меня по сердцу, пока я помнила о нём. Но правду говорят, половину дороги человек думает о том, что он оставил, а вторую половину – что ждёт его в конце пути.
Я думала о Генке, и он пришёл в первый же вечер.
– Я сейчас поставлю чайник, мама дала мне вишнёвое варенье.
– Не надо, пойдём, погуляем.
– Пойдём! – Я всегда и во всём соглашалась с ним, я бы наверно, так и слушалась его всю свою – нашу! жизнь…
Мы идём по тёмным улицам и молчим. Один поворот, другой… Мы так долго идём и молчим, но какая разница, он же рядом!
Вот и вход в парк, и над ним – огромный мой портрет, и цветущие ветви яблони вокруг моей головы. И глаза у меня голубые-голубые! Вообще они у меня меняют цвет – голубые, если ясно и солнечно, и серые – если пасмурно, или просто плохо на душе.
Как он мог, по памяти, я же не позировала ему! Я молчу и любуюсь, и удивляюсь – неужели это я, такая солнечная, радостная, счастливая!
– Вот девушка, в которую я вложил всю свою душу. Не говори ничего, всё кончено.
Он доводит меня до подъезда, и уходит – навсегда, навсегда, навсегда!
Я ходила на танцы и на четвёртом, и на пятом курсе. Любила танцевать, и хорошо танцевала, наверно, ребята приглашали меня наперебой. Ещё на лестнице кто-то сдавал моё пальто, я входила в зал с первыми звуками музыки, и сразу – вальс, вальс, вальс!
Я танцевала самозабвенно, отдаваясь музыке целиком…
Генка тоже приходил на танцы, стоял у стены, не танцевал больше никогда. Он думал, наверно, что всё решил правильно, я легкомысленная девчонка. Знал бы он, что творилось у меня на душе, если бы он только знал! Но он не хотел ничего знать. Шли дни, недели, месяцы, а я всё ждала, ждала, ждала…
Третий курс, лето. Страна поднимает целину. Как я могу остаться в стороне? Что бы я там делала – дистрофик, сорок килограмм при вполне среднем росте!
Подбила однокурсницу:
– Мы можем организовать студенческий отряд, да желающих будет – половина института!
Пошли в партком. С каким сарказмом смотрела на меня секретарь парткома, пожилая женщина с непроницаемым лицом!
– Никакого отряда на каникулах. Пишите заявление, мы вас отчислим, и езжайте себе, куда хотите.
А потом – сколько студенческих отрядов ехало на каникулы на целину! Это ведь счастье – быть причастным в юности к большому делу!
Через много лет меня спросил один бамовец:
– Вам приходилось в жизни строить города – со сваи? Есть, например, мост у вас в судьбе? А у нас есть!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































