Текст книги "Ангельский концерт"
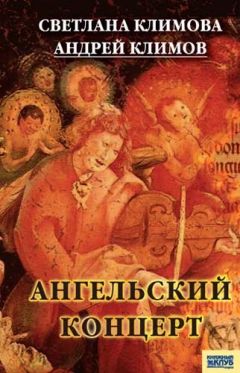
Автор книги: Светлана Климова
Жанр: Современные детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Брачную церемонию совершил пастор Николай Филиппович Шпенер, друг отца. Я не знаю, что чувствовала при этом моя мать, – сама я наотрез отказалась венчаться с Матвеем. И даже не потому, что его родители были закоренелыми атеистами, а он, уже юношей, тайком от них крестился в православии; причина в том, что я так и не смогла решить – верю я в Бога или нет…»
Стоп, – сказал я себе, потягиваясь и хрустя онемевшими суставами. Воскресенье давным-давно наступило, Ева спит, и спешить особенно некуда. Да и сама Нина Дмитриевна не то чтобы торопится выложить сведения о последних днях своей жизни. Ну вот, – Дитмар Везель скоропалительно женился на молоденькой Анне, получив в приданое эти самые изумруды, от которых в тридцатом году толку было немного. Поселились они в большом доме на Первой Бауманской… Тридцатый год – смутное затишье, все неопределенно. Нэп кончился, страна мало-помалу сползает к террору… Коллективизация-индустриализация – что там еще-то?.. Похоже, без нашей приятельницы Сабины Новак тут не обойтись…
А что, если весь сыр-бор – из-за чудом уцелевших фамильных камушков? И не за такое отправляли на тот свет пачками – что полвека назад, что сейчас.
Некоторое время я прикидывал, насколько велика вероятность того, что отец Нины сумел сохранить драгоценности. Но тут мне бросилась в глаза странная фраза на следующей странице, немного ниже мелькнула фамилия «Галчинский», и я снова уткнулся в блокнот.
«…Мама никогда не вспоминала эту брачную церемонию. Зато я точно знаю, что с согласия отца она посещала костел, уходя из дому одна по воскресеньям.
До катастрофы тридцать восьмого, когда папу арестовали и он, как и многие сотрудники Управления железной дороги, пошел по «делу вредителей», мои родители жили душа в душу. Я в этом совершенно уверена, несмотря на то что мне тогда едва исполнилось пять и подробности их жизни мне не запомнились. Я уже сносно лопотала на языке отца и деда, а мама начала понемногу заниматься со мной английским.
В спальне родителей на ночном столике всегда лежала семейная Библия; мне разрешалось ее трогать, и я кое-как разбирала отдельные слова, оттиснутые угловатыми готическими литерами… Уезжая в Москву, отец сказал: «Если я не вернусь, все мои бумаги, переписку и Библию – уничтожить!» Его воля для меня непререкаема, однако сама я почему-то не в состоянии это сделать…
Я уже почти спокойна. Сейчас три часа пополуночи, бессонница…
Старую Библию Пауля Везеля я помню столько же, сколько себя. Но одного не могу понять: почему дед, уезжая в Самару, оставил сыну книгу, с которой не расставался нигде и никогда. В доме было несколько более новых изданий – на польском и немецком, но мама, собираясь в Казахстан к отцу, который в сороковом вышел из лагеря на поселение, не отдала ее на хранение друзьям из Немецкой Слободы и даже не взяла с собой ту, на польском, которой пользовалась сама. Библию Везелей упаковали в баул с моими вещами, а свой молитвенник и четки мать сунула в узелок с едой.
Должно быть, она не теряла надежды, что все мы скоро вернемся в Москву, в светлый и просторный пасторский дом, где, по словам отца, была огромная библиотека, великолепные копии Дюрера и Кранаха, а в бывшем кабинете деда висела подлинная гравюра Мартина Шонгауэра – та самая, что исчезла в ночь его ареста…
Впрочем, кое-что, большей частью книги, отцу начали постепенно возвращать Шпенеры. В начале пятидесятых мы уже жили в Воскресенске. Дорога в обе столицы и еще в десяток областных городов Дитмару Везелю была заказана, и только благодаря любезному приглашению Константина Романовича Галчинского мы с папой смогли найти пристанище.
Галчинский стал для нас единственной опорой. Тогда, в пятьдесят четвертом, он поселил нас в своей большой квартире, помог мне поступить в пединститут на факультет иностранных языков, а когда я вышла замуж за Матвея, уговорил нас остаться у него до тех пор, пока папа не получит собственное жилье. Мы съехали от него только через два года.
С Константином Романовичем отец познакомился в сорок девятом. Мне было шестнадцать, и жизнь на поселении не способствовала расцвету моего девичества. Я пошла в отца – и ростом, и сухостью кожи, и продолговатым лицом с острыми чертами; в наследство от матери мне достались глаза редкого фиалкового цвета, пышные темно-русые волосы и легкая, как говорится, «птичья» кость. От вечного недоедания я казалась слишком рослой для своих лет и худой – в общем, далеко не красавица. Однако от Везелей я унаследовала еще и крепкое здоровье, вот разве только с месячными происходили частые сбои – сплошное мучение.
То ли от этого, то ли от пресловутого бюргерского характера, которому требуется привычная размеренность, а не зыбкая почва, – собственная раздражительность стала для меня главным источником переживаний. Чтобы справиться с хаосом в себе, я просто-напросто затаилась, как дикий зверек. И Галчинский – совсем молодой человек, в ту пору ему было чуть больше двадцати, – превратился в объект моей подозрительности и осуждения.
Он вывел меня из равновесия сразу, с первой же минуты.
Своей отглаженной трофейной сорочкой с носовым платком в нагрудном кармашке. Запонками из дутого золота. Длинными легкими волосами. Четким профилем. Очками. Аристократической худобой и маленькими руками с гладким кольцом на мизинце левой. Но в особенности – академическим выговором и любовью к бесконечно длинным фразам, приводившим меня в тихое бешенство. «Дорогой мой Дмитрий Павлович, в соответствии с законом сохранения энергии, ваш жизненный потенциал, – независимо от того, что история России забуксовала, – никуда не девается; так вот, само наличие у вас огромного, но невостребованного жизненного потенциала дает мне основание утверждать, что в нужную минуту вы…»
У Галчинского был поврежден нерв в руке – это спасло его от военной мясорубки. Он казался добрым человеком и, очевидно, таким и был. Его родителям – оба принадлежали к местной партийной элите – перед приходом немцев пришлось эвакуироваться из города вместе с сыном, однако литерный поезд с семьями партработников попал под бомбежку. Отец и мать Галчинского погибли на месте, а сам Костя уцелел, хоть и получил осколочное ранение в левое плечо. Возможно, именно это обстоятельство – внезапная потеря обоих родителей – и сблизила с ним отца. В остальном же, с какой стороны ни посмотри, невозможно понять, что именно могло привлекать Дитмара Везеля в этом молодом человеке. Мне Галчинский представлялся первостатейным демагогом и поверхностным краснобаем.
Хорошо помню его первое появление на нашей пропахшей сыростью половине дома. Мы с отцом читали. Папа – за столом при свете керосиновой лампы, я – лежа в кровати и укрывшись тяжелым стеганым одеялом. На стене у изголовья мигала пятнадцатисвечовая лампочка, ее специально для меня повесил наш приятель Моргулис. Чтобы погасить это чудо техники, нужно было взять полотенце и выкрутить лампочку из патрона.
В дверь постучали; затем еще раз – негромко, но требовательно. Отец снял очки, развернулся всем корпусом и прищурился на стук. Я тут же, обжигаясь, голыми руками вывинтила лампочку. Мои щеки и виски были покрыты жирными мазками вонючей ихтиоловой мази – то ли от сырости, то ли по иной неизвестной причине меня одолевали мелкие нарывы.
«Войдите! Открыто!» – спокойно отозвался отец, а я попыталась спрятаться за подушкой. Война давно закончилась, но в любую минуту могло произойти все что угодно.
Едва переступив порог, незнакомец вполголоса сказал по-немецки: «Герр Везель, нельзя ли у вас разжиться солью?» Громко говорить на языке врага было все еще опасно – соседи или хозяева могли донести; но даже если бы он вопил во весь голос, его чудовищный немецкий от этого не стал бы лучше. Не дожидаясь ответа или приглашения, Галчинский прошел к столу, придвинул стул и уселся напротив отца. Правда, сначала он снял шляпу и расстегнул долгополое пальто из шинельного сукна. «Меня зовут Константин Галчинский, я живу на этой же улице – через два дома от вас. Выслан за участие в движении за очищение коммунизма и восстановление ленинских норм. Срок не определен».
Не удержавшись, я хихикнула. Галчинский дернулся, а отец пробормотал: «Да зачем же вам понадобилось его очищать-то? И уж тем более восстанавливать!..» А затем добавил погромче: «Не обращайте внимания, это моя дочь Нина. Она… немного нездорова. Вы откуда… изволили прибыть в наши края?» «Из Москвы, герр Дитмар. Как только завершил курс на философском факультете университета и приступил к аспирантуре…»
Он так и сказал: «приступил», и я снова прыснула. Папа предложил Галчинскому перейти на русский, после чего беседа стала много оживленнее. Тем было предостаточно, кроме запретной для отца – Сталин и его режим.
Ближе к полуночи, под бархатный голос нежданного гостя и сдержанный отцовский баритон, я уснула. Теперь я понимаю, что была несправедлива к Галчинскому; время показало его неподдельную искренность и доброе к нам отношение.
В Воскресенске у него был покровитель – имени этого человека Константин Романович нам так и не открыл. Это был близкий друг его родителей, директор крупного завода, эвакуированного в Свердловск. Именно он вытащил из-под обломков искореженного немецкой бомбой вагона пятнадцатилетнего мальчишку, увез с собой, выходил и откормил, а затем отправил учиться в Москву. И вдобавок позаботился, чтобы квартира его отца осталась в неприкосновенности.
Однако мне и сейчас еще кажется, что сам по себе Галчинский в те годы вовсе не был склонен к благодеяниям. Тут проще. У каждого хотя бы раз в жизни возникает желание бросить в шляпу нищего все, что есть в карманах. И с нами он повел себя точно так же, как поступили с ним. То есть выбрал нас с отцом в качестве этого нищего и фактически спас нам жизнь.
И несмотря на это переносила я его с трудом. Особенно когда он смотрел на меня – кривя губы в усмешке или досадливо хмурясь, а порой и с совершенно необъяснимой детской радостью, крайне меня раздражавшей. Всякий раз он пытался хоть чем-нибудь услужить: то с полупоклоном придержит дверь, пропуская меня после прогулки, то явится с кульком конфет-подушечек или баночкой меда для меня. Когда я занималась английским, он усаживался рядом и подолгу сидел, заглядывая в учебник через мое плечо. Как бы по чистой случайности его колено касалось моего бедра. На какое-то время Галчинский буквально стал моей тенью.
Надо, однако, признать, что отца он искренне любил. Папа с ним поначалу был сдержанно приветлив, но впоследствии и сам привязался к нашему «профессору», а я поняла, что причина моего раздражения – самая обычная ревность, и постепенно успокоилась. Мы прожили бок о бок около четырех лет, пока не умер Сталин, а потом вместе уехали из Суюкбулака «в Россию», как тогда говорили.
Мне врезался в память один случай из нашей тогдашней жизни.
В Суюкбулаке среди ссыльных было десятка два немцев и чехов, и постепенно образовалась маленькая протестантская община. Члены этой полуподпольной общины держались сплоченно – помогали друг другу, вместе праздновали Рождество и Пасху, вместе молились. Отец всегда брал меня с собой на молитвенные собрания, однако Константина Романовича не приглашал, хотя они частенько обсуждали вопросы веры. В общине всем заправлял моложавый ссыльной-чех – я не запомнила его имени. Он взял на себя обязанности пастора и исполнял их до декабря пятьдесят первого года, пока срок его ссылки не закончился. За ним прибыла из Казани жена, после чего чех уехал в Караганду и община осталась без руководства.
Несмотря ни на что, мой отец наотрез отказывался исполнять пасторские обязанности – за исключением единственного случая, когда ему пришлось сочетать браком молодую парочку. Перезревшая тридцатилетняя девушка уже и не прятала тугой живот, но категорически настаивала, чтобы брачную церемонию провел Дитмар Везель, так как всем прочим она не доверяет. Жених был из местных, и ему было все равно, кто их с Эльзой поженит. Этот парень, чуть постарше меня, жил в огромном бревенчатом доме на другом конце поселка. Там вечно бродил по пустым клетям и пристройкам какой-то сутулый старик в драных опорках на босу ногу да возилась с хозяйством старшая сестра парня, не дождавшаяся мужа с фронта. Семейство было русское – рослое, костлявое и светловолосое, а невеста Эльза – пухлая и пучеглазая немочка, жившая в Суюкбулаке с матерью, бывшей эсеркой. Отца Эльзы Якова Грота расстреляли еще зимой тридцать седьмого.
Итак, фрекен Эльза уперлась: хочу, чтоб был Везель, – и точка. А Галчинскому, надо сказать, страх как хотелось поглядеть на церемонию. Я только посмеивалась про себя, представляя этого адепта коммунистической доктрины рядом с матушкой невесты, прошедшей Джезказганские лагеря и люто ненавидящей большевиков, на лютеранской свадьбе.
Дитмар Везель прихватил свою Библию, и двадцатого февраля около шести вечера мы отправились к Моргулисам, предоставившим свое помещение для церемонии. Между тем в небесах творилось что-то адское. Ветер завывал, температура упала до минус пятнадцати, и я мигом продрогла. Чтобы сократить путь, нам нужно было пересечь покрытое ледяной корой поле. Перед выходом отец облачился в черную пиджачную пару, подобающую случаю, и я сразу заподозрила, что кальсоны он не надел, а под пиджаком нет вязаной безрукавки, которую он обычно носил в холода. Отец был без перчаток, его ветхое драповое пальто продувалось насквозь; словно безумный, он прижимал к груди нашу семейную Библию.
Дитмар Везель шел впереди, я, трясущаяся как осиновый лист, брела за ним, а замыкал шествие Галчинский, похожий на окоченевшего аиста в своей полушинели. Рваные облака неслись по низкому сумрачному небу, стремительно темнело, – в сущности, нам нужно было пройти немногим больше полукилометра, но эта дорога показалась мне бесконечной.
Самой церемонии не помню. Моргулис сразу же сунул мне кружку кипятку с сахаром и старую телогрейку, а затем затолкал в угол комнаты – поближе к раскаленной печке. Галчинский пристроился к группке насупленных атеистов. Народу, как ни странно, собралось больше обычного, но в моей памяти остался только голос отца, произносящий наставление новобрачным, – надломленный, глубокий, печальный. Я вдруг поняла – не Эльза, беременная и перезрелая, а Анна, его юная жена, – вот кто стоит сейчас перед Дитмаром Везелем. Моя мать никогда не покидала его. Отец вел служение на русском, однако тексты Писания произносил по-немецки, и тогда его голос начинал слегка дрожать.
Как я его любила в тот вечер! Да и присутствующих неожиданно охватило волнение; Эльза хлюпала и прятала мокрое лицо, даже жених трубно сморкался.
Отец наотрез отказался принять участие в свадебном ужине. За окнами неистово выло и взрывалось дикими ударами шквала. Отец сердито кивнул Галчинскому и буквально оттащил меня от печки, проговорив: «Nina, entgehen, entgehen!»
Снова втроем мы выбрались от Моргулисов и уже через пять минут вымокли до нитки – за полтора часа февральская погода обернулась мартом. В кромешной тьме косыми струями несся мокрый снег пополам с дождем. Отец стал трясущимися руками запихивать Библию под пальто, выронил и тут же рухнул на колени в грязную жижу, шаря руками по земле, пока не нащупал свое сокровище. Галчинский кинулся к нему с воплем: «Дмитрий Павлович, дайте мне!», однако Дитмар Везель его оттолкнул.
Теперь он больше не пытался спрятать книгу под одеждой – то, что с ней произошло, было окончательно и бесповоротно, и это как-то сразу успокоило отца. Мы двинулись дальше.
Дома я стала собирать все, какие нашлись, сухие вещи – нам необходимо было переодеться, а Галчинский довольно ловко растопил печь. Он остался у нас ночевать, и о чем они с отцом проговорили до утра, что делали, – я не знаю, потому что, обессиленная, мгновенно уснула, едва коснувшись головой подушки.
Последнее, что я помню: покрытая грязью, разбухшая и все-таки уцелевшая книга на столе. Когда утром я поднялась, чтобы приготовить поесть, – Библии там не было. Мужчины еще спали…»
«Вот тебе и Галчинский», – пробормотал я, закрывая блокнот. Ни одна живая душа у нас на факультете понятия не имела, что он тянул срок и был сослан на поселение в Казахстан. Между прочим, в том молодом человеке, которого описывает Нина, Константина Романовича легко узнать. Правда, он малость постарел – эдак на полвека. Выходит, целых два года Дитмар Везель с дочерью прожили в той самой квартире, где я побывал на днях?..
За окном уже серело – час, как говорили римляне, между волком и собакой. В такое время люди совершают странные поступки. Совершил такой поступок и я: войдя в полутемную комнату, я сунул дневник Нины Кокориной в ящик письменного стола и запер его на ключ. С какой стати, хотелось бы мне знать?
После этого, стуча зубами, я содрал с себя одежду и юркнул к Еве под одеяло.
От нее веяло нежным теплом.
2
Еве удалось растолкать меня только в половине одиннадцатого. Пока я дрых, она успела дочитать коленкоровую тетрадь Матвея Ильича и заняться кухней. Там что-то шипело.
Выбравшись из постели, я первым делом потянулся к телефону и набрал номер Кокорина-младшего. Тот оказался на месте и принял мое сообщение о находке пяти с чем-то тысяч долларов в тайнике под каминной доской с большим энтузиазмом. Я упомянул также о нательном крестике, однако ни словом не обмолвился о записях его отца и содержимом птичьей клетки. В первую очередь потому, что наследник имел полное право потребовать вернуть ему рукописи, а я этого делать не хотел. По крайней мере в ближайшее время.
В заключение я добавил, что загляну к нему, как только покончу с текущими делами, хотя никаких особых дел до понедельника у меня не намечалось.
Когда я положил трубку, надо мной стояла Ева. Выглядела она восхитительно, словно и не было вчерашних бдений, и наш разговор с Кокориным-младшим слышала от первого и до последнего слова.
– Завтрак, лежебока, – сурово произнесла она. – И неплохо бы тебе побриться для начала. Кстати, ты случайно не в курсе, что это за художник – Матис Нитхардт?
Неплохой вопрос натощак.
– В курсе, – проворчал я. – Хороший художник. Может быть, гений. Другой информации у меня нет, кроме той, что в историю искусств он вошел не как Матис Нитхардт, а как Матиас Грюневальд. Если тебя интересуют детали, стоило бы вернуться в кабинет покойного Матвея Ильича. К тому же они тезки: что Матис, что Матиас – по-русски все равно выходит Матвей.
– Но ведь мы не собирались туда сегодня, – резонно возразила Ева.
– Точно, – сказал я, – не собирались. Попробуй спросить у Сабины – она наверняка что-нибудь знает.
Тут мы с Евой внимательно посмотрели друг на друга, и я вспомнил прошлую ночь. Похоже, нам действительно было о чем поговорить с нашей пожилой приятельницей.
Я поплелся в ванную. Душ меня слегка взбодрил, но не настолько, чтобы с восторгом отнестись к подсохшей и уже успевшей остыть яичнице, которую Ева метнула со сковороды на мою тарелку.
– Опять эти яйца, – забурчал я, ковыряя осточертевшую субстанцию. – Что-то у меня нет аппетита… Невозможно же, в конце концов, есть яичницу семь дней в неделю!
Отложив вилку, я потянулся за кофе, и тогда Ева торжественно произнесла всего одно слово:
– Гонорар!
– При чем тут гонорар? – возмутился я.
– При том! Хочешь овсянку – в качестве альтернативы? А если и это тебя не устраивает, тогда подумай вот о чем. Тебе не кажется, что наши вчерашние усилия оказались настолько результативными, что Павел Матвеевич вполне мог бы их оплатить? Посуди сам – два опытных юриста (тут я ухмыльнулся) потратили уйму времени на то, чтобы вернуть кучу денег, о существовании которых человек даже не подозревал.
– Нет, – сказал я, мужественно принимаясь за яичницу. – Во всяком случае не сейчас. Ты не понимаешь…
– Потом будет поздно, – предупредила Ева, и в ее зеленых глазах вспыхнул пророческий огонек.
– Посмотрим, – пробубнил я с набитым ртом. – Как ты думаешь, Сабина сегодня дома?
– Где же ей быть. – Ева с грохотом отправила мою тарелку в мойку и отвернулась.
Около часу дня мы поднялись этажом выше, и я позвонил в дверь квартиры Сабины Георгиевны Новак. Встретила она нас прохладно, а Степан, ее скотчтерьер, даже не пожелал выползти из-под кресла, чтобы по обыкновению обнюхать мои джинсы.
– Редко навещаете соседей, – укоризненно заметила Сабина вместо приветствия. – Старики – народ обидчивый и где-то даже злопамятный. Мы со Степаном не исключение.
Пришлось покаяться, и когда эта парочка сменила гнев на милость, я с ходу взял быка за рога.
– Вот, – сказал я, кивая на Еву. – Эту особу интересует Матиас Грюневальд. И не просто так, а в связи с делом Кокориных.
– Чьим, простите, делом?
– Супругов Кокориных – Матвея Ильича и Нины Дмитриевны. Оба покончили с собой в июле этого года.
– Господи помилуй… Мне кажется, я где-то об этом слышала. Он ведь был художник или что-то в этом роде, верно? В газетах писали… А разве это имеет отношение к вашей новой работе?
– Никакого, – сказал я.
А затем коротко изложил все, что узнал с того дня, как ко мне явились Павел и Анна, прибавив собственные впечатления от посещения дома Кокориных и кое-что из вычитанного в блокноте Нины Дмитриевны.
Когда я закончил, Сабина проговорила:
– И все-таки – при чем здесь Грюневальд?
Мне оставалось только развести руками.
– Пока не знаю. Но Еве кажется, что это существенно.
Наша приятельница зачем-то водрузила на нос очки и, задумавшись всего на секунду, выстрелила короткой очередью:
– Изенгеймский алтарь. Шестнадцатый век. Высота – три метра, ширина – пять. На внешней стороне подвижных створок – «Распятие». До Грюневальда никто ничего подобного не писал. Хранится в Кольмаре, в музее монастыря Унтерлинден… Вы, кажется, сказали, что покойная Нина и ее отец в начале пятидесятых жили на поселении в Суюкбулаке?
Несмотря на возраст, память у Сабины была на зависть. Там надежно хранились самые поразительные вещи. И неудивительно – при такой-то биографии. Пять лет лагеря и шесть – ссылки, эмиграция в Штаты к нашедшемуся брату, полгода во Франции и Бельгии перед возвращением домой с малолетней дочерью, семейная драма, едва не отправившая Сабину на тот свет, и многое другое. Наша приятельница была из породы людей со стальным стержнем внутри, который от житейских катастроф делается только прочнее.
Я кивнул, соглашаясь. Сабина сама свернула как раз туда, куда мне требовалось.
– Ева, голубушка, – она слегка приподнялась в кресле. – Грюневальд, конечно, был потрясающим художником и умел видеть невидимое, но я все-таки не могу уловить, какая тут связь… Буду вам признательна, если вы заглянете в кухню – там, кажется, еще остался неплохой херес.
Ева удалилась, за ней последовал Степан, здраво рассудив, что кроме хереса на кухне найдется кое-что и для него.
– С сорок восьмого, – продолжала Сабина, – и до самой смерти Сталина продолжались аресты и посадки. Я как-то рассказывала вам, что загремела сначала в детприемник, а оттуда прямым ходом в зону. Но это перед войной, а после все происходило не так… брутально. Однако срока лепили громадные – двадцать пять стали такой же нормой, как десять в тридцать седьмом. Разница в том, что расстрельных приговоров было меньше… В лагерях ничего не менялось, но и на поселении жизнь осталась такой же собачьей. Климат, болезни, голод… Выживали те, кто физически покрепче и помоложе, и еще те, у кого «в России» остались родные и друзья, способные помочь. Люди в экстремальных ситуациях, как я заметила, вообще становятся щедрее…
Она вздохнула и клюнула из бокала. Кроме бутыли с испанским хересом на столе стояли маслины, свежий серый хлеб и сыр, к которому Степан отнесся с большим одобрением.
Я потянулся за маслиной и уже в который раз поймал себя на том, что, слушая Сабину, испытываю странную неловкость, почти стыд. Нам с Евой досталось другое время, вполне вегетарианское, как кто-то его назвал. Здесь, конечно, постреливали и сажали без вины – но намного реже. Всеобщий ужас рассеялся, хотя мелких страхов хватало. И всякий раз, пытаясь поставить себя на место тех, кто пережил то, что выпало Сабине на ее веку, я становился в тупик. Потому что не знал и не мог знать, как вел бы себя в тех обстоятельствах, которые Сабина назвала «экстремальными». Одно дело – прогуляться ради прикола по парапету моста, и совсем другое – проторчать над пропастью полтора десятилетия без всякой опоры.
Сабина задумчиво пожевала губами. Вкус у вина был ореховый, с мускатной горечью.
– Недурно, – проговорила она. – Вообще-то, на поселении я оказалась дальше тех мест, куда отправили отца и дочь Везелей, но тоже в Восточном Казахстане. Там уже предгорья, лето жаркое и короткое, а зима суровая, с лютыми метелями. «Высылка» отличалась от «ссылки» – режим был полегче, а Везелей, насколько я поняла, выслали. То есть они могли сами выбрать место жительства, кроме населенных пунктов, включенных в особый список, – «минус поселения». «Минус» этот в разных случаях насчитывал от пяти до пятидесяти названий. В Суюкбулак, я думаю, они поехали потому, что там была группа единоверцев. Через определенные промежутки времени полагалось отмечаться в органах, в остальном надзор за поселенцами возлагался на местные власти, и чем глуше и отдаленнее было место, тем свободнее люди себя чувствовали. Основная проблема – добыть пропитание. Чем там они занимались, вам известно?
Я пожал плечами. В своих записях Нина Дмитриевна этих вещей не касалась.
– Лично я, – проговорила Сабина, – работала на колхозной ферме. Можете себе представить: восемь едва живых коров, по колено в навозе, сапоги дырявые… И еще неизвестно, кто голоднее – скотина или скотницы. Оплата – две кружки снятого молока, одна утром, другая вечером.
– Но ведь вы же химик по образованию, Сабина!
– Это потом я стала химиком. А тогда кое-какие сведения по химии и биологии пришлись мне весьма кстати. Травы – съедобные и лекарственные, мази от чесотки и язв домашнего изготовления, а главное – самогон. Из чего угодно – от кормовой свеклы до ежевики. На него можно было выменять много необходимого, тем более что продукт у меня получался качественный, по заветам дедушки Менделеева. Хотите пару рецептиков?
– Бог с ними, Сабина, – я понюхал содержимое своего бокала. – Ну а пятьдесят третий? После марта разве не стало легче?
– Легче? – губы Сабины сложились в ядовитую усмешку. – Ничего подобного! Весть о смерти отца народов разнеслась мгновенно, это верно. Некоторые идиоты рыдали и клялись в верности, кое-кто сильно воодушевился в ожидании перемен. Однако их долго не было. Хорошо еще, что приближалось лето. Когда все наконец поняли, что на свободу не скоро, – опять зажили привычной жизнью. Правда, весна пятьдесят третьего оказалась трудной – из зоны по амнистии первыми вышли уголовные, психопаты, мошенники, и вся эта нечисть потекла по стране… Что касается надежды – да, врать не буду, надежда появилась.
– Что вы почувствовали, когда вам разрешили вернуться?
– Егор, – хрипло проговорила Сабина, прикуривая и прикрывая лицо рукой. Зажигалка в ее пальцах прыгала. – Этого никому не объяснить. Мы были потрепанной и перепутанной колодой карт в дьявольских лапах, и, чтобы из этого вышел какой-то новый расклад, требовалось еще больше терпения, чем в зоне. Мне, например, вообще некуда было возвращаться…
Она окончательно расстроилась, и я поспешил сменить тему.
– А как на поселении относились к лютеранам?
– Кого вы имеете в виду? Никто не делил ссыльных на лютеран, католиков или православных. Все шли по политическим статьям независимо от конфессий, даже священники. Лютеране в большинстве были немцами, чехами, латышами, а значит, потенциальными агентами и пособниками врага. Всякие попытки организовать службы или – страшно сказать! – создать религиозную общину жестоко пресекались. Поэтому что-то вроде молитвенных собраний могло проводиться только в самых диких местах вроде этого самого Суюкбулака, да и то недолго, потому что стукачей хватало повсюду. В целом же это были очень приличные люди – в отличие от основателя их церкви.
– Вы имеете в виду Мартина Лютера? – удивился я.
– Кого же еще? – Сабина ткнула сигаретой мимо пепельницы и тут же спохватилась. – Брат Мартин, монах-августинец, неистовый молитвенник, преуспевший в самобичевании и умерщвлении плоти, был великим путаником. – Она обернулась к Еве. – Это, между прочим, все тот же шестнадцатый век, дорогая, как раз тогда Грюневальд под крылышком братьев антонитов воплощал свои видения. Они с Лютером – одного поколения.
– Сабина, – перебил я, – но ведь миллионы людей во всем мире…
– Говорите за себя, – отрезала она. – Терпеть не могу, когда начинают вещать от лица миллионов. Ко времени появления Мартина Лютера католическая церковь имела огромное влияние, и многим это не нравилось. Что на самом деле заставило благочестивого монаха и богослова выступить против Рима – до сих пор покрыто мраком. Он был честолюбцем, но отнюдь не храбрецом. Протест против торговли индульгенциями? Чепуха. Лютер и сам не был высокоморальной личностью. Тем не менее он ввязался в сражение и отступить уже не смог. Да, он перевел на немецкий Библию. Был яростным полемистом, окружил себя учениками и боролся с ересями внутри протестантизма, которых тут же возникло великое множество. В общем, беспокойная жизнь… Но вот что удивительно: Лютер нисколько не задумывался об абсурдности своего положения и о том, что, собственно, он сделал, – зачем, ведь возникла новая религиозная общность, в которой ему было абсолютно комфортно. Торговля индульгенциями сменилась торговлей понятиями. Неприкрытая демагогия, капля добрых дел, удобства новой веры – этого стало достаточно, чтобы спасти душу от вечных мучений. Никто за всю историю Церкви не наносил такого удара ей и всему западному миру. Грандиозная разруха, которую в течение тридцати лет производила в матушке-Европе Реформация, все эти войны, смерти и пожарища – следствие ущербности и комплексов одного-единственного человека, который надумал прикрыться Христом, чтобы не остаться один на один со своей испорченной натурой.
– Как по мне, – заметил я, – это больше похоже на политику, чем на религиозную реформу.
– Возможно, – отмахнулась Сабина, – но не в этом главное. У протестантов и мысли не было отказываться от Господа Бога. Для начала они хотели разобраться с Римом, а затем увлеклись: решили заодно навести порядок и в царстве небесном… Лютер до поры свято верил в то, что говорил, – остальное довершили его последователи к концу шестнадцатого века: протестантская церковь стала церковью теологов и пасторов. Не больше. Теперь князь предписывал своим подданным, во что им верить, а каноническое право и таинства пошли побоку…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































