Текст книги "Армен Джигарханян: То, что отдал – то твое"
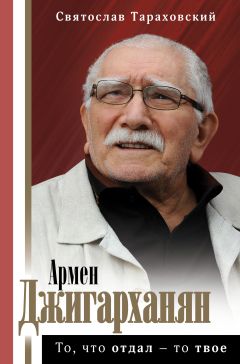
Автор книги: Святослав Тараховский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
37
Худрук спал ужасно.
Долго сидел один в одиноком доме, в одиноком кресле-качалке, думал о Вике, этим и был занят, хотя, если бы не был занят ничем, ей бы все равно ответил, что занят. Ее звонок взвинтил его чрезвычайно, был рад, что вовремя положил, почти бросил трубку, иначе сорвался бы и наговорил черт-те что, что было бы его недостойно. Помнил, что обещал к ней приехать, и хотел, но, после сегодняшнего признания Осинова, визит сделался невозможным. Он перебирал варианты своих дальнейших действий по отношению к Козловым-Романюк, так отныне он ее называл. Вариант первый: сделать вид, что ничего не знает, и просто наблюдать. Вариант неплохой, подумал Армен Борисович, но глухонемым наблюдателем он долго быть не сможет, заговорит и заговорит громко. Вариант второй: выяснить отношения и расставить точки. Тоже бы неплохо, размышлял Армен, но с кем выяснять отношения? С неграмотной соплюшкой, которой он по глупости рассказывал о Станиславском и Гончарове? Зачем, зачем, мама, он это делал? Ей интересней кола и хайп, Киркоров, Басков и Михайлов и кто там еще? Вариант третий: не обращать. Музыки, конечно, жалко, но театр стоит музыки. Он должен заниматься театром, артистами, репертуаром, тысячью других вопросов, а на нее забить. Последнее, молодежное «забить» давно вошло в его оборот, понравилось сразу, как услышал.
Весь вечер он думал о Вике и предательстве, но только, как выяснилось, наяву.
Едва закрывал глаза, как в воображении являлся любимый кот Фил с растопыренной навстречу хозяину когтистой лапой, скромный, но уютный американский домик на зеленой лужайке под Далласом и бывшая жена Татьяна с полосами и звездами на кухонном переднике. Фил начинал мяукать, домик вращался и хлопал дверью, Татьяна, предавшая и променявшая его на Америку, хохотала в лицо, махала полною рукой и спрашивала одно и то же: «Гудбай, Армеша, гудбай?» Надеясь сменить картинку и звук, он кряхтя поворачивался на другой бок, изображение сбивалось, но ненадолго, а женский вопрос всегда был постоянен и колоратурно высок: «Гудбай, Армеша, гудбай?» Пришлось проснуться, выпить височки и четко ей ответить: «Гудбай, навсегда». Он хотел бы увидеть Вику, но, странно, артистка Романюк во сне не приходила. Это было странно, это было занятно и непонятно, тем более, что она сама, если бы к ней обратились, охотно являлась бы ему в каждом сне. Но ее никто спрашивал, кто-то и где-то решал за нее.
Хорошо спал Осинов, прощенный и оглаженный хозяином. Сон его был чист и по-детски глубок. Часам, правда, к пяти, случился в нем небольшой сбой. Осинов внезапно ощутил себя прижатым к стене жарким мужским поцелуем. Люблю, хохотали мужские губы, люблю! Осинов узнал губы и удивился на себя, что ему вовсе не хочется уворачиваться от этих поцелуев. Это был Саустин. «Олег, крикнул Осинов, я тебя тоже люблю, но не до такой же степени!» – «До такой, до такой!» – зашептал Саустин и дал рукам широкую щекочущую свободу. Осинов проснулся в мыле и сообразил, что жутко хочет в туалет. Сходил, с опаской снова закрыл глаза, с тревогой и любопытством ждал продолжения встречи с другом, но Саустин почему-то не пришел, зато пришла и ткнула его в лицо мокрым носом старая собака, которую собаковод жена даже дома держала в наморднике. Собака ушла и оставила Осинова в некотором недоумении. Осинов истово матерился будто обрабатывал себя дезинфекцией, долго расшифровывал сон и понял, что друга Саустина ненавидит и в этом ему, должно быть, помогает Шекспир.
Сам Саустин спал прекрасно.
То, что происходило в театре и, конкретно, на репетициях с «Фугасом», его устраивало. Чем хуже, тем лучше, часто, как мантру твердил он себе, и это свое «чем хуже» воплощал на сцене с блеском. За публику он был спокоен, с публикой он сладит, ее, современную публику-бурьян с планкой запросов ниже плинтуса либо шокировать надо либо смешить на пример Петросяна – и то, и другое в спектакле будет, а вот с критикой… дело обстояло тоньше. Саустин сознательно творил чепуху, однако боялся перебрать и был осторожен, знал, что идиотическая современная критика способна иногда полное дерьмо поднять на щит, восславить и объявить знамением времени – такой славы ему и, стало быть, нынешнему арменовскому театру Саустину сейчас совсем бы не хотелось. Чепуха должна быть вялой и вообще никакой, понял он, перебор чепухи может, чего доброго, вызвать восторги, похвалы и быть истолкована как прием большого таланта.
А в общем нравилось ему, что худрук никогда не смотрит полработы, и, стало быть, он свободен в своих экспериментах, нравилось, что артисты – пешки, бесконечно доверяют режиссеру-постановщику, нравилось, что его прикрывает друг Осинов, нравилось, что скоро премьера, что «Фугас» рванет, разнесет старый театр и принесет ему, Саустину театр новый. Он понимал, что затея непростая, что надо еще обаять министерство, но и ставки были высоки, стоило постараться, и пройти через все. Конечно, понимал он, не все артисты пешки, некоторые очень даже не пешки, но с ними он рассчитывал договориться. Как произошло сегодня с артисткой Башниковой, которая взбрыкнула и заартачилась, но, слава богу, он сумел ее утихомирить. Пришлось уединиться с ней на полчаса в темной крохотной репетиционной комнате за сценой и провести дополнительное разъяснение – Башникова прекрасно усваивала режиссерские задумки в такой форме.
38
Премьера «Фугаса» приближалась.
Для одних как катастрофа, для других как очистительный потоп, для третьих как надежда.
Виктория приходила в театр, что-то делала в текущем репертуаре, но в «Фугасе» не участвовала. Слушала шепот подружек в уборной о том, что за ужас этот Фугас и чувствовала некоторое облегчение от того, что не участвует более в подлости.
Было у нее желание сразу, на другой же день явиться к Армену Борисовичу, выяснить причину его непоявления на даче той ужасной ночью и покаяться в перевороте. Однако не явилась. Подавила первое желание и здраво сообразила, что дело не в ней, не в нежелании худрука, а, наверное, в том, что кто-то ее заглазно ославил и оболгал. Догадаться было нетрудно, кроссворд был незамысловат и действующих лиц немного, тем более, что встреченный ею в коридоре на другой день Осинов неумело стрельнул глазами в сторону и скрылся в боковом коридоре как подлый шекспировский Полоний за портьерой в Гамлете. Он, тотчас кольнуло Викторию, он, любитель пива, Шекспира и интриг. Снова захотелось рвануть к худруку и все ему рассказать, обнять, оправдаться, что давно вышла из заговора, что заговор у нее теперь другой, против тех, прежних и что она в бессрочном союзе с ним, худруком, и снова не пошла, вспомнила, что одни слова не перевешивают другие слова, что и те, и другие – только колебания воздуха, и что великий актер Армен Борисович поверит не словам, а как профессионал – поступкам. Поступкам – да, верно, согласилась она, правильно, но каким, где их взять? Каким поступком сможет она доказать свою преданность и любовь? Голову положи за него, сказала она себе, словно услышав мысль с небес, голову, дыхание, честь, жизнь – этому он поверит. Но где? Как? Когда?
Оставалось ждать случая.
Пока что конкретно мучило то, что он ее не замечал. Она поджидала его в коридоре, шла навстречу, здоровалась – он проходил мимо. Это было больно. Больно вдвойне потому что незаслуженно. Ничего, она подождет. Она упорная. Подождет и докажет, говорила она себе. Поступку он поверит. Лишь бы выдался, лишь бы шанс. Она хочет только хорошего. Она хочет хорошего для него.
39
Ее предательство не шло у него из головы.
С Саустиным он разберется, функция времени. Щелчок пальца, и Саустина не станет. Обидно, артист он хороший. Но как все-таки быть с ней? Побеседовать? Пустое, слова – шелуха. Увидеть глаза? Много лучше. Еще лучше положиться на жизнь, жизнь покажет, обязательно покажет и докажет. Наберемся терпения. А вот Саустин? Круто берет любимый артист, как бы не срезаться ему с резьбы!
Слов и обвинений Осинова для расправы над Саустиным было худруку мало. С предателями живешь – словам не верь, вспоминал он маму и понимал, что предатели везде, но зря головы рубить он не станет – нужны доказательства.
Пришлось изменить самому себе. Обычно ходил на просмотр пьесы, которую репетировали, только по приглашению режиссера, который репетировал. Так и спрашивал очередного: когда позовешь, когда покажешь? Слепиков дисциплину знал, всегда приглашал вовремя. Саустин кивал, что вот-вот, но на репетиции не звал и не показывал, что, за десять дней до премьеры, было по меньшей мере странно.
Худрук пытался пытать артистов, они лишь мямлили и отводили непростые глаза. Никто не хотел оказаться меж молотом худрука и наковальней очередного постановщика. И все же звуки-змеи до худрука доползли: костюмеры, буфетчицы, охрана – сами стены дышали слухами.
Наконец, третьего дня явилась к нему Башникова и сообщила, что, если это возможно, она хочет отказаться от роли в «Фугасе». Это был перебор. Это был знак беды. Обычно артисты, артистки тем более, до последнего держутся за полученные роли и, если отказываются, то в самых невероятных случаях. Башникова, Армен знал, не хватала звезд с неба, но была вполне добротной, профессиональной единицей, на ней держался репертуар.
– А в чем дело? – спросил худрук.
– Ни в чем, – ответила Башникова. – Не мое. Не хочу, Армен Борисович, – не получается.
Худрук обещал подумать, разобраться, а для себя решил: пора.
В тот день с утра вызвал Осинова. Вызвал и держал при себе, чтобы завлит не смог предупредить бывшего или нынешнего, черт их сейчас разберет, дружка.
Вызвал и повел его хитро, не напрямую, не сразу в зал, как обычно ходил сам, а в будку радиста, чей стеклянный закуток находился в стене за задним рядом партера, зато в самом центре, откуда весь зал, вся сцена были перед вами будто блюдо на обеденном столе. Вошли, радисту – палец к губам, и замерли, и все внимание – на сцену, на репетицию. На священнодействие, на тайну, на живое рождение искусства.
А не было никакого рождения и тайны. В том высоком смысле, в каком понимали репетицию худрук и завлит, Станиславский, Эфрос, Гончаров, все великие учителя и сподвижники.
Было нечто другое.
Несколько артистов кружком сидели на сцене, пили пиво, заедали чипсами. Среди них – глухонемой фугас Шевченко, травивший анекдоты, и оглушительно хохотавшая Башникова.
– Ой, – кричала она, – ой! – и падала в хохоте и трясучке на священные подмостки.
– Чего это она? – спросил незнакомый патлатый артист.
– Пива ей мало, – ответил Шевченко. – Гена, плесни!
– Счас, – сказал патлатый. – Скажи бе-бе…
Осинов дернулся, хмыкнул, Армен Борисович придержал его за локоть – молчи, смотрим дальше…
Появился Саустин.
– Работаем, люди! – объявил он. – Учите бессмертный текст Козлова, и хватит жрать. Через десять дней премьера, и шеф спросит. Сурово спросит шеф.
– А ты ответишь, – скривился Шевченко и глотнул пива. – Скажешь, все окей: форма соответствует содержанию.
– В том-то и дело, что формы пока нет. Мы обязаны ее создать. Ее, фугасную взрывную форму. Давай, Шевченко, повтори то, что ты делал вчера. – И вдруг, в наглое подражание шефу, которого, к удаче, не видел, чистым хриплым стопроцентным голосом Армена Борисовича он распорядился. – Сделай это, сын. Сделай это талантливо, сын!
Шевченко мгновенно принял игру.
– Так не могу я так, Армен Борисович! Вчера я был в ударе. Сегодня может не получится.
– Давай, талантище, давай! Ты все можешь.
Шевченко с неторопливостью большого актера вышел на авансцену, повернулся к предполагаемой публике задом, крякнул и махом рванул с себя штаны.
Обнажилось безобразное застиранное исподнее.
– Здорово! – крикнул Саустин. – А дальше, дальше? Где гвоздь, где финал сцены? Где звук?
– Пардон, – крикнул Шевченко, – здесь присутствуют дамы. И потом, не автомат же я. То, что вы просите, я сделаю на премьере. Козыри надо беречь, Олег.
Этого было достаточно, терпение кончилось; в следующее мгновение худрук и за ним завлит, едва не зацепив дорогостоящую импортную аппаратуру, выбросились в коридор.
Завлит молчал. Задавать вопросы было страшно. Молча катился он за коренастой, ставшей теперь еще коренастей, зловещей фигурой худрука и не мог сообразить за какую мысль в предстоящем разговоре следует ухватиться, чтоб не попасть под раздачу. Лучше молчать, решил он. Молчать, пока не спросят. И потом молчать.
С ними здоровались. Завлит кивал, Армен не реагировал, и Осинов знал: такое его состояние взрывоопасно. Фугас, влетела ему в голову нелепая мысль, господи, вот же он, чистый фугас, только тронь – разорвет на части…
Отшвырнул дверь, оказался в комнате. Худрук дышал шумно. С размаха выпил воды. Стакан, за ним следом второй. И вдруг:
– Забронзовели? Обнулились?
Тактика молчания – правильная тактика, подумал Осинов и невнятно пожал плечами. Это был его конек – молчание и невнятное пожимание плечами – за что его, в такой капитулянтской позитуре бить, было непонятно.
– Могилку мне выкопали, благодарные ученички? Сами в нее свалитесь!
– Я могу его позвать, – сказал Осинов, и оба поняли, кого он имел в виду.
– Поздно, – сказал Армен. – Приговор уже подписан.
Осинов невнятно повел шеей и промолчал.
– Что за козыри он имел в виду? – спросил худрук.
И Осинов снова благоразумно промолчал. Он догадался о каких гнусных козырях шла речь, но расшифруй он сейчас то, о чем догадался и для чего козыри сберегали на премьеру, взрыв мог бы быть атомной силы…
И худрук долго молчал. Тоже, понятно, быстро расшифровал понятие «козыри» и убедился, что насчет Саустина Иосич оказался прав. Быстрая восточная кровь потребовала от него мести короткой и жестокой. Но мудрое восточное сознание остановило его, оно было много тоньше примитивных желаний крови. Сознание вспомнило вдруг маму, древний Китай, великий роман «Речные заводи» и любимую мамину оттуда цитату. «Если хочешь вернее погубить врага, сперва обними его как брата и приблизь». Так учила мама и древняя китайская мудрость, которая нисколько не устарела до наших дней, рассудил худрук.
Первая часть была выполнена: обнимал и приближал, рассуждал худрук. Осталась вторая и самая легкая: лишить жизни.
«Однако, конкретно, что делать-то с ним будем? – спросил себя Армен. – Как принародно наказывать? Как принародно и красиво четвертовать, чтоб процедура осталось в народной памяти?»
Задал себе вопрос, не рассчитывая на подсказку и быстрый ответ, рассчитывая на мучение и долгий поиск. Но ответ, как это часто бывает с трудным вопросом, вдруг пришел к нему легко и просто, будто давно сидел в запасном кармане головы, ждал вызова и верной своей минуты. Не веря такому чуду, худрук еще раз перепроверил условие задачи и снова поставил себе тот же вопрос – ответ подтвердился.
– Да, – сказал Армен. – Да. Так и сделаем.
Выпил с налета Туламора и просчитал нюансы.
На твоем поле посоревнуемся, мальчик Саустин, сказал себе худрук. На твой сумбур ответим своим суперсумбуром, сказал себе худрук. Твой успех перечеркнем своим суперуспехом, твой подвох нарвется на наш суперподвох, сказал себе худрук. Наиграемся, а потом прихлопнем комара, по-доброму заключил худрук.
Сообразил и отпустило его. Даже слегка улыбнулся.
– Иди, – бросил он через плечо завлиту, – и это, где Слепиков?
– Геннадий в отпуске. В Африке. Он думает над Достоевским, над «Бесами», над следующим нашим проектом.
– Нашел место. Лучше б по моргам, да по тюрьмам погонял и с «Фугасом» бы помог. До следующего проекта можем не дожить… Художник по костюмам – Глебова где?
– Настя, всегда на месте. Под рукой. Она «Фугас» обшивает.
– Подтяни-ка ее ко мне. Срочно, Иосич, на раз-два. Есть у меня для нее подарунок, в смысле – дело.
Осинов кивнул. Да он хоть сейчас готов бежать за Глебовой. Расстарается, из-под земли достанет. А Саустина – наоборот, туда же и закопает, поглубже, поглубже. Только сперва в духе Шекспира следует предупредить – по дружбе.
Но велик, велик худрук: он точнее полиграфа прочитал его мысли и дополнил их распоряжением римского императора и жестом: указательный палец вниз.
– А Саустина после всего – того…
– Согласен, – обрадовался Осинов употреблению худруком его любимого осиновского «того».
– Уволим.
– Согласен.
– И объявишь ему об этом – ты.
– Я?! – гнилью страха обдало Осинова.
– Вот именно. По-товарищески. Замазать тебя надо. Замарать в этом самом. Так делали в древнем Китае. В Риме тоже так делали. Не будем изобретать велосипед, Иосич. Объявишь и докажешь, что ты мне друг.
«Велик, велик худрук», – снова подумал Осинов, качнул короткой шеей и снова промолчал.
Вышел из кабинета, тотчас подумал не о Глебовой, не о том, чтоб незамедлительно направить ее к Армену – первой его мыслью стал Саустин.
«Давно не виделись, – думал Осинов, переставляя ноги по коридору, – три дня пива не пили… Надо Олега подготовить… Ничего страшного, пойду и расскажу. Сыграю роль двойного агента, даром что ли я завлит… Бойся левых, избегай правых, держись мейнстрима, так учил меня любимый дед, заслуженный академик истории РАН… С Арменом у меня порядок, и с Саустиным тоже пока неплохо. Я в мейнстриме, так и надо держаться – дед, выживший в репрессиях советский академик, только так и завещал. „Когда подвох нарвется на подвох“ – это Шекспир, Гамлет, он тоже поможет. Не нарочно же я Саустина… дезавуировал, люди! Жизнь меня заставила, люди!.. А идти против жизни все равно, что… против ветра…»
Двинулся по направлению к сцене и снова, как заговоренный, наткнулся на перебегавшую коридор серую мышь. Брезгливая дрожь прошла по членам Осинова. «Безумие, – сказал он себе, – безумие и дурной знак, та же эта мышь или другая? И откуда она здесь, и где лентяй Зуй, и что означает ее назойливое появление у меня на глазах? К худу ли, к добру или вообще ни к чему? Хитры твои загадки, господи, ой, как хитры…»
Развернулся, к сцене пошел кружным путем, через фойе.
40
Не могла она, чтоб никак. Или – или, такой она была.
Но неделя тянулась бесконечная, недоумение не рассеивалось, недоразумение не разрешалось, незнание мучило, и все слова начинались на «не»… Она как будто жила на одном давнем вдохе, дыхания и выдоха не было.
Когда стало совсем невмоготу – решилась.
Тем более, что в театре уже знали, где она живет. Девушки завидовали и язвили, особенно Башникова. «Дорога у тебя до дома очень удобная, Вика, говорила она. На второй этаж и в кабинет. Круто!»
Спектакля у Вики в тот день не было и репетиции не было, вообще могла бы не приезжать – приехала. Приехала и прямиком к нему. Что говорить, как говорить – не знала. Он должен, должен почувствовать, думала она, такой человек не может не почувствовать и не поверить не может. Наверное, чистый инстинкт гнал ее к нему, к его полю, словам, обаянию, улыбке, к тому, что она уже любила. Летела к нему как бабочка на огонь, и как бабочка не боялась обжечься, а даже напротив, хотела бы обжечься на его огне.
Сомнамбулой поднималась по лестнице, держала одну цель, ничто другое не интересовало.
И вдруг лоб в лоб столкнулась в вышедшим из заветного кабинета Осиновым.
– Привет, Козлов! – не растерялся Осинов. – Не меня ли вы ищете? Нет ли у вас новой пьесы для театра? Есть? Как называется? «Атомный взрыв»? Прекрасно. Ставим сразу после «Фугаса». Готов ознакомиться. Куда же вы? Але, Романюк!
Его появление, как ни странно, добавило ей уверенности и сил. Могла обойти, но нет, принципиально отодвинула его как лишнюю мебель, шагнула к кабинету.
И вошла. И стала у двери.
Худрук сидел за столом. Ничто не дрогнуло у него в лице, чуть сузились веки.
– У вас вопросы, Романюк? – в лоб спросил он.
Не было у нее ответа, не было ни «да», ни «нет», была немота, и она длилась.
А еще ударила ее неизвестно откуда взявшаяся гордость. Как приступ, как горячка, вспыхнула в ней вдруг, охватила целиком. Не будет ему никаких оправданий, никаких объяснений и доказательств, решил за нее ее организм, который, как известно, всегда прав.
Приблизилась к столу, выложила ключи и сказала «спасибо». Зачем она так сделала? – сама не знала. Не собиралась и не хотела – пришлось. Но сделала так, сразу почувствовала облегчение – значит, правильно сделала.
И захотелось другого: уйти.
Повернулась, направилась к двери. Пять шагов всего. Но не успела. Проходила мимо фоно и, готова была поклясться, что ее остановил инструмент. Стреножил, схватил за руки, развернул, усадил на стул перед собой. И заставил играть.
Шопен зазвучал как бурная речь, как острый спор, как гневная речь адвоката, как обвинение обвинителю и абсолютное отрицание собственной вины.
Замерли руки. И музыка умолкла.
Но не заговорила тишина.
Армен по-прежнему был нем и мудр. Мысль светилась в карих глазах, пронизывала их насквозь, но звука не было.
Уйти, уйти. Какая дура, что пришла! Ключи можно было оставить на вахте!
Он мог бы прикончить меня словами, он даже слов пожалел. Разговор окончился, не начавшись.
Теперь еще решительнее захотелось уйти. Уйти, исчезнуть, где-нибудь за дверью прийти в себя и понять, что это было.
На этот раз успела дойти до двери и даже взялась за ручку, деревянную, теплую, облагороженную сотнями счастливых и несчастных ладоней. И – словно глухой выстрел в спину:
– Стоять! Вы на работе, Романюк! Она же – Козлов.
«Называй меня хоть козлом, хоть чертом, дьяволом, хоть лохушкой бездарной, хоть телкой вислоухой – я все равно счастлива, что ты заговорил!» – подумала она и обернулась.
И улыбнулась, и слегка даже засмеялась, потому что увидела, как беспомощен и бессилен любой мужчина перед той, в кого влюблен. Бога не проведешь. Женщину – тем более.
– Я готова работать, Армен Борисович, – усмехнувшись, сказала она и чуть тронула рукой густую каштановую челку. – Я для этого пришла.
Он был рад, что она осталась. Рад был снова слышать ее музыку, рад был любоваться ею, рад, что присела к его столу и, стало быть, стала чуть ближе. Одна заноза ныла. Она – Козлов. И бдительности он не терял. Тем более, что на одной стороне линии был он, на другой – мама.
– А ключи, Козлов, зачем?
– Я, Армен Борисович, очень давно не Козлов. Распоряжением художественного руководителя я завмуз Романюк. Но музыку к этому вашему любимому «Фугасу» я подбирать не буду. Извините. Это уж вы сами, если желание есть.
Он ахнул. Одной фразой завершила рассказ. Она не Козлов, значит, она с ним, она завмуз, значит, опять с ним, она ненавидит пьесу и Саустина, значит… Не поверить ее глазам было невозможно, тем более, что верить ей ему так хотелось.
Армен воодушевился.
– Про премьеру знаешь? В пятницу.
– И про премьеру тоже. Я ведь еще немножко Козлов.
Армен усмехнулся, ничего не сказал ей о Саустине и о быстро и счастливо решенной задаче. Бдительности он более не потеряет и никому более не поверит. Но все равно он был счастлив ее присутствию рядом, ее близкому теплу.
Расстался с ней только тогда, когда в дверь всунулась художница Глебова.
– Заходи, талантище! – крикнул худрук и, тотчас повернувшись к Романюк, без нажима и просто, будто вчерашнюю, уже неинтересную газету, вернул ей ключи. – Ключи не причем. Иди, Романюк, работай. Позвоню.
Вика машинально взяла ключи и также, без нажима и интереса, сказала «спасибо». Это было трудно, тем более в присутствии наблюдательной Глебовой, но она была артисткой, и она смогла.
Все вернулось на круги своя? Если бы, подумала Вика. И круг был другой и возврат совсем новый. И дорога вела совсем в другую сторону. Но она этого еще не знала. И никто не знал.
Шла по коридору с одной мыслью: обещал позвонить. Обещал. Значит, опять надо ждать хорошего. Значит, счастье для нее еще есть?
Спустилась в гардероб, поздоровалась по пути с Башниковой и Шевченко, вышла из театра, посветлела и, смешавшись с прохожими, направилась к метро.
А Глебова вышла от Армена спустя полчаса, озадаченная новой задачей. Задание было несложным, но выполнить его требовалось срочно. На шее у Глебовой как метроном болтался традиционный сантиметр закройщика. Метроном – время.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































