Текст книги "Мать уходит"
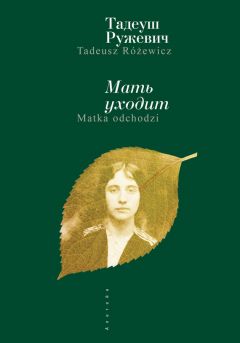
Автор книги: Тадеуш Ружевич
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
прощайте, мои тропинки,
прощайте, родные порожки,
ходили здесь мои ножки,
сейчас уж ходить не смогут и т. д.
После венчания вся свадьба ехала в корчму. Там все пили и танцевали. Когда веселья уже было довольно, пьяные, ехали наперегонки к дому свадьбы. Такая езда была, с одной стороны, очень веселая, потому что музыканты все время весело играли, но часто гонки заканчивались тем, что возы опрокидывались. Вернувшись с венчания, пара молодых с песнями вводилась в дом свадьбы. Потом был обед, во время которого происходил обряд снятия венца. Жених снимал с невесты венец, который перед этим дружки прикалывали так хитроумно, что снять его было так же трудно, как развязать гордиев узел. Во время снятии венца все пели и пили водку. Подружки пели грустные песни о том, что вот-вот она утратит девичество, а старостиха ходила с ситом и водкой. Собирая деньги на чепец, она пела: «дайте на сорочки, чтобы были красны дочки; дайте ей на бусы, чтобы росли бутузы». На что староста в ответ: «дайте ей на янтаря, чтобы были сыновья, дайте ей на колесо, чтоб имела она усе». Во время снятия венца молодая сидела на деже. После того, как молодой снимал венок, распорядительница надевала ей на голову чепец. Молодая снимала его и клала его себе на колени, потому что ей дарили чепцы и другие хозяйки, ну и мать молодой, и мать ее мужа. Если невеста была побогаче, то бывало, что собирали до двадцати чепцов и денег около ста рублей. Деньги эти шли в хозяйство молодым. Чепцы в нашей местности были очень красивые. Большого размера, они украшались разными лентами. На чепец женщины набрасывали красивые шелковые платки. На второй день свадьба проходила у родителей жениха, а на третий – веселились в доме старосты. Потом гости устраивали свадьбу в складчину. Мужчины сбрасывались на водку, а женщины приносили сыр, масло, яйца или кролика, колбасу и опять ели, пили, танцевали, пели и веселились до воскресенья. Венчались в основном по вторникам. В воскресенье молодая ехала в костел за благословлением. Ксендз давал благословление на материнство.
Часто богатые хозяева приглашали ксендзов и тминного писаря на свадьбу. Тогда лучшее из еды ставили перед лучшими гостями. Блюда для свадебного пира состояли из свинины, сваренной на квасу, вареных клецек, капусты с горохом, гречневой каши, хлеба и огромного печеного пирога.
Часто после свадьбы женщины злословили, оговаривали хозяев свадебного застолья. Сплетничали, будто те своих пригласили в кладовку и самое лучшее перед обедом вместе с ними поедали. «Я сама видела, как они выходили, и подбородки у них лоснились от жира. Потом танцевали, а я с этой свадьбы ушла, ничего хорошего так и не съев, потому на чепец только полрубля дала». Или: «Вы не видели, как у алтаря во время венчания криво горела свеча? Ой, будет ее мужик бить, а могла бы за него не идти, ее еще кто бы сосватал, ведь знала, что он покойницу бил» и т. д.
День Всех Святых в деревне тоже празднуют благоговейно. Уже за две недели до праздника жертвуют на так называемый помин души. Это значит, на молитвы за души умерших. В течение нескольких недель после проповеди ксендз вместе со всеми молится об умерших душах. За каждую душу ксендз берет деньги. Могилы люди украшали веточками, посыпали желтым песком, некоторые делали из тонкой бумаги красные, в основном ярких тонов, веночки.
После возвращения с кладбища вечером никто никуда не ходил. Даже к близким соседям, даже к себе во двор не выходили. Всегда говорили: этот поминальный день – Задушки – принадлежит умершим, вот и не нужно им мешать. Как-то я спросила, почему. И наша знакомая стала рассказывать, что если случались такие любопытные, так души к ним приходили. Рассказывала мне, что один мужик придумал поехать на мельницу. И тут налетел ветер, который так жалобно выл, что мужика от страха прошиб холодный пот. Смотрит: все зерно – под телегой, мешки без дыр, завязаны, а зерна в них нет. Какой охватил его страх! Хочет бежать – лошади стоят как вкопанные, и ни с места. Убежал один. Потому что все это – предостережение, чтобы в такую ночь только молиться за души умерших, а не мешать им. Говорю ей, что может, души вовсе и не пугают людей, а те сами боятся под впечатлением от рассказов, а знакомая на это: что вы такое говорите, это все правда. Вот еще однажды мужик собрался куда-то в такую ночь, а тут лошади как станут, и ни с места! Тяжело им, ехать не могут. Он глядит по сторонам, щупает, а на возу чтой-то лежит, такое большое, лохматое. Такой страх на мужика навалился, что тот, весь в поту, едва домой пришел и потом заболел. Будто бы два дня ничего не говорил, а когда его спрашивали, где лошади, отвечал: не знаю, может, духи забрали, которые приходили за покаянием, а ноги у коней уже заболели. Ну уж ладно, говорил мужик, хоть лошадей и жалко, будет другим предостережение, чтобы душам не мешали. Сам он потом всю жизнь молился и никуда не ходил, а у меня до сих пор мурашки бегают, как подумаю об этом. И еще один мужик мне рассказывал, что все это правда, что об этих духах говорят. Потому как один такой умный сказал, что тогда только поверит, когда увидит собственными глазами. И взял лестницу, поставил под окно в костеле и захотел заглянуть. А там умерший ксендз-настоятель пришел к душам служить службу и со всеми душами своего прихода должен был прийти, как пастух с овечками. Ну и этот мужик становится на ступень лестницы, а та ломается, но он как-то добрался окну. Но когда заглянул и увидел, что там происходит – все души стоят на коленях, а ксендз ведет службу – то со страху чуть не умер.
В мои молодые годы народ вообще был страшно суеверный. Рассказывали, что если мать умрет и оставит сирот, то всегда после смерти приходит ночью и младшего ребенка кормит грудью. Я говорю: умершему же нечем кормить, а женщина объясняет мне, что какая-то бабка видела собственными глазами, как ее дочь приходила ночью, становилась возле колыбели на коленки и кормила своего ребенка. И сказала эта бабка, что только сделался какой-то шум, когда дочь снова улетела на небо, и даже двери не открылись. Я любила, когда в деревне мне рассказывали о разных ужасах и (прежних) временах. Если бы я тогда знала, что когда-нибудь придется рассказывать, в каком невежестве жили люди.
Ксендз старался для усадьбы, а простой народ целиком был предоставлен сам себе. Очень верили в колдовство. Рассказывали мне, что если пастух захочет, то любому задаст. Значит, заколдует. Вот что случилось, кажется, в Радошевицах. Помещик выгнал пастуха, а тот отомстил, заколдовав его. Так ему задал, что тот никогда уже не мог нормально справить нужду, только в штаны. И этот помещик никогда не мог ни на людях быть, ни куда-нибудь поехать, потому что как только выбирался, сразу же делал в штаны, и приходилось сидеть дома. Будто бы и лакеи не хотели у него работать. Такую вот силу имели пастухи. А иной раз, когда сосед обозлится на соседа, идет к пастуху и платит ему, чтобы тот задал соседу. Пастух мог наслать прострел или какую-нибудь лихорадку, которая постоянно била человека. Пастух, говорят, будто бы оттого имел силу, что когда-то в пору полнолуния, выкопал на киркуте еврея и закопал его под порогом овчарни. Пастух мог также сделать так, что овцы не слушались того, кто заменял его. Собирались в кучу и не хотели, хоть убей, двигаться с места или нападал на них мор, и они подыхали.
Женщины верили в колдовство. Если бы какая-нибудь из женщин пришла попросить молока после захода солнца, то ей бы в этом отказали, или нужно было всыпать туда соли, чтобы молоко у коровы не пропало. Стоило соседкам поругаться, сразу одна на другую: ты ведьма, что ты после захода солнца тут ползаешь, да еще молока просишь? Думаешь, сука ты такая, что люди не знают, что и мать твоя уже была ведьмой, и люди ее голой видели, и как она ночью масло сбивала? И не раз бывали такие, что как на что-то глянут, сразу все пропадало. Мне кажется, что это «пропадало» означало, что все портилось.
Люди верили в изгнание дьявола. Будто бы в Бжикове был ксендз, который имел силу изгонять дьявола. Рассказывала мне одна старушка, что она как раз была в костеле, когда ксендз изгонял дьявола. Привезли в костел одержимую, и как только дьявол понял, что его хотят изгнать, так и не дал этой женщине в костел войти. Он рычал и метался в ей так, что изо рта пена пошла, но когда ксендз начал кропить ее водой и молиться за нее, то дьявол чего только не вытворял, а ксендз все молился. А женщина как начнет тут выть! Потом из ее рта показался огонь и дым, и тогда уж дьявол вышел. Верили также в то, что если воет собака и смотрит при этом вверх, то точно будет пожар, а если опять же воет и голову наклоняет вниз, – то чья-то смерть. Если кому-то должно было умереть, всегда были знаки. Или икона упадет, или такой удар раздастся, что все перепугаются, или что увидят.
Лечились люди преимущественно заговорами. Верили знахарям. Такой знахарь в основном лечил кадильным дымом. Зажигал на крышке разные травы, обходил вокруг больного несколько раз, и кадил, произнося какие-то заклинания. Это было лучшим средством от всех болезней. Если у кого-то опухало лицо или выскакивал чирей, то знахарь пользовался другими средствами. Велел помочиться на какую-нибудь грязную тряпку. Это должно было отвратить боль, и болезнь проходила. Мне же кажется, что больной чаще возносился на небо после такого лечения. Если у кого-то болела голова, то снимали порчу. Было очень хорошо, если кто-то ехал в Осяков и привозил фельдшера. Фельдшер лечил все болезни. Даже банки ставил, если у кого-то болел желудок, а зубы вырывал щипцами или отравлял корень квасцами.
Конечно, такое средство сначала помогало, но потом зубы портились.
Помню, потом в Осякове лечение стало получше, потому что в приход приехал ксендз Михниковский, который лечил довольно хорошо. К ближайшему врачу нужно было везти двадцать километров в Велюнь часто очень больных мужчин и женщин, которые в основном по дороге умирали. Люди врачей боялись. И говорили: не надо врача, ведь «если смерти пора, не помогут доктора» и лучше приведите ксендза. После посещения ксендза часто поправляются. Я была свидетелем, как родители привезли ребенка к ксендзу, чтобы его лечить. А у ребенка был круп, и пока они добирались из другого прихода, ребенок умер. Таковав была врачебная помощь.
Беременные женщины очень боялись акушерок. В деревне в основном были повитухи, не имевшие никакой практики. Такая бабка часто приходила к роженице с поля или после другой грязной работы, ее одежда и руки были ужасно грязными, поэтому много молодых женщин после таких манипуляций умирало от заражения или кровотечения. Бабка мало того, что была грязной, но к тому же и бессердечной, она говорила, что нужно спасать ребенка, а потом уже мать, потому что если ребенок умрет некрещеным, будет навеки проклят, а если умрет мать, то она ведь уже крещена.
Мне рассказывал один ксендз, что позвали его к больной с именем Господа. Он был поражен тем, что увидел. В бедной хате полно баб, больная умирает, а бабка нагревает кочергу. Ксендз спрашивает: что вы будете этой кочергой делать? Бабка отвечает, что ребенок не может родиться, потому что перевернулся в утробе. Так я, понимаете, хочу его этой кочергой зацепить за ушко и вытянуть, чтобы он после смерти матери там не остался, ну и можно будет ребенка водой окрестить. Ксендз позвал мужика и велел ему сейчас же ехать в Велюнь за доктором Домагальским, который и спас женщину.
Еще одни роды, на которых я присутствовала с моей знакомой, проходили таким образом, что муж вынужден был привезти гинеколога. Конечно, бабы подняли крик, что, мол, если будет доктор, то и ребенок и мать умрут. Однако доктор приехал, дал больной наркоз, потому что предстояла серьезная операция. Ребенок, родившись, весил четырнадцать фунтов, но мать осталась жива. Врач сказал бабам, чтобы больная была на диете, иначе у нее может случиться послеродовая лихорадка, поскольку она перенесла тяжелую операцию. Как только врач уехал, моя знакомая забоялась, что бабы захотят сделать что-нибудь по-своему. Она пришла вовремя, когда бабы собирались дать больной сваренные вкрутую яйца. Так разнервничалась, что все яйца выбросила в помойное ведро и сама ухаживала за больной до ее выздоровления. Женщины были физически сильные. Помню женщину, которая во время уборки овса родила на поле ребенка, потом пришла домой (не знаю, как она справилась сама, потому что это приличное расстояние), и через несколько часов родила второго ребенка. Даже говорила, что ей не нужно лежать в постели.
За новорожденными в основном смотрели плохо. Не только потому, что и речи не было о гигиене, но и потому, что маленьких детей часто оставляли совершенно без опеки. Новорожденных купали по большей части в деже, в которой месили тесто и толкли клецки. Было очень мало белья. Пеленки делались из каких-то ужасных тряпок. Маленького ребенка часто брали с собой в поле, там ставили три жерди, к ним матери привязывали кусок холста, свисавший наподобие сумки. Туда женщины клали подушку. Снаружи такой колыбели ребенка не было видно. Ребенок был вечно потным, уставшим от качания, – другой маленький ребенок постоянно качал люльку.
Дети постарше были совсем без присмотра. Я видела, что только в воскресенье у матерей находилось немного времени, чтобы помыть ребенка, отчистить от насекомых. Женщины в деревне, даже те, которые побогаче, были очень заняты работой. М приходилось работать и в своем поле, и в усадьбе, поэтому и дети, и порядок в избах были в плачевном состоянии. Даже зимней порой требовалось много работать: чесать шерсть ручными чесалками (чесалки эти были щетками со вбитыми в них иголками). Потом нужно прясть шерсть, лен. С перьями было легче, потому что девушки из нескольких хат собирались для этой работы и после ужина повсюду щипали перо. Конечно, было веселее, потому что вместе можно было пошутить, попеть, посудачить. Хозяйка обычно готовила ужин получше. В конце работы давали кофе и белый хлеб и были какие-то танцы.
Зимой всегда порядок был лучше, потому что из Германии приезжали дочери, главным образом незамужние. Из Германии дочки привозили матерям одежду, кастрюли, миски, плошки. Именно тогда, когда люди начали ездить в Германию, в деревне появилась эмалированная посуда, одежда получше. В деревне в основном ходили в домотканой одежде – мужчины в длинных сукманах (сермягах) красного или темно-синего цвета. Сермяга была украшена блестящими пуговицами, брюки заправлялись в сапоги. Женщины одевались в полосатые «велняки» и шерстяные передники. Даже кафтаны носили домотканые. На шее шеи носили воланы и много бус. Вместо платков также носили накидки. Детей одевали бедно. Мальчики даже до двенадцати и пятнадцати лет носили штаны, пришитые к лифу с рукавами. Выглядело это очень некрасиво.
В комнатах было очень много икон. Под большими иконами и между ними висели маленькие иконки. Буквально на всех стенах висели предметы культа и вырезанные разноцветные картинки. Стол также украшался фигурками святых и крестом. На столе всегда стояли букеты сделанные из тонкой бумаги. Стульев в мое время в основном не было, только лавки. Для воды служили деревянные кувшины. Кровати застилались очень высоко, иной раз подушки, которые клались с одной стороны кровати, достигали потолка.
Полов в основном не было. После подметания женщины посыпали пол желтым песком. Во время подметания было очень пыльно. Мух в избах было множество. Больше всего меня сердило, когда я видела, как неопрятно женщины пекли хлеб. Буханки из теста клали под перину, чтобы тесто вырастало. Которая из женщин любила порядок, та клала под хлеб чистый холст, но большинство просто утром выгоняли детей из постели и клали в нее хлеб. Хаты белили известкой. Потолок после постройки дома несколько лет не белили, а подметали метлой. Снаружи хата тоже часто была побелена. На окнах стояло много цветов, преимущественно пеларгонии, но цветы на окнах выглядели некрасиво, потому что росли в разных дырявых горшках. Когда девушки приезжали из Германии, порядка в хатах становилось побольше. Они учились в Германии вязать на спицах и вязали для домочадцев чулки и варежки.
Я жила в деревне в юном возрасте, потому мне трудно описать отношение крестьянина к усадьбам и вообще его психику. Мужик был недоверчивым, потому что помещики в усадьбе ничего не делали для того, чтобы приблизить к себе человека из деревни. Мужику же приходилось отрабатывать «барщину» за 15 копеек в день, а еще управляющий подгонял. Рассказывали, что пан Адам Красовский ездил на балы и тридцатирулевками задницу себе подтирал. А слуги это знали, вот и радовались.
В деревне не хватало места для того, чтобы строить дома далеко друг от друга. Строили на границе участка или на расстоянии нескольких метров дом от дома. А между постройками клали не сгоревшее дерево, ветки, пеньки и прочее. Как-то случился пожар. Было это перед самой жатвой, люди были в костеле. Пожар начался в какой-то из хат, и вся деревня «ушла с дымом», как говорилось. Пожарных в деревне не было. Имелись ручные шланги, но от них толку было мало, и пожар быстро разгорелся. В течение двух часов выгорело почти девяносто домов. Сгорело много скота: свиней, больше всего погибло лошадей, потому что коровы паслись в поле. Страшная была картина. Даже то, что люди успели вытащить из домов, горело на улице. В этом пожаре погибло также несколько детей и женщин. Для ликвидации пожара шлангов не было насосов, мужикам велели держать наготове какие-то жерди, с привязанными к ним тряпками, и этим тушить огонь. Некоторые люди во время пожара бегали вокруг огня с иконками святой Агаты и сыпали в огонь соль, чтобы отвести его от хат.
По договоренности помещика с крестьянином о так называемом сервитуте помещик имел право разделить хозяйство на части. Мужики говорили: мы будем платить в банк, а пан заберет у нас землю, когда захочет, пан всегда найдет свой закон. И так они рассуждали. Но нашлось несколько умных мужиков, особенно Добрас. Вместе с другим бедным хозяином, Рабоковским и моим отцом они поехали к жене генерала, которая жила в Одессе, и купили у нее (за банковский выкуп) несколько сот моргов земли. Другие хозяева, видя, что у людей, которые рискнули, дела идут лучше, чесали затылки и говорили: не выстоят, либо арендатор, либо правительство опять отберут землю. Такое было сильное недоверие. Но Войцех Добрас, мужик сведущий, хоть и не умел писать, только подкручивал усы и улыбался мудрой улыбкой, говоря немного с издевкой: вы, сосяды, гаруйтэ хлиб сухы пагрызаючы и чакайта, што у мяне адбярут, а я буду чакати, мажучы хлиб маслам и медам, пабачым, каму выйдзе лучша[3]3
Вы, соседи, переживайте, едя сухой хлеб, и ждите, когда у меня отберут, а я буду ждать, намазывая на хлеб масло и мед, увидим, кому будет лучше (бел.).
[Закрыть]. И, конечно, никто у них эту землю не отобрал. Сегодня на ней ведет хозяйство уже второе поколение.
Войцех Добрас был человек сведущий, хоть и не умел писать. Он всегда желал, чтобы была школа. Пока не было школы, он просил моего отца, чтобы тот учил его детей читать и писать. Дети, оказались способные, и хоть мой отец посвящал для их обучения толькочас в день, быстро научились читать и писать, а Добрас только подкручивал усы и радовался, что его дети умнее соседских. Он вообще был умен своим крестьянским умом. Жили у него евреи. Ксендз Хжановский ходил по деревне после колядования и не хотел заходить к Добрасам с пастырским визитом, дескать, Добрас держит в деревне «паршивых овец». Жена Добраса повсхлипывала, детям было жаль, что они не получат иконок, но сам Добрас говорил: вот пусть я пожертвую ему рубль, так ведь он и не спросит, не за постой ли это евреев, только возьмет. А когда у меня родится ребенок, то я к самому губернатору поеду, он обязан его окрестить. Говаривал также: не буду я никого слушать, если бы Иисус не хотел, то и евреев бы не было на свете. Добрас очень любил лошадей. Это было для него большой радостью. Правда, ни у кого в Шинкелеве таких красивых лошадей не было. Конокрады однажды украли у него такую пару лошадей, так он с крестьянской настойчивостью полгода ходил по ярмаркам. В конце концов, где-то возле Кракова он их узнал и после нескольких разбирательств вернул назад. Даже собака у Добраса выглядела как-то лучше, чем у других. Патриотом он не был, истории Польши не знал. Часто мне рассказывал, как его дед бился с паном во время восстания в Пажимехах и что паны получили как следует, а потом пели: «несчастливы Пажимехи, больше грусти, чем потехи». Слушателям это очень нравилось.
Крестьяне были очень привязаны к тем временам, в которых жили. Никогда не слышала, чтобы они сетовали на то, что Польша в неволе. О царе всегда говорили, что наш «пан цар лучшы за Вилюся (Вильгельма)». Случалось, что портрет царской семьи висел среди образо́в. Также и те, кто ездили в Германию, привозили портреты «Вилюся» с его семьей и тоже вешали их.
Я часто по воскресеньям разговаривала с людьми, когда они приходили, чтобы прочесть или написать им письма, которые приходили из Германии. Я подначивала их разговорами о том, что если бы мы не были в неволе, то наверняка было бы лучше, а так чего хотеть? Кому дело до поляков? Вынуждены бедствовать. Видела, что для них это было неубедительно, и они тотчас же начинали говорить о чем-то другом. Темы разговоров часто были такие: почему это «цесар» так долго не дает государственной земли, может быть, с помещиком договориться, ведь те, что взяли землю от генеральши, живут в достатке. Одни так комментировали, другие иначе: не завидуйте им, как за них возьмутся, так и рубашки не останется. Так за разговорами и за самокрутками проводили время. Курили табак («сечку») самый дешевый. Такими вечерами можно было наслушаться о том, что рассказывают о двадцатипятилетней службе в царской армии. У некоторых старых солдат я видела шинели, в которых они вернулись с этой службы. Старых солдат слушали все. Ведь они-то видели мир и другие обычаи. Шли туда молодыми, приходили старыми. Очень часто забывали родную речь или женились на русских женщинах.
Часто летними ночами они пасли на помещичьих полях. Пасли главным образом лошадей. Часто лошади лопались от переедания. Ночными пастухами были сами хозяева. Рассказывали друг другу о призраках, о войнах и бедствиях. Все, что они говорили, было главным образом ими услышано, ведь читать они не умели. Все всегда передавалось из уст в уста.
Помню также казармы… Казармами называли жилище батраков. В крышах одни дыры, полы глиняные, после дождя на этих полах можно было кататься. Вокруг домов полно навозных куч, дети голодные и грязные, потому что матерям приходилось идти на работу. Как-то с мамой иду по деревне, а она говорит: господа на повозках ездят и балы устраивают, лучше бы приют для детей сделали. А я думаю: может, не все так плохо, как мама говорит. Вижу, как помещик или помещица идут по деревне, так старые люди и даже дети руки им целуют. Спрашиваю у мамы: почему руки целуют, если так плохо? Мама говорит: они должны, потому что они бедные.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































