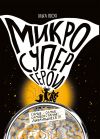Текст книги "Предшественник"

Автор книги: Татьяна Чекасина
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Татьяна Чекасина
Предшественник

© Татьяна Чекасина, 1989
© Спорт и Культура, 2023
Об авторе
Татьяна Чекасина – автор литературно-художественных произведений, мастер прозы. Этому писателю подвластен любой формат: от рассказов и новелл до повестей и романов. Всегда эмоциональное, неравнодушное повествование проникнуто глубоким смыслом. Персонажи – живые люди, совершающие непростой выбор между добром и злом. Торжеством добра, любви, свободы и веры проникнуто каждое произведение этого писателя, одного из лучших писателей современности.
Глава первая
(5 февраля, среда)
Опасная находка
Впереди образовалась беспросветность. Но не все думают о том, что будет впереди. Некоторые живут одним днём, например, Виталий Андреевич Бийкин.
Он идёт незнакомой дорогой, а его поезд свистит вдалеке. Но, и когда уходит его поезд, не впадает в уныние, продолжая путь, мало видя в сумерках сквозь очки, красивые, но с чужими диоптриями. Ботинки тонут в снегу, надвигается темнотою тайга. У него – радость. Не «общая», как в юности, а тихая, индивидуальная.
Вчера солнце горело, домик станции выглядел легкодоступным дворцом. Лес взмывал в покорённое небо. О, вчера… Какие вчера были погоды, какие вчера были планы, какие вчера были надежды! И какие вчера были не реальные идеи… Недавно он тосковал о прошлом, за будущее ломило сердце. И вот, обретя некую панацею, доверился этому, пусть и непогожему деньку.
На краю населённого пункта (название Улым, он тут в командировке на один день) у вертолётного поля – непонятное строение, вроде, морг. Вдоль глухой бетонной стены – труба. А под трубой удивительное: лента голой земли, через которую пробилась, наверняка, первая в холодном краю новенькая трава.
На трубе (тёплой!) ощущает он вневременное тепло. Трава эта – дура: грянет мороз, и не поможет ей тёплая труба.
Панацея в этот день явно даёт сбои.
…Он не видит сны, но в этой командировке, в гостинице – необыкновенный сон. Будто у него в боку, в некоторой припухлости тела – мышонок… Пробудился с отвращением к своему телу, крепкому и «практически здоровому» (так в медицинской справке). Оглядывает гладкий бок с тревогой о неведомой болезни, и о полной беспросветности.
– Бред! – уходя от трубы, глупо отдающей калории холодной улице. Панацея не подвела!
…Лесовоз нагоняет его в тайге. Водитель удивлён храбрецу (идёт один – и ничего). Бийкин залезает в кабину.
Огромная автомашина ровно, но ходко катит вперёд. Из кабины видна лёгкая метель.
Люди – снежинки. С облаков детства летят они, сталкиваясь, сшибаясь, слипаясь и вновь разобщаясь, к роковому приюту – земле. На ней будут таять. Но иные в это не верят, думая, что какой-нибудь ветер отправит их в неведомые дали, продлив полёт, а то и превратив его в бесконечный.
Снега синеют, сияют чернильно. В этот цвет ярко-синих чернил Бийкин любит глядеть. Всё. Нет синевы.
Философское настроение перелилось в поэтическое. Он стихи пишет, как в ранней юности. Их публикуют в газете «Путь к коммунизму», в редакции которой он работает. Формат – в половину «Правды», но требует немало материалов: статей, репортажей, «информашек», фельетонов, очерков. Стихи, так, хобби.
Он едет, а в голове рифмы:
Ночь весенняя длится и длится…
За окном громыхает капель.
Я прошу на меня не сердиться —
март пропущен, – вплываем в апрель.
Ночь тревожная и нескладная:
льды ломает – наши мосты.
Одиночество – тьма непроглядная…
День придёт. Но придёшь ли ты?
Как у всех поэтов, у Бийкина – Прекрасная дама. Влюблён. Видимо, вопрос любви у него решён впервые. В редакции городка Удельска найдена его настоящая любовь. Ему тридцать девять, он женат, детей трое, и никакой любви не полагается.
Луна над тайгой, автомобилю она ни к чему, он везёт впереди пятно искусственного света.
Улым уже далече… А вот и городок Удельск: панельные – на горке, деревянные – под горой. У реки за двойной оградой, увитой колючкой, – лебёдки лесосплава; это территория колонии, яркая от фонарей, будто сцена, подле неё – театральный зал. Бийкин не на этой проклятой «сцене», а на «воле», как тут говорят.
«Общага газовиков», его окно на втором…
В холле – тётка-вахтер. «Рад видеть, Анна Федуловна!» (непонятная народная мудрость: «Федул губы надул»). Ужинает, чем бог послал. А послал колбасы, называет её пласт-мяссовой… В душе ворохнулось… Хотя и в командировке в Улыме: в конторе леспромхоза, на улицах, в гостинице нет-нет думает об этом… Оттого и сон гадкий! Вот он мышонок твой…
Накануне этой поездки, прибирая в столе, вынимая папки с бумагами и блокноты, будто в детективе, обнаружил тайник, о котором не подозревал. Один ящик с двойным дном. Под фанеркой – папка. На белом картоне типографским шрифтом: «Папка для бумаг». Эту надпись Бийкин заклеивает. Но эта папка не его. Предшественника.
Предшественников так много, как и ныне живущих. А нынешние – кто? Тоже предшественники для тех, кто ещё не родился. Предшественники бывают разными. Одни, не сделав никому ни добра, ни зла, канут в лету, и никто их не помянет. Другие, активные, долго гремят, иногда провоцируя в преемниках злобу, неприличную (покойники всё же). Бийкинского ругают. Но кое-кто с ним носится. И в этом – элемент тайны, которую не признаёт Бийкин. Наверное, защитный рефлекс. И вот, найдя папку, неприятно удивлён: как подброшена!
Надо обдумать план. Планы («планты» – шутит) он составляет на взлёте, с мечтами-крыльями…
«…Надо мечтать
детям орлиного племени!
Есть воля и смелость у нас, чтобы стать
героями нашего времени!..»
Поколение Бийкина с молочным мороженым впитало эту песню. Её, то и дело, исполняло радио, как и другие такие, полные оптимизма.
Составление «плантов» – радость. Рука выводит: «Первое, второе, третье…» Но не так легко с выполнением! Лень, плохая дорога, дрянная погода… Его недавний план в три пункта выполнен. И новый краток, но опять труден.
В коридоре (экономное освещение ночного вагона) – запахи кухни. Тут одинокие женщины с детьми. И он одинокий, в отдельной комнате, наподобие гостиничного номера.
Войдя, видит папку. Белеет в полумраке, как бандероль с того света: не выбросить, не отдать другому.
Нет охоты работать над планом (первое, второе, третье). Противоестественное: прилив превратился в отлив, и перед ним – голый берег, на котором реально увязнуть в песке, так и не поднявшись на гребень новой волны.
У кровати на тумбочку рядом с казённой («вся из железа») лампой поверх детектива «Убийство на тихой улице» кладёт находку. В папке две вещи, но его притягивает эта. На картонной корке: «Книга амбарная». Владелец не видел в упор и это «название», дав реальное: «Дневник». Гусельников В.С.» – знакомым почерком.
В газетной подшивке эта фамилия. Автор, будто рабкор или великий писатель, не имел другой. С длинной – морока. Наборщики норовят втолкнуть между «е» и «л» «и-краткую» (Гусе-й-льников). Руководители на предприятиях никак не запомнят целиком и сокращают: Гусаков, Гусин, Гусев. Один хмыкнул: «Этот Гусь…» Гусельникову такие оговорки вряд ли нравились. Он гордился фамилией, начертывая её прямыми, ровными буквами и на полях телефонного справочника, и на перекидном календаре прошлого года, в который и сменит его Бийкин, никогда не видевший этого парня, но узнавший о нём от других.
И вот папка, точнее, дневник именно этого человека, который жил в этой комнате, работал за этим столом, спал на этой кровати, и здесь с ним случилось не только жуткое, но и непонятное, которого, наверняка, могло бы не случиться. Его кредо было – впереди беспросветность, надо от неё спасти Удельский, отдельно взятый район. Но правильное мнение: Удельский район не на Луне.
Как лишить себя удовольствия глянуть хотя бы фрагмент? Какой умный не прочитает написанное глупым? Но целиком и не думает. На такое времени нет; кто будет работать, выдавать корреспонденции, репортажи, очерки: строчки – в номер, строчки – в загон? Да и неловко: вроде, не имеет морального права. Но информация о смерти этого парня интригует.
Фотокорреспондент редакции Гошка Валуй в первый же день, как бы выпав из фотобудки, тёмной комнатки, выгороженной в углу секретариата, поднял на Бийкина детские глаза: «До вас тут Володя, ему, эн-та, устроили выволочку. Он пришёл домой, эн-та, и умер». Валуй – заика.
Мнение Всеволода Муратова, завотделом, в котором и трудился предшественник: «Кое-кто видит этого типа в терновом венце идеалиста, но он – опасный доктринёр. А всё деньги. В то время, когда эти детки генералов девок по дачам таскают, я уголь в топку кидаю, – платят гроши! Хотя я необъективен. Он у меня жену увёл…» Муратов тогда готов укатить в другие края. Насчёт жены: Валентину никто никуда не увёл. Это он уехал от неё с севера на юг.
Да, наверное, прав Валуй: выволочка. И тот умер от горя…
На страницах амбарной книги никакого дневника.
Воспоминания
«Воспоминания приводят к познанию»
(Плутарх)
Именно так назвал рукопись этот мальчишка!
Fuga. Major. Moderato. Consonans
Б а б у ш к а Ангелина Филимоновна. Ей около шестидесяти. На голове «меланж»: седина вперемешку с тёмными волосами. От неё пахнет «прохладой» врача. В белом накрахмаленном халате величественна, как императрица. Я её боюсь. Её рук дело, а руки у бабушки ледяные, – мерзкий укол, первый в моей жизни. Я ору, её увидев.
Ха-ха! Бабушка не стандартная. Нормальные, в понимании Бийкина, похожи на вахтёра Федуловну или – на Марью Прохоровну, мамину маму.
«Д е д у ш к а К о с т я. Так я называю его первое время, а далее, – как все, – Константином Иванычем. Он болеет. Но на седьмое ноября и на двадцать третье февраля надевает форму. За ним прикатывает длинная машина, на окнах белые шторки, и он едет в военный дворец. В мундире монументален, к нему боязно подходить. Но в один день его рождения от него пахнет (как теперь догадываюсь) коньяком, и он шепчет пьяновато:
– Ангелина-то была для меня недосягаемой.
– И дедушка удивительный! – хвалит читатель, надеясь на дальнейшие парадоксы.
И, как живого видит дедушку Ваню. Он на фронт уходит, на «вторую войну», как говорит, первая – гражданская. На второй он погибнет, а ведь мог не идти (возраст).
М а м а. Алла Аркадьевна. Ей лет двадцать пять. В крепдешиновых и креп-жоржетовых платьях, в халатах: лиловых, бордовых и голубых. У неё большие волосы. Когда она наклоняется надо мной, мы «в норке». Mein Mutterchen. Мамочка.
На маленьком экране (линза напоминает круг льда в бочке у чёрного хода), в «телемизере» (так шутит бабушка) мама в длинном платье читает стихи. Я люблю её репетиции дома.
За окном – зима. Я – с ангиной, болезнью моих младых лет. У мамы приятный тембр: «…Снег выпал только в январе…» А далее – рок: «На третье в ночь…» Но светает, и вот утро: «Проснувшись рано, в окно увидела Татьяна…» Книгу эту огромную я знаю лет с четырёх. На лаковой обложке литографическая копия с картины Крамского: портрет Пушкина. Великий поэт, будто родной мне, не как бабушка Ангелина и дедушка Костя.
– Я жить хочу, чтоб Пушкина читать! – восклицает мама.
А вот это для меня и обо мне: «Будешь умы уловлять, будешь помощник царям…» Или вот: «Ты садись, Радивой, поскорее на коня моего вороного,… конь тебя из погибели вымчит»…
Как много халатов!
Немецкий у Виталия был на одни пятёрки.
Но он не мог вспомнить хоть один халат матери, которую не называл ни «мамочкой», ни, тем более, мein Mutterchen. Ага, был (один?) в цветах и папоротниках. В телепрограммах его мама не выступала. Правда, о ней давали материалы в газете (не в «Правде») как о лучшем руководителе цеха на обувной фабрике.
Т ё т я С а ш а. Александра Владимировна. Ей тридцать лет, она – завуч в немецкой школе. Переводит критико-библиографические статьи о Гейне. Глаза зеленоватые, как у её брата, моего папы Сергея Владимировича. Мы плаваем на лодке «до мыса и обратно». Тётя Саша на вёслах, поёт про Lorelein. На дне рождения (мне пять лет) я декламирую с «приступами» и дифтонгами эту легенду.
И Бийкин в кружке немецкого языка пел про Лореляйн! О том, как некая девица на камушке у воды расчёсывает золотым гребнем (мит гольденем Каммэ) кудри, отвлекая внимание рыбаков от рифов и уволакивая их на дно реки.
Т ё т я Л и к а. Леокадия Владимировна. Ей нет тридцати. Худая, длинноватая, волосы жидкие, не то, что у мамы… Главное у тёти Лики – руки, не маленькие, крепкие. Её комната для меня полна тайн, будто музыкальная шкатулка Одоевского. Эту фантасмагорию то и дело озвучивает радио. Комната тёти Лики имеет двойные двери и «мягкие» стены. Внутри на полу – ковёр. На нём – концертный рояль.
Я рано понимаю музыку. Её любят. Мама – Моцарта. Когда я был младенцем и плакал, она заводила на проигрывателе «Маленькую ночную серенаду». И я улыбался. Бабушка – поклонница Крейслера. «Радость Любви» и «Муки любви». Милые мелодии. И я горюю! Кажется, больше над «радостью», чем над «муками».
Тётя Лика заводит (для меня первая вещь в исполнении оркестра), «Времена года» Вивальди. Она предваряет каждый концерт:
– Весна. Ми мажор. Allegro. На улице солнце. Торжественно играют скрипки! La Primavera…
…«Зима». Фа минор. Мы, будто идём под ветром, под холодным ливнем (в Италии), скользим по ковру, как по льду…
Как-то маленький Вита бредёт из школы домой в Свинятинский, где при царе купец разводил прямо в городе свиней. Тогда его не одобряли. Ну, а советская власть переулок переименовала в Строителей, бульдозером укатав свинство.
Тёплый день конца мая, впереди каникулы. Не дойдя до дома, Вита в оцепенении слушает радио, которое крепится на столбе. «Музыкальная шкатулка» Одоевского. И дома – радио, но от этого же столба он впервые узнал оперу «Пер Гюнт» Грига, который и теперь его любимый композитор.
Однажды вхожу к ней: тётя Лика в согбенной позе. Луч солнца на рояле. Наверное, она утомлена, оттого и проник я в недра музыкальной шкатулки. Подойдя, нажимаю клавиши, выдавая тритоны, и вдруг – consonans! Гармония! Ненароком попадаю в унисон. То же «ре», что у тёти Лики, но из другой октавы. Тётя Лика берёт ноты, я нахожу имитацию. Это «наша фуга».
– У него абсолютный слух! – говорит она наутро, входя в столовую.
У тёти Саши недовольная мина: не дай бог, ребёнка хвалить! И тётя Лика добавляет:
– Но это ещё не повод для хвалы.
Они думали, моя жизнь будет медленной фугой с небольшими вариациями и подготовленным crescendo.
– Вот жили! Прямо барчонок какой-то! Рояль в доме! На что, на какие шиши?
Помнится, школьник Вита хотел играть на гитаре. Он познакомился с пареньком, у которого гитара была! И вот Вита приходит к этому мальчику домой, ждёт, когда тот оттренькает гаммы. «На, побренчи». Вита «добренчался» до модной мелодии. А паренёк с гитарой не мог дальше «до, ре, ми, фа, соль…» У него не было таланта. А у родителей Виты не было денег, не только на гитару, на ботинки для них с братом и на туфли для сестры.
О т е ц. Папа Сергей Владимирович Гусельников. Ему тридцать девять, но он главный инженер и вот-вот, – директор. И в семье он главный, но и он – во фрунт, хотя и шутейно, перед дедушкой Константином Ивановичем. У отца властные манеры, хотя я его не боюсь. Я его обожаю.
– «Гусар всё тленно под луною!»
Я не понимаю его шутку, хотя стихи – не чужая мне стихия.
В гостиной полумрак. Отец – в кресле. На нём (утро выходного дня) халат, перетянутый в талии поясом с «бомбошками». «Приют» Шуберта. Романс какой-то зловещий: «Голые скалы – мой приют». Будто жалоба великана: «Душу всё те же муки томят…» Но отец любит этот романс.
А вот и финансовый исток! И муки его томят. Минорный романс… Отец Виталия, не дослушав до конца, вполне вероятно, захохотал бы. Хохот особенный. От низких нот – в штопор визга. И те, кто на этот момент рядом, как по команде, – в хохот.
Бийкин удивлён, недоволен: «воспоминания», и нет – о редакции! Да и глупости никакой.
В доме тишина, и во всём Удельске… Но локомотив, колёса о рельсы бьют: поезд с юга – на север. А вот и встречный: с севера – на юг…
Глава вторая
(6 февраля, четверг)
Звонок с того света
«Книга амбарная» – неплохая находка, вот только, как бывает в книге, нет фотографии автора.
На работе – к начальству – и ляпает:
– Лёня, я нашёл дневник Гусельникова…
Кочнин на миг лицо закрывает, как от огня.
– Не может быть! Там не могло уцелеть… – не нравится Леонтию находка, будто она для него именно опасная. – И что он там пишет? Наверное, про редакцию?
– Нет-нет, Лёня, мемуары нудные.
– Понятно. Умер бывший фотокорр…
– …он фотографировал лучше Валуя…
– Да что ровнять! – разворот к сейфу, где хранит альбом, любит им хвалиться.
И демонстрировал только приехавшему Бийкину, которому тогда было не до коллекции, любовно собранной Леонтием. В этот день – тоже, но одна фотография…
На первой странице – цифры, выведенные неумелым художником (Леонтием) – год начала его работы редактором газеты «Путь к коммунизму». Далее портрет: Леонтий Фролович двадцатилетней давности в двубортном пиджаке. Робкая улыбка, мелкие зубы, тогда не металл, свои.
– Лёшки Андреева работа, божьей милости фотограф. Не Валуй! Этим Георгием Артёмовичем, – Гошкины и.о., – меня одарил руководитель исполкома Артём Николаевич Валуй. Уходит на покой и умоляет взять сына фотокором. Но я теперь и к нему, – как к родному. А Лёшка Андреев… Хороним завтра…
Хоть бы не комментировал! Утащить бы альбом в отдел, – добычу в нору, найти тот снимок.
– Первый коллектив редакции… Вот эта девица – Люда Сороковкина. Она – в «Пионерской правде». Давно не виделись. Говорят, раздобрела…
За двадцать лет состав редакции менялся, и с приходом нового человека редактор организовывал групповой портрет. Чаще – на фоне стены горкома партии. Кто-то щёлкает, потом – в ряд и щёлкает другой. Каждая редакционная эпоха имеет две фотки. Иные из этих людей теперь «далече». Иные умерли. И Гусельников, вроде, умер, а, вроде, нет.
– Тоша Егорцев, не догадаешься: одно лицо…
Леонтий бережно переворачивает: опять – Егорцев, но в компании Муратова и Валентины. Вскоре его найдут мёртвым неподалёку от станции, где подрабатывал разгрузкой вагонов.
– А какой журналист, лёгкое перо! А это – Маша. Ей пятьдесят, работать не умеет, но на безрыбье и рак рыба, в школе кружок ведёт… А это опять я…
Потёртый, помятый баталиями с руководителями города, ночными бдениями в типографии, конфликтами с иными из этих людей, такими милыми на снимках. Наконец, недавний групповой портрет.
Опять на фоне горкомовской стены: Валуй, Леонтий Фролович, водитель Миньша… Значит, следующий. А на нём-то в ряду коллег он, Бийкин… Как?!
– Всё?
– Ты же не уволился.
– А где мой предшественник?
– А-а, – Леонтий Фролович глядит вбок. – Мало он тут, я не улучил момент.
…Бийкин ехал на север медленным унылым поездом, боялся, – не примут (не принять не могли) или начнут задавать вопросы…
Кочнин в тот день – только из горкома. Стащив галстук и увидев Бийкина, не надевает вновь. На телевизоре – кактус. В серёдке цветка что-то горит малиновым пламенем.
– Дома полно, вот и на работу натащил, – Леонтию нравится удивление Бийкина.
– Чудо! – поднажал.
Но Лёня не обращает внимания на его невинную хитрость.
Была ли у Кочнина на тот момент информация? Наверняка. Но, находясь в шоке от Гусельникова, готов был иметь дело с одержимым пороком Бийкиным, только бы не с таким, как Володя. И другие готовы радоваться друг другу, прощать друг другу в ущерб делу, за которое ратовал отбывший, не ясно куда, Володя. Бийкин перенимает у новых коллег манеру распростёртых объятий. К тому же, приятно видеть их лица, не видя недостатков.
Люди оставляют разные впечатления, как портреты гениальных художников одному говорят – одно, а другому – другое.
Кочнин. Неглупый и добрый. В улыбке – глаза маленькие, а щёки – пухлые (как-то мило).
Муратов. Не хватает бараньей шапки, коня да бурки, но и так в седле. Одет во всё, что не надо гладить, аккуратен в мотаниях по району. Они нормально работают до его увольнения.
От беды с предшественником в редакции не могут прийти в себя, с новым человеком не откровенны, а ведь он арбитр, вовремя подкативший. Но иногда проговариваются. Например, Валуй о конфликте Гусельникова с редактором: «Из-за ковра…» Какой-то мелкий инцидент.
Валя: с ней можно говорить на равных, как с другом. Но о Гусельникове какой-то бред. Кочнин, багровея, ругает «неумехой», а Валя, бледнея, чуть не падая в обморок, сцепив пальцы так, что звякают друг о друга кольца, уверяет: «Виталий Андреевич, он был талантлив!»
Её муж Муратов, редко согласный с редактором, тут ему вторит: «В газете не мог!» «Он был талантлив!», – Её чудные глаза прямо глядят на Бийкина. – А ещё для него не было понятия “спасительная ложь”». Неумелая защита того, которого ей приплетают.
Муратов – на повышении, Валя – тут. Видимо, в редакции города Надеждинска, более цивилизованного, чем город Удельск, для неё нет вакансии? Повышение не её, муратовское. Она звонит кому-то в другой город. Валуй уверен: Севке. У Вали другая фамилия – Вавилова, но материалы иногда подписывает мужневой. Леонтий уверен: будь у них окончательный разрыв, не подписывалась бы так. Валуй: «Севка ревнивый. Он же – кавказец». И – о кавказцах банальная ерунда…
…В глазах Вали, ржаво-серых от слёз, – боль. «Валентина Ильинична, верю вам, вы правы». Спасительная ложь. В отличие от «правдолюбивого» Володи, Бийкин её практикует. Любила? И теперь любит? Гусельников-то – пацан. Она его старше на семь лет… Вот Бийкин – не молод, но как раз настолько, на сколько надо. С годами приходит понимание: быть молодым не так и комфортно.
Она умолкла: телефон. И полное внимание к информации на том конце провода. Отложив авторучку, оглядывает в кольцах камни, меняя им освещение, будто не было волнения минуту назад и, будто никогда не любила Гусельникова. Вполне вероятно. И этот вариант опровергает глупости о ревнивых кавказцах.
Феде верит больше, чем редактору, и, куда больше, чем Вале:
– Он был болен, с ума сошедшим. Леонтий – одно, Валя – другое… Андреич, ты мне поверь…
Ну, и опять мнение Валуя. Неавторитетное, но удачное лаконизмом: «Он был, как ребёнок. Полный наивняк!»
От редактора – в секретариат. Довольно просторная комната, тут и фотобудка для фотокорра.
Два стола. «Министерский», на котором папки с бумагами, и маленький, на котором портативная пишмашинка и более ничего.
За «министерским» – Валя. Впервые увидев, определяет как «тургеневскую девушку». Лицо милое, но не кокетливое. Глаза отражают то, что она говорит, иронизируя, дополняя. Эти глаза окрашивают формальную информацию весельем или грустью, меняя цвет. Тёмно-синие – от нелёгких дум. Голубые – в радости. Цвета бетона – от горя. Дорого бы отдал Виталий, чтоб увидать, какого они цвета в страсти.
Валентина Ильинична, – ответственный секретарь редакции, не какая-то секретарша, а правая рука редактора.
За маленьким столом Федя, как плохой, но миляга-ученик, переросший парту, привыкший именно к этой парте, не желающий менять её от гигантской лени. Он – зав отделом культуры.
На диване можно увидать, то молодых работников исполкома, то инструкторов горкома комсомола, не говоря о водителях на «ша»: Петьша, Геньша и редакционный Миньша. Федя – магнит, местная знаменитость. А с этими ребятами он мало говорит, тюкая на портативке. Они – публика, для которой он поёт газетные заметки, как речитативы опер. Копирует всех: от Банных (первый секретарь горкома партии) до Брежнева, генерального секретаря. Глаза у него немного на выкате. Надо лбом выбрито, будто под парик. Актёр! Человек-театр.
И в этот день в секретариате друг напротив друга, не глядя друг на друга, – Валя и Фёдор.
В тёмном углу – «длинный кактус». И этот притащил Леонтий из дому. Уборщица Зоя Прокофьевна в горшок втыкает палку, и кактус карабкается, норовит вымахать с дерево. Гадают: подопрёт потолок или нет, тормознёт когда-нибудь или никогда? Скорость-то дикая. В недавнее время – нарост. И вот этим утром цветок лимонно-жёлтого цвета, отвратительный не цветом, вполне допустимым, а чем-то другим.
– Цветет раз в сто лет, – информирует Федя.
– Неужели целый век? И не мог выбрать менее хмурую погоду?
Валя в милой кофточке, с поднятыми гребнем волосами… Вид благородной девицы. Не ведает: найден дневник Гусельникова. Как отреагирует? Глаза опущены (пишет), но взметнулись ресницы:
– Вы не отдохнули от командировки, Виталий Андреич?
– Почему это я не отдохнул, Валентина Ильинична? – с недавних пор они говорят друг другу мелкие колкости.
– Вид такой…
– …а вам не идёт этот бабушкин гребень.
Её глаза вспыхивают гневными огоньками.
– Срочно в номер! – мах левой рукой над бумагой, продолжая катать правой: ответить некогда.
Ну, и ладно.
В его отделе два одинаковых стола. Тот, что напротив, стимулирует вкалывать не только за себя, но и «за того парня». Бийкин – зав производственно-сельскохозяйственным отделом.
Материал, набранный в Улыме: информации, корреспонденции о работе – на первую и третью; на четвёртую полосу – о культурном отдыхе… Не только по профилю отдела, все берут всё в командировках. «Праздник Труда» – большой репортаж. Пишет в темпе, но аккуратно, готовые материалы откладывает на край стола. Параллельно ведёт телефонные интервью. Работает без интервалов, но, ища слова в окне, невольно глядит на памятник Ильичу, из которого мокрая метель лепит поддельного снеговика.
Наконец, Ленин обтаял, а Бийкин отработался. Наработанное – машинистке. Он не печатает, да и не надо: машинистка – в любой редакции. А творить от руки эффективней: материалы выходят тёплыми, эмоциональными (в рамках газеты). Научная литература уверяет: текст от руки по многим параметрам лучше набранного на клавиатуре.
Довольное возвращение домой, а там – «Книга амбарная», «Воспоминания»… Картонную корку отворяет, как дверь в незнакомую душу. И, будто – с вышки – в глубину непонятной воды: ещё немного и – захлопну! Руки, как у вора, дрожат. Но человек, видимо, на том свете, а его душе, наверняка, наплевать, читает в ней кто или нет? Живому вряд ли бы, понравилось.
И тут в холле – телефон. Вечером – редко. Шаги у двери.
– Виталий Андреевич… – Интеллигентная вахтёр Павловна, сменившая Федуловну.
Кто? Инесса? У них не те отношения, чтобы какие-то звонки. Она ждёт его в кондитерской, где работает кондитером. Валя? Она – да, когда Бийкин днём дома: «Где вы? Дыры в полосах забить нечем». Но лелеет другой вариант: «Это Валя. Мне тоскливо одной, думаю о вашем стихотворении. Не могли бы вы приехать (нет, не так), не мог бы ты…» На лестнице готовит именно для неё интонации…
«Здравствуйте, Виталий Андреич! – В трубке мужской голос, правильный, как у дикторов, конферансье. – Вы читаете мои записи? Я бы не хотел, чтобы вы…»
И гудки…
Да это автор «Воспоминаний»! Лет ему именно двадцать-двадцать пять. Ожидание в холле, но тот не набирает вновь. Но ведь он умер! Именно так: этого парня, молодого, вдруг увольняют (а ведь тотальная нехватка кадров!) и он умирает! Хотя это мнение Валуя, а на деле, наверное, нет связи между какой-то выволочкой и смертью.
Трагедия недавняя, перед двадцатым октября, до Бийкина (ныне шестое февраля).
Но умер ли он?
Как тут не вытащить из памяти некое свидетельство?
Была в редакции небольшая пьянка (впереди седьмое ноября). Бийкин, как стекло, а Муратов накануне отбытия многовато пьёт. Он тогда, отправляясь в более тёплые края, то и дело хохочет. Его хохот никого не радует. Да и сам он, понятно, невесел. И вот они, готовые на выход, тушат свет в кабинете, но яркий уличный фонарь глядит окно.
Опять хохот: «Гусельников-то… ха-ха-ха, где-то неподалёку в другом городе! Был я на Машуре у геологов… Экспедиция в глухом месте. Репортажи даю и в нашу, и в областную… Вечером с ребятами приму спирта, как у них заведено, да – на боковую. Однажды пробудился: светло. Там нет фонарей, – кивает на окно. – Небо яркое, белое от звезд. Ребята дрыхнут, а я гляжу в окно. Думаю: с Валькой расстанусь, это больно. Но не буду видеть Кочнина, Федю и Валуевские снимки… В этом году тринадцатого октября – снегу – горы, мороз. И тут скрип… Ночь, тайга. Геологи говорят: как-то зэки в побеге подлетели вплотную. Ладно, рация исправна, вызывают вертолет. Пойманы те или нет, но труп, вернее, скелет, найден неподалеку. Видимо, друга съели, это у них бывает.
Бийкин вернулся за стол. И Муратов вернулся: «Дверь на щеколде. А в окне – тень человека! И тут же он – к стеклу и глядит!»
Рассказ напоминает «страшные истории» в пионерлагере после отбоя…
«Черты тёмные (контражур), но что я – не узнал бы? Он, Гусельников! Очки наподобие мотоциклетных. И в миг этот краткий (он, явно, знал, где моя койка) – хохот. Немного погодя, – опять мотор, умолкая вдалеке. Именно от его треска я пробудился. На ночь выпил не больше нормы. Утром геологи – картошку с тушёнкой, а я не могу. “Ты что, Акбулатыч, приболел?” Видимо, – говорю, – ночью никакого покоя. Но никто не подтверждает работу какого-то двигателя. Днём – вертолет, и я – домой. Сна нет: жду – явится и – к окну! А квартира-то не на первом этаже! Думал – сойду с ума. Но на днях, как ты знаешь, я опять в командировке на Машуре…»
Бийкин, будто запоминает материал, чтобы обработать для публикации.
«В этот день снега крепкие, один наст. – И Муратов, будто обрабатывает материал. – На Полудённой в Управлении геологоразведки мы с геологами прикидываем: дорогой ехать долго (был бы бензиновый снегокат!) “Тут какой-то тип гоняет на таком. В вагон – с ним, компактный и удобный”. Отлегло у меня: Гусельникова я и, правда, видел, и мотор трещал реально. Отлегло».
Наверное, в городе или в его окрестностях обитает некто, копия Володи, его двойник. Где-то тайно, например, у одинокой бабы… Тут немало из колоний выходцев, некоторые так и живут. А дневник подкинут с непонятной целью, но это в характере экзальтированного предшественника.
Бийкин вздрогнул – грохнуло у окна. Выглядывает: крошево льда на тротуаре.
Я уеду. А скажут – умер.
Скажут – сгинул он без следа.
И на мой телефонный зуммер
не раздастся знакомое «да»…
Далее стих творить не мог, да и читать не мог. Выпить бы какую-нибудь таблетку! У него – никаких. Не болеет. И поправился от коварного недуга без подмоги докторов.
Но и не читая дневник, как бы в поле его притяжения. Одним из пунктов панацеи: не думать о родителях… И не думал, а тут…
Отец Бийкина Андрей Романович, живя в семье до девяти лет, в детдоме – до пятнадцати, плохо помнил своих родителей, бабушку и дедушку его детей. Его отец пропал во время Гражданской войны. Мать куда-то уехала. Андрей учится на рабфаке, работает токарем и пишет для газеты как рабкор. И тогда же сочиняет роман о храбром офицере, который храбро воюет не за красных, а за белых.