Текст книги "Переделкино vs Комарово. Писатели и литературные мифы"
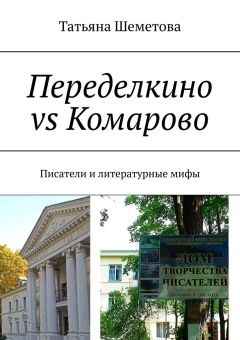
Автор книги: Татьяна Шеметова
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
5. Валентин Катаев: «кот», человекодятел» и другие мифологемы

Дача В. Катаева. Выставка фотографий. На фото В. Катаев и Б. Ахмадулина
Валентин Катаев – один из виднейших советских писателей, не избежавший соблазнов сталинской эпохи. Неслучайно экскурсоводы в Переделкине обычно противопоставляют «доброго дедушку Корнея Чуковского» «цинику» и «нахалу» Катаеву, занявшему дачу находившегося в заграничной командировке И. Эренбурга. Катаев и сам не отрицал подобного рода мифологизации, даже акцентировал эти черты в образе своего повествователя. Например, в повести «Кубик» (1968) он пишет:
«По природе я робок, хотя и слыву нахалом. В глубине души я трус. Я еще, как некогда сказал о себе Чехов, не выдавил из себя раба. Я даже боюсь начальства».
Известен апокрифический сюжет о том, что, поприветствовав Катаева во время прогулки по аллее «мрачных классиков», Чуковский уточнил, что поздоровался не с писателем, а с его собакой. Возникает мифологическая оппозиция «Чуковский/Катаев» как «нонконформист/конформист». Из интервью с Натальей Ивановой на сайте «Горький Медиа» можно извлечь третий элемент мифологемы, в которой Чуковский выглядит скорее медиатором, «полуконформистом»:
«Мовизм» vs социалистический реализм«Любопытно, что открытый и убежденный конформист Катаев жил на даче рядом с Корнеем Чуковским, внешне – лукавым конформистом, а в дневнике – последовательно независимым (в прямом смысле этого слова), с дочерью Лидией, диссиденткой».
Как и старший коллега Корней Чуковский, Катаев становится переделкинским сказочником, скорее подростковым, чем детским. Он вводит в текст автобиографический мотив: рассказывает о «Шакале» и «Гиене» (ласковое наименование собственных детей, которые напоминают «мальчика» и «девочку» – лейтмотивных автобиографических героев повести «Кубик») – и внучке Валентиночке. Интимизируя свой тест, подобно Чуковскому, который в «Бибигоне» упоминал имена своих внучек, Катаев добивается эффекта максимальной искренности.
В этом стремлении он идёт дальше «лукавого» сказочника Чуковского и осмеливается быть писателем для взрослых – примеривает на себя мандельштамовский образ «четвертого чёрта в цвету» и через всю сталинскую эпоху проносит бунинский урок экономного и правдивого слова.
«Играй же, на разрыв аорты, с кошачьей головой во рту, – три чёрта было – ты четвертый: последний чудный чёрт в цвету».
Этими стихами Мандельштама, записанными в поздней катаевской манере прозой, заканчивается повесть «Трава забвения». С другой стороны, ловко лавируя между Сциллой и Харибдой – советской властью и формирующимся общественным мнением, Катаев стал одним из «пламенных певцов» советского государства, что видно в поэтике заглавий его романов и повестей 1930-50-х годов: «Время, вперёд», «Я, сын трудового народа», «За власть Советов» и др.
В периоды «оттепели» и «застоя», уже не столь кровожадные, как сталинское время, Катаев написал несколько произведений, которые вернули ему утраченную репутацию творца и художника. Среди них выделим повести «Святой колодец», «Трава забвения», «Уже написан Вертер», в которых присутствует мифологема Переделкино. Эти произведения написаны новым «мовистским» стилем.
«Мовизм» – авторская мифология Катаева: якобы «плохая проза» – это поэтическая проза с метафизическим сюжетом, «симфоническая», музыкальная. Исследователь К. Поздняков назвал «мовизм» Катаева возвращением к его раннему, досоветскому стилю, поэтому Катаев последних лет жизни поразил читателей молодой мощью и свежестью своего дара. В отличие от «Сдачи и гибели советского интеллигента» (как обозначил жизненную стратегию Юрия Олеши А. Белинков), Катаев хотя и выбрал «сдачу» (невольный каламбур с «дачей» в Переделкино), но совместил её с процветанием, а впоследствии и «возрождением из пепла».
Неслучайно в первой из «мовистских» повестей «Святой колодец» (1966) все персонажи, проходящие перед взглядом автора и читателя, слегка «обгоревшие», как бы прошедшие через адское пламя или вынутые из полуобгоревшей рукописи.
«Мовистcкие» повести Катаева, являясь переделкинскими текстами, лишь изредка пересекаются с переделкинским мифом, но зато творят заново личный биографический миф Катаева. Это способствовало возрождению интереса к жизненной стратегии писателя, о чём говорит обилие художественных биографий Катаева, появившихся в новом тысячелетии.
В образе «святого колодца» интересна изначальная вертикаль: «святость» бьёт из-под земли, выходя на поверхность тонкой вьющейся струйкой воды, в которой неизвестный старик из повести Катаева моет пустые разноцветные бутылки. Мешок, из которого он достаёт нескончаемые бутылки, кажется рассказчику и его жене «прорвой времени», «вечностью».
Грубая проза жизни оборачивается в тексте яркой сказкой, «прозопоэзией»: старики множатся, второй старик, похожий на китайца, стоит на горбатом мостике над тем же ручьем. Мостик со своим отражением превращается в вензель – букву «О». Текст входит в жизнь, а жизнь входит текст, а точкой пресечения – «о» – это ещё и нуль – является все подмечающий и превращающий в искусство авторский взгляд. Третий старик удаляется, неся на коромыслах две плетёных корзины, которые делают его похожим на весы. Станция Переделкино качается на весах времени и пространства, оборачиваясь то китайским Куньминем, то неизвестным городком в Западной Европе:
«Слишком большое количество стариков китайцев слегка нас встревожило – в особенности встревожил человек-весы, – и мы поспешили покинуть эту прелестную местность, напоминавшую окрестности Куньминя, города вечной весны, и переселиться в другое место, быть может, куда-то в Западную Европу».
Повесть рисует инобытие писателя и его жены – катаевскую версию того места, куда попали после смерти булгаковские мастер и Маргарита. Указание на железную дорогу, станцию «Переделкино» и даже станционный магазин, куда единый в трёх лицах старик-«китаец» будет сдавать вымытые бутылки (яркая деталь советского времени), позволяет и последующие образы («пряничного домика», цветущего сада вокруг него) прочитывать как «переделкинский текст».
Гиперболический «конский каштан», который был в «пять раз выше дома», заставляет вспомнить, что Катаев был не только автором идеологических романов, но и автором сказки «Цветик-семицветик» и незабываемых героев детской литературы Пети и Гаврика из повести «Белеет парус одинокий» (1936), «эквивалентов» которым, как считают Владимир и Ольга Новиковы, последующая литература не предложила.
Тем не менее Катаев окунулся в идеологическое море очень глубоко. По этой причине понятия «цинизм» и «Катаев» для многих создателей переделкинского мифа синонимичны. Вместе с тем особый идеологический язык, который создал Катаев для своих произведений 1930-50-х годов, сродни чужому, «китайскому» языку, на котором вынужден говорить писатель ради спасения жизни.
«Китайский» мотив есть и в повести «Трава забвения» (1967): на одесском рынке времен юности Катаева среди стариков-китайцев, торгующих барахлом, сухощавый «старик» Бунин в профессорской ермолке ходит с записной книжкой и, не стесняясь окружающих, записывает увиденное чётким почерком, который Катаев несколько раз называет «клинописью», подчеркивая остроту, «древность» (символ уходящей эпохи) и «вечность» стиля своего учителя.
«Трава», как и «родник», «источник», – это жизненная горизонталь, обыденный мир, котором катаевское «божество» Бунин учит его видеть поэзию. Неслучайно бунинские поэтические строки (как и все другие стихи) Катаев цитирует в «Траве забвения» без графического выделения строфы, как прозу. Записанные прозой стихи звучат по– новому, более весомо и мужественно.
Без обиняков он пишет о том, что Бунин заметил его «волчьи уши» – к тому же «волчьи уши» патриарха Катаев заметил ещё раньше. Подчёркивая «живучесть» юноши, Вера Николаевна Муромцева, жена Бунина, говорила, что Катаев «сделан из конины».
Чёрт и кошачья головаПовесть «Трава забвения» заканчивается цитатой из знаменитого стихотворения Мандельштама о «четвёртом чёрте», играющем свою музыку с «кошачьей головой во рту». Понятно, что поэт имел в виду «головку» скрипки в виде животного, но от этого образ не становится менее шокирующим. Этот отталкивающий образ всепобеждающей силы искусства особенно важен для Катаева, поскольку «животная», витальная природа искусства является лейтмотивом его мовистской прозы.
В повести «Святой колодец» некий кавказский гостеприимный хозяин развлекал гостей, заталкивая пальцы в пасть кота и нажимая особым образом ему на уши, в результате чего животное изрыгало подобия человеческих слов. Затем хозяин небрежно смахивал кота на пол, после чего животное «с улыбкой отвращения медленно удалялось восвояси». Насилие над котом было одним из повторяющихся ночных кошмаров повествователя. По всей видимости, это одна из самых жутких аллегорий подневольного писательского труда в литературе ХХ в. Катаев, чья фамилия созвучна «коту», не мог не чувствовать себя немного таким существом, изрыгающим чуждые своей природе звуки.
В повести «Уже написан Вертер» (1979), озаглавленной строчкой из стихотворения Пастернака «Разрыв», опять появляется образ старика, но теперь это уже сам повествователь, через несобственно-прямую речь которого показаны дальнейшие события. Переделкинский миф играет роль композиционной рамки повести. Экспозиция – спокойная дачная станция, где неизвестный (чёрт, альтер эго?) подначивает старика перейти через железнодорожное полотно на противоположную сторону, не дожидаясь отхода поезда, через сквозной тамбур вагона. Перейдя через эту дверь, оказавшуюся «машиной времени», перенесшей его в прошлое, во времена Гражданской войны, старик вновь превращается в юношу, который чудом избежал расстрела в одесском отделе ЧК.
Благодаря поэтическому заглавию история любви юноши-художника Димы и «женщины-сексота» Инги (лейтмотивный образ мовистских повестей – «девушка из совпартшколы») может быть прочитана на фоне пастернаковского оксюморона об «ангеле залгавшемся» из стихотворения «Разрыв» (1919):
Я не держу. Иди, благотвори.
Ступай к другим. Уже написан Вертер,
А в наши дни и воздух пахнет смертью:
Открыть окно – что жилы отворить.
Но все же финальной строкой повести становятся не стихи о любви, а строки из поэмы Пастернака «Лейтенант Шмидт» о «мучениках догмата» – «жертвах века». Больной старик, только что побывавший в аду своей памяти – избежавший расстрела и целовавший мёртвую мать – отодвигает занавеску солнечным переделкинским утром, любуется «жарким солнцем и хвоей», но вместе с тем испытывает боль: физическую – в колене и нравственную, которая возвращает ему жизнь.
Таким образом, на примере мовистских повестей Катаева «Святой колодец», «Трава забвения», «Уже написан Вертер» мы убедились, что переделкинский топос мифологизируется Катаевым и встраивается в обновленный в конце жизни автобиографический миф.
Катаевский биографический миф строится как история о талантливом юноше, которого «заметил» и «благословил» «старик» Бунин. Далее этот юноша проходит ряд испытаний, но, убоявшись судьбы, говоря словами Мандельштама, «кровавых костей в колесе», становится двойником ненавистного ему «человекодятла с костяным носом стерляди», который умеет вставать на хвост. Этот двойник отвратителен повествователю, но чувство настоящего ужаса у него вызывает образ другого «двойника» – говорящего кота из «Святого колодца». Если человекодятел – это образ самодовольного приспособленца, то говорящий кот – образ насилия над природой живого существа; власть предержащих – над писателем. Избегая второго, герой рискует превратиться в первое.
Став стариком, герой автомифа обретает утерянный язык, дает ему новое имя («мовизм») и этим новым языком переписывает свою жизнь, как текст. Подобно Данте, он начинает с «Ада», но и «Рай» в этих текстах присутствует постоянно. Рай – это свобода говорить на вновь обретенном языке.
«Переделкинский текст» играет роль Чистилища – пограничного топоса, который все же ближе к Раю. В финале «Травы забвения» постаревшая Вера Муромцева приносит повествователю бунинскую латунную чашку, которая в юности казалась ему символом творчества. Ту самую «чашу отцов», которой лишился Мандельштам в схватке с «веком-волкодавом». Она же – тютчевская «чаша богов», из которой пьют те, кто «посетил сей мир в его минуты роковые».
6. Заболоцкий и его «собеседник сердца»
Совсем иначе сложилась судьба Николая Заболоцкого, который наездами жил в Переделкине после своего возвращения из сталинских лагерей. Сначала ему давали приют писатели, которые имели там дачи, например, В. Ильенков, чья дача была на нынешней территории Дома творчества, или В. Каверин, живший на улице Горького. Наконец в 1948 году он получил квартиру в Москве и в начале 50-х годов приезжал в Переделкино летом в качестве дачника-арендатора. Так он стал соседом Пастернака, и между ними возникло нечто вроде дружбы.
«Провинциальный бухгалтер»Е. Евтушенко, знакомый Заболоцкого по Переделкину, писал в антологии «Строфы века», что ушедший в сравнительно молодом возрасте (55 лет) Заболоцкий казался ему намного старше своих лет из-за старомодных манер «провинциального бухгалтера» и особенно из-за всего сделанного им для поэзии: от модернистских «Столбцов» до перевода «Слова о полку Игореве» и последних сборников, приближающихся по чистоте и прозрачности слога к пушкинским. Напротив, Пастернак казался современникам намного младше своего возраста и выше своего среднего роста. По свидетельству Чуковского, до последнего года своей жизни (70 лет) Пастернак выглядел моложавым и бодрым.
Сложность отношений двух поэтов, воспевших природу Переделкина, состояла в том, что они смотрели на мир совершенно по-разному. Заболоцкий, будучи в юности новатором и пострадав из-за этого, не признавал модернистских стихов Пастернака, отдавая предпочтение его поздней манере. Пастернак сам неоднократно отзывался о своих ранних стихах похожим образом, но всё же стиль Заболоцкого был ему неблизок. Об этом можно судить по дневниковым записям З. Масленниковой, которая передаёт слова Пастернака о Заболоцком:
«Есть какие-то очень близкие мне люди, с которыми я встречаюсь регулярно, но не часто, а друзьями дома стали люди, которых я вовсе не люблю больше, чем других, скорее по привычке. Так было и с Заболоцким, мы виделись три-четыре раза с большими промежутками. Я очень ценю его отношение к моим стихам. Он не признавал всего, что мною написано до „На ранних поездах“. Когда он тут читал свои стихи, мне показалось, что он развесил по стенам множество картин в рамах, и они не исчезли, остались висеть»
В этом же разговоре Пастернак отрицает сходство поэзии Заболоцкого со своей. Это видно и по приведённому отрывку из монолога старшего поэта: стихи Заболоцкого похожи на застывшие картины, которые статично висят стенах даже после ухода их автора. Это амбивалентная оценка. С одной стороны, сын художника Борис Пастернак признаёт искусство Заболоцкого, но, с другой – для него самого подлинная поэзия – это живой поток мыслей и чувств, который невозможно остановить.
Заболоцкий статичен, Пастернак динамичен. Лирическое «я» Заболоцкого прячется за нарисованной объективной картиной. Стихи Пастернака максимально субъективны: у него интимно-личные отношения с берёзой, новогодней ёлкой, даже с зимой, которая в одном из стихотворений цикла «Переделкино» «уставилась» на героя. При этом природа – главная тема в позднем творчестве обоих писателей, но восприятие и отражение природных образов совершенно разное.
«Юноша с седою головою»Попытаемся доказать этот тезис на примере стихотворения «Поэт» (1953) Николая Заболоцкого. Стихотворение делится на две части: в первой – пейзаж, во второй – портрет поэта. Первые два четверостишия с перекрёстной рифмовкой изображают дачу Пастернака, окна которой выходили на поле с кладбищенским лесом за ним:
Черен бор за этим старым домом,
Перед домом – поле да овсы.
В нежном небе серебристым комом
Облако невиданной красы.
По бокам туманно-лиловато,
Посредине грозно и светло, —
Медленно плывущее куда-то
Раненого лебедя крыло.
Классический хорей с «богатой» рифмой делает текст похожим на произведения XIX века: Боратынского или Тютчева. В ХХ веке подобный стиль выглядит устаревшим, но именно он совпадал со вкусом «главного критика» – Сталина. «Социалистический классицизм» – так назвал этот стиль А. Синявский в статье «Что такое социалистический реализм?». Точные рифмы: «домом» – «комом», «овсы» – «красы» – не дают возможности поверить, что перед нами стихотворение одного из самых ярких экспериментаторов 20-х годов, который мог, например, зарифмовать «тазик» – «безобразий» или «мамка» – «полигамка»:
Кто, чернец, покинув печку,
Лезет в ванну или тазик —
Приходи купаться в речку,
Отступись от безобразий! <…>
<…> О река, невеста, мамка,
Всех вместившая на лоне,
Ты не девка-полигамка,
Но святая на иконе!
Заболоцкий, «Купальщики», 1928
Тем не менее, эти поэтические пейзажи созданы одним автором, и если пейзаж 1953 года могли написать многие поэты XIX века или 50-60-х годов ХХ века, то пейзаж 1928 года – неповторимый стиль раннего Заболоцкого, одного из основателей ОБЭРИУ.
Советизированную «гладкопись» стихотворения 1953 г. нарушает метафора облака – «серебристого кома», заставляющего вспомнить есенинский «ненужный ком», в который превращаются «грустные слова» лирического героя стихотворения «Отговорила роща золотая…» (1924). Сочетание эпитетов «грозно и светло», помимо аллюзии к пушкинским строкам («грустно и легко/Печаль моя светла»), вызывает религиозные ассоциации. Здесь точка пересечения двух пейзажей: в стихотворении 1928 года река сравнивается со «святой на иконе», в стихотворении 1953 года туманно-лиловое облако – с грозным, но справедливым божеством.
Во второй части «Поэта» Заболоцкий создаёт узнаваемый портрет Пастернака:
А внизу на стареньком балконе —
Юноша с седою головой,
Как портрет в старинном медальоне
Из цветов ромашки полевой.
Для автора важно, что поэт находится как бы между небом и землёй, на стареньком балконе своей переделкинской дачи. Уменьшительно-ласкательный суффикс эпитета «старенький» наряду с «раненым лебедем» в предыдущей строфе придают стихотворению сентиментальный оттенок. Об этом же говорит сравнение облика поэта с портретом в старинном медальоне. Чрезмерный для того времени «аристократизм» этого сравнения Заболоцкий снижает сравнением седовласого поэта с «демократичной» «ромашкой полевой».
Но главная узнаваемая деталь в портрете Пастернака – оксюморонное сочетание «юноша с седою головой», которое заставляет вспомнить стихотворение А. Ахматовой с одноименным на– званием и тоже посвящённое не обобщенному поэту, а Пастернаку как воплощению поэзии:
Он, сам себя сравнивший с конским глазом,
Косится, смотрит, видит, узнает,
И вот уже расплавленным алмазом
Сияют лужи, изнывает лед.
<…> Он награжден каким-то вечным детством,
Той щедростью и зоркостью светил,
И вся земля была его наследством,
А он ее со всеми разделил.
Ахматова «Поэт», 1936
«Вечное детство» свойственно Пастернаку и в 63 года: именно в этом возрасте был поэт, когда Заболоцкий назвал его седым юношей. Любопытно также упоминание Ахматовой и Заболоцким о косящих («конских») глазах поэта, смотрящих как бы мимо собеседника, но при этом наделённых особой «зоркостью светил». Ахматова в приведённом выше стихотворении апеллирует к юношескому автопортрету Пастернака:
Как конский глаз, с подушек, жаркий, искоса
Гляжу, страшась бессонницы огромной.
Пастернак «Мне в сумерки ты всё – пансионеркою…», 1919
В четвёртой строфе стихотворения Заболоцкого Пастернак предстаёт уже не портретом, а памятником самому себе, об этом говорит эпитет «выкованный», который заставляет вспомнить мифологему памятника в стихах Есенина: «И в бронзе выкованной славы/Трясёшь ты гордой головой» («Пушкину», 1925).
Щурит он глаза свои косые,
Подмосковным солнышком согрет, —
Выкованный грозами России
Собеседник сердца и поэт.
Здесь Заболоцкий не идёт против правды: Пастернак не был постоянным собеседником автора, но он, как и каждый любитель поэзии, может считать его «собеседником сердца».
Последнее четверостишие служит гиперболизированным, величественным образом советской России, что можно считать отличительной особенностью «социалистического классицизма» – основного художественного метода поздней сталинской эпохи:
А леса, как ночь, стоят за домом,
А овсы, как бешеные, прут…
То, что было раньше незнакомым,
Близким сердцу делается тут.
Вместе с тем Заболоцкий описывает вполне конкретный пейзаж Переделкина, который он мог знать по стихам Пастернака ещё до возвращения из лагерей. Вспомним, что автор «Колымских рас– сказов» В. Шаламов читал стихи Пастернака и переписывался с ним, находясь в ссылке. Само присутствие Пастернака в литературе было надеждой на спасение от всеобщей лжи – в письме к нему по поводу романа «Доктор Живаго» Шаламов называет поэта совестью нации.
Похожая ситуация могла сложиться и с Заболоцким, который с юности знал, но отрицал ценность поэзии Пастернака из-за боязни влияния. В случае верности последнего предположения стихотворение Заболоцкого «Поэт» оказывается произведением, написанным эзоповым языком. Внешний слой с «ромашками», «солнышком» и «раненым лебедем» – стилистика позднесталинского патриотизма. Внутренний слой – погружение в пастернаковский мир, пересказ переделкинского мифа «юноши с седою головой», но через оптику выдающегося «провинциального бухгалтера».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































