Текст книги "Переделкино vs Комарово. Писатели и литературные мифы"
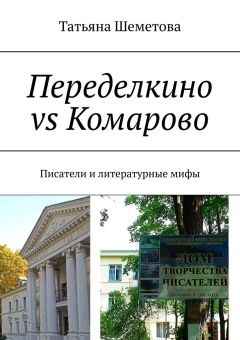
Автор книги: Татьяна Шеметова
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
***
Подытожим наши размышления. Параллельное рассмотрение переделкинских текстов С. Липкина и А. Ерёменко дало возможность увидеть как сходства, так и различия произведений. Оба они занимаются переделкинским мифом: первый – мифотворчеством, второй – мифоборчеством, которые похожи, как вдох и выдох, т.е. помогают сохранить культурную ценность литературного мифа, вдохнуть в него новую жизнь.
В стихотворении «Вячеславу. Жизнь переделкинская» Липкин сопоставляет Переделкино с державинской Званкой: изначальная державинская идиллия, хотя и присутствует, но совмещена с чувством изгойства лирического героя, поскольку участие в неподцензурном альманахе «Метрополь» сделало его диссидентом. Переделкино в изображении Липкина предстаёт точкой пересечения противоположных сил: карающего государства и человеческой дружбы с насельниками городка писателей. Среди последних есть общепризнанные гении, общение с которыми придаёт высокий смысл существованию лирического героя. Он чувствует себя непобежденным, хотя, по собственному признанию, не всегда вел себя героически. Сцены духовного противоборства Заболоцкого и Пастернака с Голиафом государственной машины придают стихотворению сходство с жанром баллады.
За центонным метареализмом стихотворения Ерёменко «Переделкино» мы попытались увидеть автобиографический сюжет, встраиваемый в канву переделкинского мифа. Как и у Липкина, название стихотворения играет содержательную роль. Благодаря ему читатель понимает, что «гальванопластика лесов» – это наиболее характерный для Переделкина пейзаж, постмодернистская версия пейзажа из баллады Липкина. Как и у старшего поэта, главным героем стихотворения становится Пастернак: если у Липкина ему посвящено больше строф, то у Ерёменко – больше аллюзий к его жизни и творчеству.
И старший, и младший поэты ощущают себя в Переделкине изгоями, не соответствующими высокому социальному статусу нынешних насельников. Но оба чувствуют максимальное родство с гениями места: старший поэт был с ними лично знаком и дружил; младший настолько виртуозно владеет техникой цитирования, что создает из «присвоенных» цитат новый текст высокой художественной ценности, используя чужие строки, как ноты для новой музыки.
8. «Эпикурейцы» и «стоики» переделкинского мифа
В переделкинском мифе есть ряд фигур, которые располагаются не в центре, но и не на дальней периферии основного сюжета (о взаимоотношениях писателей-насельников с государством и друг с другом). Две фигуры, Анна Ахматова и Борис Пильняк, имеют отношение к первому этапу формирования мифа – созданию поселка и последующим репрессиям в отношении писателей. На гибель Пильняка откликнулась Ахматова, которая бывала на его переделкинской даче и дружила с ним. Две другие крупные фигуры, Ахмадулина и Евтушенко, выдвинулись на первый план в постсталинский, оттепельный и застойный периоды, когда они жили в Переделкине.
Для характеристики двух разных стратегий проживания переделкинского мифа обратимся к жизненным и поэтическим оппозициям: Ахматова/Пильняк и Ахмадулина/Евтушенко. По нашему предположению, первый член оппозиции представляет стратегию стоического преодоления выпавших на его долю испытаний, а второй – эпикурейского стремления к равновесию в вопросах физических, умственных и духовных наслаждений. Названия философских систем – стоицизм и эпикуреизм – мы используем как своеобразные архетипы, для обозначения общности человеческих и отчасти писательских стратегий.
Борис Пильняк – «попутчик», «шваб», «враг народа»В постреволюционные времена, когда начинал формироваться принцип «Кто не с нами, тот против нас», оставаться «попутчиком» – писателем, с симпатией относящимся к революции, но не подчиняющим безоговорочно творчество политике, становилось опасно. Тем не менее Борис Пильняк активно включился в борьбу с фанатиками революции, подписав письмо в ЦК партии от писателей-попутчиков.
Характерен выбор псевдонима «Пильняк» немцем-полукровкой Борисом Вогау: очевидно, что имеет место та же тенденция, что у Алексея Пешкова и Ефима Придворова (Максима Горького и Демьяна Бедного соответственно). Пильняками назывались жители деревень, расположенных возле лесных разработок. Символическое, революционное значение псевдонима подтверждается написанием повести «Красное дерево» (1929), где заглавие – предметно-чувственная метафора русской революции, которую Пильняк изображает странной, «чудаковатой», но бесценной и оправданной.
Характеризуя модернистскую, орнаментальную прозу Бориса Пильняка, Замятин писал:
«У Пильняка никогда не бывает каркаса, у него – сюжеты – пока еще простейшего, беспозвоночного типа, его повесть или роман, как дождевого червя, всегда можно разрезать на куски – и каждый кусок, без особого огорчения, поползет своей дорогой».
В этом ироничном взгляде критика, ставшего впоследствии другом Пильняка, хочется обратить внимание на значимую деталь: земной, живучий «разрезанный червяк» пильняковской прозы поползёт «без особого огорчения», то есть независимо, без оглядки на критику и «своей дорогой». Впоследствии Замятин даст более подробную и высокую характеристику художественного метода Пильняка, рисуя её как своеобразный продукт московской почвы:
«Москва за эти годы, когда там звонко пел Есенин и великолепно рычал Маяковский, вырастила только одного нового и оригинального прозаика – Пильняка, и надо сказать, что это был типичный продукт московской почвы. Если у большинства петербургских молодых прозаиков мы найдем по-мужски крепкий, с инженерной точностью построенный сюжет, то у Пильняка сюжетный план всегда так же неясен и запутан, как план самой Москвы. Если у „Серапионовых братьев“ есть родство с акмеистами, то в пестрых вышивках прозы Пильняка мы узнаем мотивы имажинизма – вплоть до его своеобразного нового „славянофильства“ и веры в мессианские задачи новой России».
В обобщенных «петербурских прозаиках» узнаётся художественный метод самого Замятина – «по-мужски крепкий, с инженерной точностью построенный сюжет» романа «Мы». Противопоставляя себя Пильняку, Замятин тем не менее пишет о нем с большой симпатией, а к концу синтаксического периода – даже с восхищением. Действительно, с разных стилистических позиций «Мы» и «Повесть непогашенной луны» говорили об одном и том же: об опасности бесконтрольной власти государственной машины.
Фигура Замятина выступает своеобразным позитивистским медиатором между «эпикуреизмом» Пильняка, любующегося кровавой и прекрасной революцией и «стоицизмом» Ахматовой, воспринимающей революцию и её последствия как величайшую трагедию. Приведём пример революционного «эпикуреизма» Пильняка в романе «Голый год» (1920):
«Там, за тысячу верст, в Москве, огромный жернов революции смолол Ильинку, и Китай выполз с Ильинки <…> Днем в Москве, в Китай-Городе, жонглировал котелок, во фраке и с портфелем – и ночью его сменял: Китай, Небесная империя, что лежит за Великой Каменной стеной, без котелка, с пуговицами глаз. – Так что же, – ужели Китай теперь сменит себя на котелок во фраке и с портфелем?! – не третий ли идет на смену, тот, что —
– Могéт энегрично фукцировать!
Метель. Март. – Ах, какая метель, когда ветер ест снег! Шоояя, шо-ояя, шоооояя!.. Гвииу, гваау, гааау… гвиииуу, гвииииууу… Гу-ву-зз!.. Гу-ву-зз!.. Гла-вбум!.. Гла-вбумм!.. Шоояя, гви-иуу, гаауу! Гла– вбумм!! Гу-вуз!! Ах, какая метель! Как метельно!.. Как – хо-ро-шо!..»
Картины гибели людей у Пильняка не выглядят жутко и уродливо: это экспрессивная стенограмма великого исторического процесса. В центре её – полуграмотный большевик, который «могет энегрично фукцировать» во славу метели и революции. Именно он идет в Кремль, чтобы стать новой властью. Это не пугает повествователя, он как художник любуется разыгравшейся стихией. Этот размашистый и вольготный «эпикурейский» стиль был, по всей видимости, свойственен Пильняку не только в творчестве, но и жизни. Будучи в 20-е годы самым публикуемым советским писателем, объехав поло– вину мира, он становится одним из первых насельников сталинского Переделкина.
Понаблюдаем, как выглядит его литературный портрет в рассмотренном выше переделкинском тексте С. Липкина «Вячеславу. Жизнь переделкинская».
<…> Здесь, прячась куколкою в кокон,
Пильняк, сей шваб и баб любитель, самохвал,
Смотрел на пруд из верхних окон:
«Царила в страховой компании семья.
Любимец тетки-лютеранки,
Поверьте рыжему вралю, что вырос я
В том самом доме на Лубянке».
Как в рыбьей чешуе – в японской шубе, франт,
Актер – и вдруг художник зрячий…
Дружил, ценя его неряшливый талант,
С ним Пастернак, сосед по даче.
Сюда заявятся порою книжный крот
Или славистка из Канады,
Но здесь теперь певец угрозыска живет
И лает мопс из-за ограды.
Кто вспомнит, кроме них, – офени-чудака
И старой стройной иностранки, —
Как взяли, а потом убили Пильняка
В том самом доме на Лубянке.
Тогда-то Пастернак переменил жилье
И с вами повелось соседство <…>
В духе лиро-эпического жанра баллады Липкин даёт слово персонажу – «рыжему вралю» Пильняку, который рассказывает вымышленную историю о детстве, проведённом в страшном и мистическом «доме на Лубянке» в доме «тётки-лютеранки». Этот автомифологический сюжет Пильняка напоминает анекдот, который в 1930– годы рассказывали смельчаки:
«Житель Москвы гуляет по городу с приехавшим в гости провинциалом, показывает достопримечательности: «Вот это – бывшее здание Московской городской думы, сейчас здесь Центральный музей Владимира Ленина. Это – аптека №1 на Никольской улице, бывшая аптека Владимира Феррейна. А вон в том доме раньше было страховое общество
«Россия». «Сейчас тут, наверное, Госстрах?» «Нет… Госужас»».
Мрачная ирония судьбы заключается в том, что, несмотря на заигрывание «любимца тётки-лютеранки» с «Госужасом» советской власти, он был просто и грубо «взят и убит» ею. Эта лапидарность судьбы отражена в кольцевой композиции, в которую заключена история Пильняка в стихотворении Липкина: она начинается и заканчивается изображением мифологизированного «здания на Лубянке» – здания управления государственной безопасности, руководимого «железным наркомом» Ежовым.
Контрастная характеристика личности Пильняка складывается из фамильярного (в духе прозы самого объекта описания) и прямого (без поиска эвфемизмов) слова: «сей шваб» (немец), «баб любитель, самохвал», «рыжий враль», «франт, актёр» – с одной стороны; с другой же – «художник зрячий», друг Пастернака.
Интересны и две взаимодополняющие характеристики творчества Пильняка: оксюморонное сочетание «неряшливый талант» и яркая метафора «прячась куколкою в кокон». Первая, о неряшливости таланта, совпадает с оценкой Замятина, приведённой нами выше: в прозе Пильняка разбросаны яркие образы, не собранные в единый непротиворечивый сюжет. Вторая многозначнее: «куколка», прячущаяся в кокон (которая в качестве насекомого может напомнить замятинское сравнение прозы Пильняка с расчлененным червяком, спокойно расползающимся в разные стороны), но в ней уже заложена красота и нереализованная возможность творческого полёта. Это хрупкая бабочка таланта, которая «прячется» от железного века в ненадежный кокон.
В стихотворении Липкина Пильняк смотрит на Самаринский пруд из верхних окон своей переделкинской дачи. Именно отсюда его заберут в тюрьму, а Пастернак увидит арест друга из своего дома, расположенного рядом, и больше не сможет там жить.
Сын «певца угрозыска» Павла Нилина, который проведет на бывшей даче Пильняка большую часть жизни, в интервью скажет, что имя Пильняка в детстве ассоциировалось не с ужасом расправы над писателем, а с красотой и праздничностью его дома, особенно сохранившегося изящного потолка – такого он не видел ни у кого.
Мифологема «утаенной любви»В год ареста и расстрела Пильняка Анна Ахматова написала стихотворение, посвящённое его памяти. Убитый писатель предстает в нём веселым, беззаботным, в ореоле солнечного света:
Всё это разгадаешь ты один…
Когда бессонный мрак вокруг клокочет,
Тот солнечный, тот ландышевый клин
Врывается во тьму декабрьской ночи.
И по тропинке я к тебе иду,
И ты смеешься беззаботным смехом <…>
Героиня вспоминает летнюю встречу на переделкинской даче Пильняка: тропинку к дому, «ландышевый клин» возле него, дорогу к Самаринскому пруду через «хвойный лес» и камыши у воды. Контрастом к этой наполненной простыми человеческими радостями картине выступает мрачное настоящее: клокотанье «бессонного мрака» декабрьской ночи, странное и страшное эхо, которое отвечает беззаботному смеху Пильняка:
Но хвойный лес и камыши в пруду
Ответствуют каким-то странным эхом…
О, если этим мертвого бужу,
Прости меня, я не могу иначе <…>
Становится понятно, что первая строка стихотворения – это реплика из незаконченного диалога близких людей, но обращена она к мёртвому, с потерей которого невозможно смириться. Героиня стоически преодолевает эту невыносимую боль:
Я о тебе, как о своем, тужу
И каждому завидую, кто плачет,
Кто может плакать в этот страшный час
О тех, кто там лежит на дне оврага…
Но выкипела, не дойдя до глаз,
Глаза мои не освежила влага.
Лирическая героиня не бунтует против жестоких законов общества, из-за которых любимые ею люди лежат на дне оврага. Такова философия стоиков: если человек не может повлиять на события, то он может над ними возвыситься, преодолеть их внутри себя. Именно это происходит с героиней: в глубине её души, как на дне оврага, выкипели слезы и не могут выйти наружу, чтобы облегчить мучительную душевную боль. Строгое и стройное стихотворение побеждает душевную слабость героини и помогает возвыситься над уродливым социальным устройством.
Схожее чувство испепеляющей душевной боли, которую необходимо побороть в одиночку, изображено в стихотворении Беллы Ахмадулиной «О, мой застенчивый герой…» (1960). Как и стихотворение Ахматовой, это произведение начинается с обращения к возлюбленному и повествует о смерти, но не человека, а самого чувства любви: высокая трагедия, разыгрываемая в душе героини, обернулась фарсом обыденной жизни.
О, мой застенчивый герой,
ты ловко избежал позора.
Как долго я играла роль,
не опираясь на партнера!
Смысл стоицизма – в преодолении стыда, слабости, а значит, и душевных страданий, порождаемых этими ощущениями. Лирическая героиня ясно и трезво представляет свою роль, сходную с ролью «голого короля» из сказки Андерсена или с ролью французской королевы Марии-Антуанетты, ведомой на казнь жестокой толпой:
Но в этом сраме и бреду
я шла пред публикой жестокой —
все на беду, все на виду,
все в этой роли одинокой.
По мнению стоиков, контролируя свои представления, люди могут добиться ясности ума. Достигнув предельно ясного представления о своей унизительной роли в истории мнимой любви, героиня находит точные до грубости слова, не свойственные поэтике Ахмадулиной в целом: «гоготал партер», «жадно шли твои стада».
Интимное местоимение «ты», обращённое к любимому человеку в начале стихотворения, обращено теперь к «хохочущему сброду» (выражение Есенина). Как и героиня Ахматовой, переполнившись чувством невыносимой боли, лирическая героиня Ахмадулиной обретает творческую волю и осознает себя не как униженную нелюбовью женщину, а как «героя», способного в одиночку выдержать испытание неразделённым чувством:
Но опрометчивой толпе
герой действительный не виден.
Герой, как боязно тебе!
Не бойся, я тебя не выдам.
В этих строках осознание подлинной расстановки сил в треугольнике «герой-героиня-толпа» становится инструментом для достижения самообладания и мудрости. Героиня понимает: жизнь – это цепь испытаний, и единственный способ их преодоления – стойкость, невозмутимость.
Последняя строфа стихотворения максимально экономна с точки зрения художественных средств, и лишь лексический повтор в конце выглядит, как просьба о пощаде, обращенная к высшим силам. Однако отсутствие восклицательных знаков, которые были в предыдущих строфах, свидетельствует о том, что гневная эмоция, которая стала толчком к написанию произведения осилена и сменилась возвышенным смирением:
Вся наша роль – моя лишь роль.
Я проиграла в ней жестоко.
Вся наша боль – моя лишь боль.
Но сколько боли. Сколько. Сколько.
Стоики полагали, что, укрепляя себя упорным воспитанием стойкости, человек может обрести мудрость и даже величие. Именно такой предстаёт лирическая героиня дальнейших стихов Ахмадулиной – смиренной перед необоримыми силами судьбы, бесстрашной и свободной:
Прощай! Мы, стало быть, из них,
кто губит души книг и леса.
Претерпим гибель нас двоих
без жалости и интереса.
Это стихотворение посвящено другому адресату – писателю Юрию Нагибину, расставание с которым было не менее тяжёлым: сродни расставанию с «душами» книг и леса, но героиня стоически предполагает «претерпеть» гибель бесценного чувства. В том же 1960-м году появляется стихотворение Ахмадулиной «Так и живём, напрасно маясь…», в котором можно наблюдать мотив стоического переживания экзистенциального одиночества, невозможности и нежелания идти легкими путями:
Так и живем – напрасно маясь,
в случайный веруя навет.
Какая маленькая малость
нас может разлучить навек.
В нем появляются образы, которые не противоречат переделкинскому мифу, хотя могут относиться к другому топосу. Это образ железнодорожной станции и поезда как границы между двумя мирами. Героиня мучительно переживает этот переход из мира обыденности в страшный и таинственный мир творчества и любви. Она уподобляет себя жертве, которая необходима чудовищу Минотавру:
Припав на жесткое сиденье,
сижу в косыночке простой
и направляюсь на съеденье
той темной станции пустой.
Характерно оксюморонное сочетание «печально и комично» в отношении собственных шагов по кладбищу – еще одной важной мифологеме переделкинского мифа: героиня чувствует себя смешной и никому не нужной, что усугубляет печаль. Этот контраст дополнен антитезой «белого кладбища» и окружающей героиню вечерней темноты:
Иду вдоль белого кладбища,
оглядываюсь на кресты.
Звучат печально и комично
шаги мои средь темноты.
Следующая мифологема – переделкинский лес, который у многих писателей выступает символом рая. Как правило, он утренний, залитый солнцем и наполненный запахом сосен. В стихотворении Ахмадулиной, напротив, тропа «темная», героиня изображает свой одинокий путь по лесу как наказание за неизвестную ей вину:
Зачем я здесь, зачем ступаю
на темную тропу в лесу?
Вину какую искупаю
и наказание несу?
Героиня воспринимает одиночество как незаслуженное наказание. Стоицизм её состоит в том, что она понимает невозможность поступать так, как хочется. Так называемая «женская слабость» претит её представлению о подлинной красоте человеческих поступков.
Мне надо бы к тебе приникнуть.
Иначе поступаю я.
Третий адресат лирики Беллы Ахмадулиной – сын балкарского классика К. Кулиева Эльдар – упомянут в стихотворении «Метель (Переделкино снег заметал…)» (1973?). Название стихотворения апеллирует к трагическому сюжету пушкинской «Метели»: возлюбленные расстаются навсегда, заблудившись в метели. В стихотворении Ахмадулиной «белейшая» переделкинская метель к концу строфы заставляет возлюбленных онеметь:
Переделкино снег заметал.
Средь белейшей метели не мы ли
говорили, да губы немые
целовали мороз, как металл?
Смертельный «металлический» поцелуй метели обернулся у Пушкина гибелью юного влюблённого Владимира, а Марья Гавриловна волей метели оказалась «другому отдана». Этот ставший архетипическим сюжет русской литературы прочитывается в стихотворении Ахмадулиной:
Не к добру в этой зимней ночи
полюбились мы пушкинским бесам.
Не достичь этим медленным бегством
ни крыльца, ни поленьев в печи.
Лирическая героиня стихотворения, узнав в рисунке своей судьбы трагический пушкинский сюжет, не стремится его преодолеть, избежать повторения. Напротив, «нежно и скорбно» принимает очередную фатальную неизбежность потери любви, творчества, жизни:
Возносилось к созвездьям и льдам,
ничего еще не означало,
но так нежно, так скорбно звучало:
мы погибнем, погибнем, Эльдар.
В следующей строфе возникает образ «железной нити» – метафора переделкинской железной дороги, горизонтальной, «дольней» жизни, которая является медиатором между «созвездьями и льдами» запредельной высоты творчества и «пушкинскими бесами», сбивающими путника с дороги. Сверкнувшая вдали электричка «размораживает» заледеневшее сердце лирической героини:
Опаляя железную нить,
вдруг сверкнула вдали электричка,
и оттаяла в сердце привычка:
жить на свете, о, только бы жить.
Лирическая героиня, подобно пушкинской Марье Гавриловне, после холода одиночества обретает разрешение мучительной загадки, но в отличие от последней, обретает не любовь, а «привычку». Это слово аллюзивно притягивает образ другой пушкинской героини – матери Татьяны Лариной, которая постепенно смиряется с обыденной жизнью и получает некий эквивалент счастья: «Привычка свыше нам дана:/ Замена счастию она». Финальные строки стихотворения «Метель» приобретают молитвенную окраску и знаменуют высокое смирение лирической героини перед загадкой и чудом любви.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































