Читать книгу "Переделкино vs Комарово. Писатели и литературные мифы"
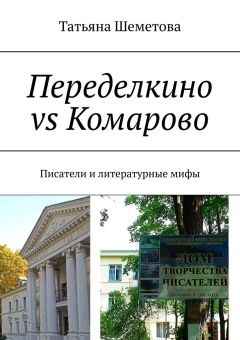
Автор книги: Татьяна Шеметова
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
7. Семён Липкин и Александр Ерёменко: переделкинские баллады
Для устойчивого функционирования переделкинского мифа, как и любого другого, важны оппозиции. Образы переделкинского старожила, диссидента, постакмеиста Семёна Липкина и «залетного гостя» в Переделкине, деконструктора, метареалиста Александра Ерёменко вряд ли могут появиться в одном исследовательском контексте. Точка пересечения этих «параллельных» художественных миров, как в мифологеме о неевклидовой геометрии Лобачевского, – переделкинский топос. Если в рассмотренных выше произведениях «Переделкино» соотносимо с понятием «топоним», то в этих стихах именно «топос» – тема, обусловливающая формирование системы образов и главную идею.
Рассмотрим два поэтических произведения: «Вячеславу. Жизнь переделкинская» С. Липкина и «Переделкино. Гальванопластика лесов…» А. Ерёменко. Помимо мифологемы Переделкино и времени написания (1982) их объединяет особая балладная интонация: размышление о жутких и таинственных событиях прошлого и грусть по ушедшему. Правда, эти смысловые интенции выражены кардинально противоположными формальными приемами.
Ужасы «Жизни переделкинской»Липкин, включив посвящение «Вячеславу» в название стихотворения, апеллирует к стихотворному посланию Державина «Евгению. Жизнь Званская», подсказывая читателю возможный путь сопоставления. Вячеслав Иванов – сын соседа Пастернака Всеволода Иванова (одного из «Серапионовых братьев»), будущий ученый-лингвист с мировым именем, но в описываемые времена – мальчик Кома, больной костным туберкулёзом. В тексте стихотворения есть обращения к «Инне» – Инне Лиснянской, известной поэтессе и жене Липкина.
Заявленная в заглавии аллюзия к стихотворению Державина, усиленная эпиграфом из него же, диктует стихотворный размер и стиль произведения Липкина: это шестистопный ямб и лексика, которая выглядела бы архаичной даже во времена Пушкина («воспоминатели», «белопокровных жриц», «бесовских давних действ»). Имение Званка, в котором в летнее время жил Державин, располагавшееся недалеко от Петербурга, на берегу реки Волхов, становится в стихотворении Липкина прообразом Переделкина, располагающегося на недалеко от «новой столицы», на берегу Сетуни.
Стихотворение Державина «Жизнь Званская» приобрело большую известность ещё и потому, что одну из строк: «Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?» – Пушкин взял эпиграфом к отрывку «Осень», написанному тем же шестистопным ямбом в Михайловском. Мифологема Михайловского в контексте пушкинского мифа – это не только как образ северной ссылки поэта, но и символ осознания творческого дара. Исходя из этого, можем предположить два варианта автомифа Липкина, две триады: Званка /Михайловское/ Переделкино и Державин/Пушкин/Липкин.
В случае, если данное предположение верно, Липкин мыслит своего лирического героя как продолжателя высокой классической традиции, «пророка» ХХ в. Такому прочтению мешает содержание неоконченного пушкинского «первоисточника», который обрывается многозначительным изображением творческого подъёма, осталось только найти тему – цель для применения творческих сил: «Куда ж нам плыть?».
Надо заметить, что с пушкинской «Осенью» (1833) произведение Липкина сближают жанровые, а не содержательные особенности. Это «маленькие поэмы» автобиографического содержания, написанные шестистопным ямбом; их сюжет – «что делать нам в деревне?» (строка из стихотворения Пушкина «Зима…», 1829). Эта версия подтверждается статьёй адресата послания Вяч. Вс. Ивановым, который пишет о том, что Державин для Липкина – это знак его относительной (по сравнению с авангардистами), традиционности, но в других стихах ему ближе пушкинская традиция.
Поскольку содержательных аллюзий к Пушкину в послании Липкина нет, целесообразно будет остановиться на бинарных оппозициях: Державин/Липкин и Званка/Переделкино. Спокойной жизни писателя, «патриарха екатеринской эпохи», противопоставлена полная тревог и лишений жизнь «патриарха сталинского времени». Державин воспевает и благодарит Екатерину II – «Фелицу»; Липкин, напротив, называет Сталина – советского «кесаря» – тираном. В знаменитом описании обеда у Державина трапеза предстает как «цветник», достойный кисти художника:
Багряна ветчина, зелены щи с желтком,
Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны,
Что смоль, янтарь – икра, и с голубым пером
Там щука пестрая: прекрасны!
Ярким контрастом к описанию этого благоденствия выступает у Липкина сюжет о двух выдающихся писателях – муже и жене, живущих подаянием «сильных мира сего»: «маститого Каверина», профессора Степанова – или получающих «из дома творчества <…> обед / На имя Инниной подруги»:
Мы делим на двоих то борщ, то суп с лапшой
И с макаронами котлету.
Так радуйся же всей измученной душой
Врачебнодейственному лету!
Характерно, что такое положение изображается как завидное умение «хорошо устроиться в жизни»: писатели-«сановники», постоянно живущие в Переделкине, и временные жильцы Дома творчества выступают в роли своеобразных меценатов для ущемленных в правах писателей-диссидентов.
От картин природы и собственной бытовой жизни Липкин обращается, следуя Державину, к истории своего века, когда наравне со стволами сосен с их «смутою стрелецкой» и «боярской думою дубов» вырастают «советские» столбы электропередач.
Один из «меценатов» семьи Липкина, профессор Степанов, изображён как человек, живущий двойной жизнью: с одной стороны, он «черни раб», а с другой – обладает «бесстрашьем львиным». Его судьба трагична: утонув в Самаринском пруду, он остался в памяти лирического героя человеком, «безвольно улыбающимся смерти», как и всему, что он видел при жизни. Заслугу этого учёного авторский герой, выступая в роли своеобразного летописца, видит в издании собрания сочинений Велимира Хлебникова «в года/ Цензуры не на– столько строгой» и организации вызволения Николая Заболоцкого из сталинских лагерей.
Кульминацией маленькой поэмы Липкина становится эпизод, связанный с жизнью Заболоцкого в Переделкине после освобождения. Образ поэта строится на мифологических контрастах:
<…> Казался немчурой
И аккуратный Заболоцкий.
Но чисто русское безумье было в нем
И бурь подавленных величье,
Обэриутский бред союзничал с огнем
И зажигал глаза мужичьи.
Ставший переводчиком и «правоверным» советским писателем, Заболоцкий втайне сохранял верность прежним поэтическим ценностям, которые выдвинули его в первый поэтический ряд в конце 1920-х годов, но лагерный опыт – символ «ада» присутствует рядом с «райским» переделкинским лесом, образ которого появляется после многолетнего перерыва в его стихотворении «Утро» (1946).
Липкин изображает Заболоцкого, навсегда раненного лагерным опытом. Обычного человека в «бурках» (сапогах с кожаной подошвой и войлочным голенищем) он принимает за нквдешника и переживает подлинную муку – возвращение страха ареста. Заметим, что железная дорога, как и в повести Катаева «Уже написан Вертер», становится промежуточным топонимом между «адом» и «чистилищем», «жутким прошлым» и «переделкинским настоящим».
Застывший взгляд и дробный шепот.
О, долгий ужас тех мистических минут,
О, их бессмысленность и опыт!
Я знаю, что собрат зверей, растений, птиц, —
Боялся он до дней конечных
Волков-опричников, волков-самоубийц,
Волчиных мастеров заплечных…
Помимо переклички с мандельштамовским «веком-волкодавом», метафора «волка-самоубийцы» развёртывается в дальнейшем тексте поэмы. В напоминающих басню Крылова «Волк на псарне» чертах «волка», который мог «к вдохновенью приобщиться», узнается сатирический потрет Александра Фадеева, писательского «министра», не чуждого любви к творчеству:
<…> волк, который мог всплакнуть, задрав овцу,
И к вдохновенью приобщиться,
Над пропастью хитря, шатаясь, шел к концу,
Чтоб кончить как самоубийца.
Липкин дает емкие поэтические характеристики близким по духу насельникам Переделкина: «неряшливому таланту» Пильняку, верному идеалам юности Всеволоду Иванову (и его сыну Вячеславу, которому адресовано произведение), «озорным речам» Бабеля, хранительнице дома Чуковского Лидии Корнеевне.
Второй кульминацией поэмы-баллады является эпизод «распятия» Пастернака (после издания романа «Доктор Живаго»). Ему посвящено 17 строф – больше, чем всем остальным в поэме. Наряду с восхищением и преклонением перед кумиром в тексте присутствуют снижающие тропы: глаза поэта – «глаза коня и бедуина», говорит он «трубно, путано и длинно», а стиль жизни поэта похож на выбор «пахаря сивоусого» – белоруса, не вступившего в колхоз и незаконно жившего на поле, недалеко от дома Пастернака. Но все же в вечности судьба двух странных друзей сложилась по-разному:
Остались на земле стихи, но со стерней
Сровняли хату белоруса <…>
В финале стихотворения нарастают грустные, но примиряющие поэта со временем ноты. Так или иначе двум поэтам – мужу и жене – удалось воплотить в жизни свой талант и не пойти на сделку с совестью, хотя лирический герой судит себя строго. Произведение приобретает элегическое настроение, и в последних строках возникает образ, не названный по имени, но вполне узнаваемый по контексту. Три поэта, переживших страшную эпоху (Липкин, Лиснянская и Чуковская) «сидят на лавочке втроем», «беседуют, грустят и шутят». Этой поэтической горизонтали – бытовой картинке – противопоставлены строки высокого стиля:
И вспоминаем ту, кто связывает нас
С бессмертьем, с правотой, друг с другом.
В этих строках узнается Анна Ахматова, образ которой выступает в роли своеобразной духовной вертикали и одновременно символа писательского призвания и человеческой дружбы.
«Гальванопластика лесов»Стихотворение А. Ерёменко «Переделкино» почти полностью построено как центон, и многие исследователи склонны видеть в нем только деконструкцию смыслов или «русский народный абсурд», но классический четырёхстопный ямб собирает текст в непротиворечивую картину, которую мы попытаемся реконструировать. Если рассмотренный нами текст С. Липкина своим стилем обращён к позапрошлому, державинскому веку, то произведение Ерёменко говорит технологическим языком будущего:
Гальванопластика лесов.
Размешан воздух на ионы.
И переделкинские склоны смешны,
как внутренность часов.
Как было отмечено, в стихотворении Липкина присутствует духовная вертикаль, некое общее будущее бессмертие, в котором очевидна «правота», правильность сделанного выбора и общность ценностей с великими современниками. В тексте Ерёменко, напротив, наступившее будущее предстает утопическим безвременьем. Природа, лес, парк – переделкинские топосы, обладавшие коннотациями рая или соседства с ним, – покрылись тонким металлическим слоем в результате «гальванической обработки» – работы времени.
Поэтому лирическому герою вдвойне странно и «смешно» смотреть на «переделкинские склоны», которые как будто притворяются живыми. «Внутренность часов» – так можно сказать, когда часы уже не идут: поломаны или разобраны. Но амбива– лентность этого образа состоит в том, что переделкинские леса и склоны сохраняют «пластику», хоть и умерщвлены электрическим разрядом времени. Положительно и отрицательно заряженные частицы продолжают носиться в воздухе, хотя твердая гальваническая плёнка покрыла переделкинское прошлое.
Уже за первой строкой стихотворения («Гальванопластика лесов») можно увидеть стремление не апеллировать к прошлому, а заглянуть в будущее переделкинского мифа. Это технологическая метафора, изображающая пейзаж глазами общества, в котором чудом сохранились обломки былой культуры, которые олицетворены сонорными звуками «лнл» и ямбическим размером. Вместе с тем это знак индивидуального авторского стиля Ерёменко.
«Общее место» переделкинского мифа – его чистый воздух – предстает «размешанным на ионы», то есть заряженными частицами тех смыслов, которые еще недавно здесь зарождались и заряжали своей энергией огромное количество людей. Самая сильная частица этого воздуха – голос Пастернака, который прорывается во второй строфе стихотворения Ерёменко и заставляет вспомнить смысл и ритм «Второй баллады» Пастернака. Сравним:
Ерёменко:
На даче спят. Гуляет горький
холодный ветер. Пять часов.
У переезда на пригорке
с усов слетела стая сов.
Пастернак:
На даче спят. В саду, до пят
Подветренном, кипят лохмотья.
Как флот в трехъярусном полете,
Как флот в трехъярусном полете,
Деревьев паруса кипят.
Первое двустишие у Ерёменко звучит по-бунински лаконично, но гуляющий «горький/ холодный ветер» мог прилететь из поэмы Блока «Двенадцать». Кроме того, эпитет «горький» из-за анжамбемана может восприниматься как мысль о Максиме Горьком, давшем Сталину идею о строительстве городка писателей Переделкино. (Аналогично, со строчной буквы, далее в тексте появятся Блок и Демьян Бедный).
Там, где у Пастернака начинается буря и целый флот готов плаванью (ср. пушкинское «Куда ж нам плыть?»), у Ерёменко строгая фиксация времени: «Пять часов». В контексте сломанных часов предыдущей строфы это остановившееся время настоящего. Странный примитивистский пейзаж, возникающий во втором двустишии, складывается из авторского взгляда на природу Переделкина и сказочного пушкинского образа гигантской головы богатыря из «Руслана и Людмилы»:
Поднялся вихорь, степь дрогнула,
Взвилася пыль; с ресниц, с усов,
С бровей слетела стая сов
Мифологема «Переделкино» в сопоставлении с этим прообразом представляется могучим, но одновременно и жалким исполином – головой без тела. В следующих строфах пушкинская «осень» выходит «из загула» и пастернаковский «сад» «встает из-за стола». «Осень» и «сад» являются мифемами, вызывающими в памяти героя призраки своих титанических авторов, струны поэзии которых легко перебирает Ерёменко. Эти призраки творят разруху и разбой, бестрепетно заглядывают на «штаб-квартиру патриарха» всея Руси, дерзко замечают статую Венеры «без трусов» в центре «англицкого парка». Можно предположить, что именно они в компании героя Ерёменко распевают строки из блатной песенки «Шаланды, полные кефали» на слова Владимира Агатова и адресуют их сильным мира сего:
Рыбачка Соня как-то в мае,
причалив к берегу баркас,
сказала Косте: «Все вас знают,
а я так вижу в первый раз…»
Если у Пастернака на даче спят два сына, «как только в раннем детстве спят», то у Ерёменко сыновья уже основательно повзрослели и «допили водку и коньяк». Кроме того, в этой строфе через «сладкий запах керосина» появляется аллюзия к мандельштамовскому «Мы с тобой на кухне посидим» (1931), что убивает надежду на счастливое будущее «сыновей» и придает всей строфе ощущение бесприютности и метафизического холода. В следующей строфе возникает мифологема переделкинского кладбища и Пастернака как его неспокойного духа:
С крестов слетают кое-как
криволинейные вороны.
И днем и ночью, как ученый,
по кругу ходит Пастернак.
Его вера в мудрость бытия кажется абстрактным «знанием», поэтому, вероятно, он ходит по кругу, «как учёный». Голос Пастернака, как видим на примере этого стихотворения, в переделкинском мифе слышнее всего. Как имя Дантеса возникает рядом с именем Пушкина, так имя Пастернака вызывает в памяти лирического героя баллады образ Константина Федина, одного из «Серапионовых братьев», ставшего советским функционером. Этот бывший друг, присоединившийся к гонителям, принявший участие в травле поэта после издания «Доктора Живаго», изображён в балладе Ерёменко как незначительная часть переделкинского пейзажа:
Направо – белый лес, как бредень.
Налево – блок могильных плит.
И воет пес соседский, Федин,
и, бедный, на ветвях сидит <…>
Из-за совершённого предательства Федин обречен вечно выть, как пёс соседский, и сидеть на ветвях, как призрачная русалка из Вступления к «Руслану и Людмиле». Упоминания заслуживают и другие мифологизированные имена русской литературы – Блок, Белый и Бедный, но, поскольку они не являются мифемами Переделкина, то выступают в качестве обезличенных лексем. Впрочем, как и слово «Федин», значение которого амбивалентно: это может быть не только фамилия советского функционера, но и имя никому не известного Феди, хозяина пса. Далее Ерёменко сравнивает моральное «убийство» Пастернака, с убийством Ленского Онегиным на дуэли, после которой « <…> окровавленная тень/Ему являлась каждый день». Тема предательства продолжается в следующей строфе, которая складывается из пушкинских и лермонтовских строк:
И я там был, мед-пиво пил,
изображая смерть, не муку,
но кто-то камень положил
в мою протянутую руку.
Тема лермонтовского «Нищего» (1830) перекликается c убийством юного поэта Ленского старшим товарищем в романе Пушкина «Евгений Онегин»:
<…> На грудь кладет тихонько руку
И падает. Туманный взор
Изображает смерть, не муку.
Это не бинарная оппозиция «Пастернак/Федин», а тринарная – «Пастернак/ Федин/ Ерёменко», поскольку ситуация «морального убийства», по-видимому, была и в жизни исследуемого нами поэта. Обратимся к этой ситуации, которая была описана в статье М. Эпштейна «Поэт на фоне молчания»:
«Я почти не помню, чтобы он говорил. Когда он не читал стихи, он молчал. И в этом была своя мудрость: поэт не обязан перебивать свою музу. Вспоминаю только один эпизод, когда Еременко заговорил. Это было начало перестройки, и на поэтическое чтение метареалистов в редакции „Литературной газеты“ пришел Евгений Евтушенко. При всем расположении к молодым дарованиям, что-то именно в этой генерации его сильно раздражало – даже собравшаяся публика его сердила. В первый и в последний раз я видел Евтушенко, обычно обаятельного и артистичного, таким „квадратным“, агрессивно-невосприимчивым. Он привык обгонять время, а тут оно обогнало его. Он не знал, как подступиться к этим сложным стихам, и выделил Еременко как самого „простоватого“, приняв его за блатного. Выйдя на сцену, Евтушенко стал обличать Еременко как „антинародного“ поэта, прибегнув, для вразумления адресата, к уголовному жаргону и обращаясь на „ты“: „Ботаешь по фене?“ Все молчали, потрясенные этой начальственной отповедью „отца“ „детям“, а Еременко, страшно покраснев и напрягшись, сказал: „Я не из Марьиной рощи“».
«Марьина роща» – стихотворение Евтушенко, написанное в 1972 году. Образ «Марьиной-шмарьиной» – «школы неисправимых» – символизирует непокорность, неспособность «скурвиться», но всё же изначально это образ уголовной романтики, непричастность к которой подчеркнул Ерёменко своим ответом мэтру. Сквозь всеобъемлющую иронию ерёминского поэтического текста тем не менее можно различить, насколько сильный удар был нанесен младшему поэту старшим, если описание этого события в стихотворении обрамлено такими мрачными ассоциациями, как «распятие» Пастернака, гибель Ленского и оскорбление нищего из одноименного стихотворения Лермонтова:
Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.
Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои
Обмануты навек тобою!
Этот финал лермонтовского стихотворения может свидетельствовать об особом отношении младшего поэта к старшему. Известно, что Евгений Евтушенко вызывал самые разные чувства у читающих, но все же он был одним из идолов-шестидесятников, о чем говорит и вполне комплементарная, за одним исключением, характеристика старшего поэта, данная М. Эпштейном в приведен– ном выше тексте.
В последней строфе Ерёменко вновь обращается к собственной поэтической судьбе. Отталкиваясь от темы предательства в лермонтовском «Нищем», он возвращается к теме творчества как свободного плаванья, заданного во «Второй балладе» Пастернака, но теперь уже через лермонтовский «Парус»:
Играет ветер, бьется ставень.
А мачта гнется и скрыпит.
А по ночам гуляет Сталин.
Но вреден север для меня!
Природа продолжает буйствовать, скорее, как во «Втором рождении» Пастернака (где «ветра яростный надсад»), в «чем лермонтовском «Парусе» (где «струя светлей лазури» и «луч солнца золотой»). Вторая строка последней строфы баллады Ерёменко противопоставлена первой противительным союзом «а», в отличие от лермонтовского «и». Отсюда «мачта» бывшего моряка Ерёменко – это, возможно, бренное тело героя, уставшее от прогулки по холодному вечернему городку писателей Переделкино. Во время воображаемой прогулки от «переезда на пригорке» он дошел до резиденции Патриарха (переделкинский топоним), затем через кладбище – до музея Пастернака.
Пастернаковский биографический миф базируется на противопоставлении «поэта и царя» – одной из важных мифологем пушкинского мифа, который является русским писательским архетипом. Как и в рассмотренной ранее балладе Липкина, для оппозиции к переделкинскому «гению места» Пастернаку возникает образ советского «кесаря» – Сталина, хотя травля происходила в период правления Хрущёва. Как важный элемент балладного жанра в стихотворении появляется мистика – призрак Сталина, «гуляющий» по ночам. Это может быть связано с историей строительства писательского городка под его руководством и дальнейших репрессий, не обошедших жителей Переделкина.
Финальная строка «Но вреден север для меня!» амбивалентна. В пушкинском первоисточнике для поэта, по мнению царя, «вреден» Петербург, поэтому он отправлен в ссылку и не может «гулять» в столице, как предполагаемые читатели «Евгения Онегина». У Ерёменко на месте друга-читателя – Сталин, гуляющий по Переделкину. «Север» может означать как традиционное место ссылки неугодных «царю» людей, так и переосмысление Переделкина как своеобразной писательской «столицы», которая «вредна», иными словами, недоступна простому «матросу» Ерёменко.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































