Текст книги "Птичка Ноя"
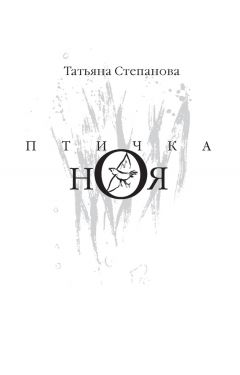
Автор книги: Татьяна Степанова
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Татьяна Степанова
Птичка Ноя
В оформлении использована графика Марка Шагала
© Татьяна Степанова, стихи. 2014
* * *


«По бездорожью дорогу ищут охотники за чужой дичью…»
По бездорожью дорогу ищут охотники за чужой дичью,
глиняной поступью, сумрачным днем, ненавидя повадку птичью.
Маленькой герде зеленую милю няня пророчит качая,
«няня, на железном стуле, вот там, привязывают моего кая?»…
У всех сон – арабская вязь, алеф – омега, птица,
а твой – в левом полушарии серны может легко уместиться.
«Что будет, если песчаную рыбку-бананку…»
Что будет, если песчаную рыбку-бананку,
невзирая на обещания исполнить потайные желания —
вывернуть наизнанку?..

«Из коленной чашечки Давида вырос женьшень…»
Из коленной чашечки Давида вырос женьшень —
мигрень для евреев и неплохая мишень
для страждущих о первородстве.
Первый цвет срезан
красавицей, грезящей с младенчества об уродстве.
Стрелка часов развернута на восток. «Ты лети, лети, лепесток,
никого в дороге не слушай, авось незамеченным —
над морем, над сушей… обернешься вокруг земли, в плен
по велению сердца бери» —
царственный шепот, кинора янтарь,
из тысяч увязших в пустыне – очнись хоть один бунтарь…
А на поверхности тихо, за корнем жизни строго следит ворона,
да в призрачной зыби мертвого моря мерцает золотом
чья-то корона.


Созвездие ариадны
Наплакавшись так, что икает и вздрагивает
солнечный заяц, пойманный бегло сквозь прищур
белесого по-детски, выцветшего, некогда русалочьего
старушечьего взгляда.
Растворяется нить в пиале пчелиного яда.
Уличив в невежестве медвежьем минотавра,
ариадна разносит прялку в щепы.
А дальше —
нелепы альцгеймера сны: до самого рассвета березовой горькой весны,
сухой лапкой чесать мертвого зверя за ухом
и больше ни сном, ни духом не бояться, ни духов, ни снов,
лишь на стертой коже низкого неба, в сердцевине,
основе основ —
успеть ухватить край подола Того, Кто давно к полету готов.

«Когда осенний ветер, перепутав…»
Когда осенний ветер, перепутав,
вместо дерев багрянца
снимет черепиц кармин
и унесет в гнездо своим трофеем —
догнать его едва ли мы сумеем;
когда рассерженный петух,
лишившись утреннего глянца,
вдруг обернется птицей рух —
казним за наглость самозванца;
когда звериное чутье не подведет,
тигр станет братом
бахчисарайским водопадам
и назовет себя евфратом, —
эта несвобода,
блошиная порода слов,
не встретит весело у входа
и не заменит детских снов.

«Детективы-невежды считают…»
Детективы-невежды считают,
что совершенное убийство —
когда на трупе
множество маленьких дырочек
и ни одного следа.
Не беда,
что мертвец изо всех сил мычит
и указывает подбородком
на окно,
туда,
где звезда
делает вид,
что спит.
Кто его услышит,
того, кто не дышит.
«Клетка, которую построил маргинал джек…»
Клетка, которую построил маргинал джек,
просторнее и крепче вигвама,
свитого наспех из заточенных осиновых кольев
и всякого домашнего хлама.
Дивная открывается из нее на мир панорама,
застывает на губах восторженно «хари рама»,
у смотрящего в порядке очереди из-за решетки
первый раз появляются в голосе человечные нотки:
«Не ты ли, жено,
поборов ремарковский страх ранней чахотки,
была какое-то время моей бесценной находкой,
делящей кровь, кров и тарелку жидкой похлебки
со мной, а за моею спиной —
с преданным елочным другом
из гэдээровской новогодней коробки»…
Клетка, которую построил маргинал джек,
предполагает всего один бессонный ночлег,
желающим на время забыться выдают очки 3D,
чтобы увидеть объемно
происходящее даже в улан-удэ.
Как на ладони – винные погреба прованса,
жадно дорваться до них
и при этом остаться в живых – нет никакого шанса.
Детское изумление престарелого пленного ганса:
«Оказывается, человек человеку не друг и не враг,
избегая рабских поклонов и военных атак,
вполне можно жить, не вторгаясь в чужой предел,
я именно этого когда-то хотел, очень хотел…».
«На сегодня достаточно» – не сказал, но устало подумал джек,
строивший клетку всего на одну лунную ночь, никак не на век.
Сквозь карман с хрустальным звоном прорастали бобы,
до неба джеку оставалось три долгих дня ходьбы.
«У самого синего моря песок – золотая пыль…»
У самого синего моря песок – золотая пыль,
терпкость незрелых оливок, ркацители бутыль,
осушенная вчера проходящим бродягой,
слывшим среди приятелей грязнулей и скрягой.
В детстве нет пристрастия любоваться закатом,
потому от тоски спасаешься придуманным братом,
исходя из настроения, индейцем или пиратом.
Сопя и сталкиваясь просоленными вихрами,
уговор железный – молчать, не пугая радость словами,
строгий наказ потомкам и вера в чужую свободу
с прядью волос уходят бутылкой в воду.
А стемнеет когда, в офицерской шинели – в кокон,
да подальше от темных запыленных окон,
за которыми тает тоненький контур брата,
засыпая, не разобрать, индейца или пирата.

«По прибытии домой, говорят…»
По прибытии домой, говорят,
дают дня три
на то, чтобы пристально рассмотреть
– что скрывалось внутри
тщедушного тела,
прежде чем пришьют вечное дело.
Это именно тот случай, когда время
больше не измерить ни на минуту, ни на глаз,
просто прожить три долгие
мучительно знакомые жизни
в лабиринте «здесь» и «сейчас»:
первую детскую обиду,
жаркие температурные слезы
и в ромашковом стылом чае
лепестки дворовой пепельной розы;
нарочито небрежно перелистнуть страницу,
успев зажмурить глаза там,
где про любовь, а потом – смерть и больницу.
(Мама, мама, может быть сделать вид,
будто я никогда не рождался
и просто маленьким и недоразвитым в чреве твоем
остался?!..)
И вот когда колокольный звон и монотонный голос
плачущих над головой
станет тонким как волос,
спешно сбрасывая прилипшие кожаные одежды,
едва успевая, спотыкаясь, без всякой надежды,
полететь по золотому пшеничному полю —
на волю.

«Десница командора недолго тяготит плечо…»
Десница командора недолго тяготит плечо,
и потому на сердце у вдовы и весело и горячо.
«Собственно, почему я должна все время бояться,
если мой муж мертв и не хочет со мной остаться, —
нервно оправдывается Анна
перед журналистом местной газеты,
стряхивая на острые колени
пепел сигареты, —
оставьте меня в покое, и не давайте советы».
(А за окном – затяжная зима
укрыла плотной белой попоной дома…)
У донгуана довольно нелепый вид,
пока он в кровати Анны без шпаги лежит
и жалобно просит принести фестал,
сетуя на слабый желудок и на то,
что слишком устал.
Лифт из ада медленно подымается на третий этаж,
командор при жизни был повесой и любил эпатаж.
(За гробом все остается в силе,
ценное не пропадает в тесн
...
конец ознакомительного фрагмента
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































