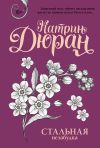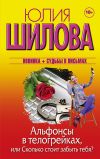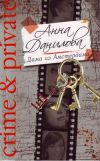Текст книги "Хозяйка чужого дома"

Автор книги: Татьяна Тронина
Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Да, – просто сказал он. – Она сразу догадалась, что меня подстригла ты.
– А о том поцелуе она не догадалась? – спросила Лара и вдруг покраснела.
– Не знаю… – равнодушно ответил он. – Идем, прогуляемся по лесу?
Она колебалась только мгновение, но потом ей стало стыдно за свой страх. Черт возьми, что она, тургеневская девушка какая-нибудь, чтобы бояться самых невинных развлечений… И тряхнула согласно головой:
– Идем.
И они побрели по длинной разбитой дороге в сторону леса. Навстречу им попадались мамаши с колясками, собачники, выгуливавшие своих питомцев. Словом, народу кругом было полно, близкое лето и другим не давало сидеть дома.
– Как Елена?
– Она тебя действительно интересует или ты пытаешься вести светский разговор? – с любопытством спросил Костя.
– О господи… – вздохнула Лара. – Ты медведь, Костя, самый настоящий медведь. Для тебя нет ни приличий, ни условностей. Что плохого в светском разговоре? Ну о чем мне с тобой говорить, о чем?
– Поговорим о весне, – энергично предложил тот. – А Елена… Ей сейчас не до меня, у нее очередная выставка идет полным ходом, днями там пропадает. Такое солнце… «Свой мозг пронзил я солнечным лучом. Гляжу на мир. Не помню ни о чем. Я вижу свет и цветовой туман. Мой дух влюблен. Он упоен. Он пьян…» Это Бальмонт. Хочешь мороженого?
– Да, – рассеянно ответила Лара. «В самом деле, чего я ломаюсь, чего боюсь? Почему не могу быть такой же простой и искренней, как он?» – Но я не могу не думать о Елене. Разве она не ревнует тебя?
Костя купил два эскимо у торговавшей с передвижного контейнера под тентом женщины, отдал одно Ларе и с удовольствием принялся поглощать свое.
– Нет, – ответил Константин через некоторое время, слизывая с губ шоколад. – Никто никого у нас в семье не ревнует, никто никого не подозревает, мы современные люди. Я же ничего плохого не делаю?
– Ничего… – эхом повторила Лара.
– И потом, мы уже столько живем с ней вместе, страсти давно утихли.
– Сколько?
– Года три, наверное…
– Совсем мало, – улыбнулась Лара. – А я мечтаю о вечной любви. Если за три года люди успели надоесть друг другу…
– Ты хочешь сказать, меня нельзя принимать всерьез? – надулся Костя.
– Вот именно! – Она открыто расхохоталась и промурлыкала: – «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный, Купидон, женской лаской прельщенный…» Вертится все время в голове у меня эта мелодия!
– «Женской лаской»… – эхом повторил Костик. – Если бы волосы у меня могли расти быстрее, я бы приходил к тебе в парикмахерскую каждый день. И ты прикасалась бы к моей голове своими чудесными ловкими пальчиками, вертела бы меня в кресле… Я еще не испытывал наслаждения острее.
– Глупости какие… – пробормотала Лара, отворачиваясь. Она осознавала, конечно, что пылкие Костины излияния не следует воспринимать серьезно, они могут оказаться лишь поэтической метафорой, призванной соблазнить женское сердце, красивыми словами, за которыми пустота, но заткнуть себе уши не могла. – Каждый день! Я же тебя предупредила – в первый и последний раз ты ввалился тогда ко мне в салон, повторения не будет.
– Ты очень жестока, Лара, – печально вздохнул Костик.
– Я не жестока, я стараюсь поступать как разумный человек. К чему все это? – стараясь быть рассудительной, важно произнесла она.
– Что?
– Ну, твои признания, тот поцелуй… – она опять покраснела. – Чего ты добиваешься?
– Я? Чего я добиваюсь? – искренне изумился он и так развел руками, что подтаявшее эскимо плюхнулось с палочки на землю. – Черт, растяпа… Я ничего не добиваюсь. Я всегда говорю о том, что думаю. Я вообще человек открытый, не могу молчать, таиться, скрытничать! – Костя тер платком свои руки и недовольно пыхтел.
– Нет, лучше молчи, – растерянно возразила Лара. – Это как-то нарушает… всеобщее спокойствие, что ли. Ты как человек пишущий должен знать, что в словах заключена сила, что они способны ощутимо действовать… Мне не по себе от твоих признаний! – вдруг возмутилась она.
– Ты словно с другой планеты. Неземная женщина… – Костик улыбнулся и хитро подмигнул.
– Я свалилась с луны, да?
– Да. И прямо мне на голову. Ты же любишь Игоря, ты человек строгих нравственных принципов, судя по всему. Так чего тебе бояться?
– Как – чего? Я, вот, например…
– Я знаю, чего ты боишься. Ты себя боишься. Потому что ты – другая, чем сама думаешь. Ты – огонь. Но в тебе это свойство еще не проявилось окончательно. На самом деле тебе плевать на нравственные принципы. Да, не тебе, царице, поступать, подобно какому-то жалкому, ничтожному «разумному человеку»! – последние слова он произнес с напыщенной театральной интонацией.
– Костя!
Они давно уже шли по узкой лесной тропинке. Лара старалась держаться от своего спутника на расстоянии, но у нее это не очень-то получалось. То и дело она касалась локтем Костиной руки, чувствовала запах его одеколона.
– Чему ты улыбаешься?
– Это не твой запах, – сказала она.
– А чей? О чем ты? – переполошился он.
– Запах твоего одеколона слишком сладкий, острый. Он скорее для изнеженного юноши, светловолосого, астенического телосложения, – задумчиво ответила она. – Ой, я все забываюсь, у меня профессиональная привычка – люблю давать советы.
– Понял, – обрадовался Костик, потирая себе щеки. – Одеколон мне Елена подарила. У нее совершенно нет вкуса! – радостно сообщил он.
– Разве можно так о собственной жене, да еще художнице к тому же, – укоризненно покачала головой Лара. – Какое-то эстетическое чувство у нее непременно должно быть! Чему же их в институтах учат?
– Лицемерка! – восторженно воскликнул Костик и, исхитрившись, чмокнул Ларе ручку. – Милая лицемерка! А какой же мой запах?
Лара сделала вид, что ничего не произошло, и ответила:
– Хвоя или кожа… Что-то такое простое, даже грубоватое, но надежное…
Солнце пробивалось сквозь молодую листву, щекотало Ларе щеки. Ее туфельки на высоких шпильках проседали в рыхлой земле, сверху сыпалась с деревьев пыльца, но она вдруг перестала обращать на эти мелочи внимание. Неожиданно ей стало легко и спокойно, она вздохнула.
– Ты не устала? – встревожился Костик.
– Немного. Но это пустяки… – рассеянно ответила она. – Куда мы идем?
– Там, за поворотом, открывается очень красивый вид – река, цветочки и все такое… Правда, рядом пустырь со строительным мусором, но на пустырь можно не смотреть.
– Кажется, я здесь еще не ходила, – сказала Лара, оглядываясь по сторонам. – Все как-то некогда обследовать окрестности. Костя, вы с Еленой не думали о ребенке?
– О чем? – изумился тот.
– Ну, что неплохо завести беби и все такое, как ты выражаешься…
– Не представляю свою благоверную в роли матери! – вдруг захохотал Костя, но не грубо, а даже как-то испуганно. – Нет, это не для нее. Я думаю, ей было бы лень заниматься всем этим. Пеленки, ползунки… Почему ты спрашиваешь?
– Так, просто…
– Осторожно – здесь открытый колодец!
– Безобразие, – недовольно пробормотала Лара, обходя провал. – И куда только городские службы смотрят!
– Ларочка, здесь уже не город, здесь пустыня. Если мы свалимся в колодец, вернее, в этот канализационный люк, нас никто никогда не найдет. Решат, что пропали без вести.
– Или сбежали куда-нибудь вместе. За границу, например.
– Или на необитаемый остров.
За поворотом открылся действительно красивый вид – берег плавно спускался к реке, буйно цвели одуванчики, на противоположной стороне медленно покачивались камыши. Здесь было совсем безлюдно и очень тихо, лишь глухо простучала вдалеке электричка, невидимая за стеной леса, да хрипло вскрикнула серая чайка, проносясь над зеленовато-бурой водой.
– Передохнем? – Костик указал на поваленное грозой дерево, которое страшно скалилось застрявшими в земле корнями. Не дожидаясь ответа, он тут же перешагнул ствол и уселся. Лара ходила рядом, с сомнением поглядывая на свои шпильки, застревавшие в высокой траве, трогала пальчиком шероховатую кору, а потом пристально разглядывала этот пальчик.
– Немного пыльно… – растерянно сказала она. – Если бы постелить что-нибудь. У меня брюки замшевые, а к замше все так пристает…
Вместо ответа Костя потянул ее за руку и почти силой усадил к себе на колени.
– Проще надо быть, – нравоучительно произнес он. – Ты очень цельный человек, но все время цепляешься за какие-то мелочи. Будь собой, пожалуйста…
Последние его слова прозвучали мольбой, и Лара, хотевшая было по привычке возмутиться таким бесцеремонным обращением, вдруг смирилась, не стала делать никаких попыток вырваться из плена Костиных рук. С ним было так спокойно, легко и надежно, почти во всем, сказанном им недавно, было столько правды, что она почувствовала даже удовольствие. Об Игоре она сейчас не думала. Лара вздохнула, опустила голову на широкое плечо, которое оказалось так близко, потом руки ее сами собой обвились вокруг шеи Кости, она прижалась к нему всем телом и ощутила, как быстро и сильно бьется его сердце…
«Что я делаю? – как-то отрешенно подумала Лара, когда, не открывая глаз, почувствовала на своих губах его губы. – Кажется, я точно сошла с ума…»
Но остановиться она уже не могла, да и не хотела. Ее словно засасывал темный водоворот, она вцепилась в Костика мертвой хваткой, слилась с ним в таком страстном, таком неистовом поцелуе, что он застонал невольно. Лара приоткрыла глаза и увидела, как удивленно и покорно глядит на нее Костя, а на щеке у него дрожит слезинка. Они целовались очень долго и как-то судорожно, словно от их поцелуев зависела их жизнь. Особенно умилила Лару эта его слезинка, которая говорила сама за себя, говорила больше самых красивых слов. Кажется, она окончательно убедилась в том, что Костя действительно любит ее. На миг она оторвалась от его губ и провела языком по его щеке, поймав соленую капельку.
Майское солнце палило немилосердно, но Ларе, сидевшей на открытом пригорке, казалось, что она тает от поцелуев, а не от солнечных лучей. Пахло травой, от реки тянуло терпким запахом тины, стук колес электрички будто превратился в стук ее сердца, синее небо стремительно кружилось над головой.
– Я умираю, – жалобно сказала Лара. Костя на миг ослабил объятия, но ей вдруг стало еще хуже. Она уже не могла не ощущать рядом тепло его большого сильного тела, ей хотелось раствориться в нем. – Нет, только не уходи…
– Я тебя обожаю, – едва слышно прошептал Костя. – Я никуда не уйду!
Счет времени был потерян, долгий майский вечер растянулся в бесконечность, они двое забыли обо всем.
И только когда толпа подростков с гиканьем и свистом пронеслась мимо них к реке, Лара вздрогнула и отодвинулась подальше от Костика.
– Испугалась? – спросил он с улыбкой и нежно погладил ей щеку тыльной стороной ладони.
– Нет. Я ничего не боюсь, а с тобой и подавно…
Это было чистой правдой – Лара не испытывала страха ни перед хулиганами, ни перед собаками. Она боялась только тех демонов, которые царили сейчас в ее душе. А Костик был таким мощным, огромным, совсем как тот принц из мечты ее матери, по наследству передавшейся и ей, Ларе, что с ним даже демоны были не страшны.
– Наверное, нам пора возвращаться, – сказала она. – Уже поздно.
– Еще минуточку…
– Костя! – укоризненно воскликнула она.
– Я никуда тебя не отпущу! – жалобно, точно обиженный ребенок, воскликнул он. – Ты моя, и я тебя никому не отдам.
– Нет, надо идти, – с тоской возразила она.
– Я придумал! – Костя решительно встал, отряхнул джинсы. – Мы сейчас пойдем и скажем ему…
– Зачем?
– Я тебя люблю!
– А Елена?
– Господи, да что ты привязалась к этой Елене! – с досадой воскликнул он. – Она взрослый человек, она поймет…
– Зато Игорь не поймет, – задумчиво покачала головой Лара. – Нет, давай подождем еще немного. Не надо никаких скоропалительных решений.
– Ты что, сомневаешься во мне? – Он навис над ней, смотрел строго и жадно.
– Я как разумный человек… – важно начала она, но вместо ответа Костя сгреб ее в охапку, и новый долгий поцелуй заставил Лару умирать.
Легкие прозрачные сумерки уже опустились над лесом, когда они наконец выбрались из него. Издалека Лара увидела Игоря – тот шел в сторону станции, и беспокойство ясно читалось на его лице. Позднее раскаяние кольнуло Ларе сердце.
– Прячься! – Она толкнула Костю за широкое дерево.
– А как же…
– Завтра поговорим, завтра… Нас не должны видеть вместе.
Она побежала вслед за Игорем, позвала его.
– Ты где была? – испуганным голосом спросил тот. – Я уже Гелле звонил, и она сказала…
– Пустяки! – перебила его Лара. – Встретила одну знакомую, заболтались…
– Какую знакомую? – подозрительно спросил Игорь.
– Ты, кажется, ревнуешь! – весело засмеялась Лара. Она была настолько счастлива, что не могла скрыть своих чувств, но Игорь вдруг поверил ей, и складки тревоги между бровей разгладились.
– Надо мобильный завести, – серьезно сказал он. – У всех нормальных людей теперь эти игрушки. Да и вообще…
– Надо, надо, надо…
– У тебя все туфли в земле.
– Ужасные здесь дороги, ужасные…
– Чему ты так радуешься, Ларка?
Дома она, не раздеваясь, упала на кровать, раскинула широко руки и замерла в тихой блаженной истоме. Игорь подошел к ней, хотел обнять, но она не далась, оттолкнула его руки и сказала со счастливой улыбкой:
– Ах, пожалуйста, не тревожь меня, хочется полежать просто так, не напрягаясь…
– Да что случилось-то? – нетерпеливо топнул ногой Игорь.
– Понимаешь – весна, почти лето, все цветет, на сердце легко, хорошо! А голова пустая, в ней никаких мыслей… Лучше не бывает!
– Да, пустая голова – это хорошо. Сегодня наш главный бухгалтер…
– Игорь, Игорь, помолчи, ничего не хочу знать! – остановила его Лара и закрыла глаза.
Она сказала чистую правду – в голове у нее не было никаких мыслей, она просто отдавалась своим ощущениям. Радость жизни, которая, как Ларе недавно казалось, покинула ее на время майских холодов, вдруг вернулась. Она была прежней Ларой – жизнерадостной и беспечной, и ей совсем не хотелось думать о том, плохо или хорошо поступила она сегодня, целуясь с Костиком на берегу Яузы.
– Лара, а что у нас на ужин? – жалобно простонал Игорь, гремя на кухне пустыми кастрюлями. – Очень есть хочется, сегодня я не обедал из-за этого бухгалтера…
– Гарик, отстань! – крикнула Лара, не открывая глаз. – Сам что-нибудь придумай.
– Но я не знаю…
В первый раз беспомощность мужа в быту не вызвала у нее жалости и горячего желания заботиться о нем. «Я слишком его избаловала, – промелькнула в ее голове мысль, словно легкое облачко пронеслось по бескрайнему синему небу, – пускай приучается к самостоятельности».
На губах у нее еще горели поцелуи, которые подарил ей Костик, всем телом она ощущала удары его сердца, словно тот еще был рядом. «Я развратная женщина, – промелькнуло второе облачко. – И бог меня еще накажет… Ну и пусть».
* * *
Она старалась не произносить это слово вслух и даже в мыслях заменяла его различными эпитетами. Она была суеверна и недоверчива, как будто слово это приносило несчастье.
Считается, что характер человека и вся его последующая судьба зависят от детства, от того, каким оно было. Очень многие почему-то думали, что у Елены за плечами осталось тяжелое, несчастливое детство, но она сама, если бы вдруг решила пооткровенничать с кем-то, с этим не согласилась бы. «Мое детство было прекрасным, – сказала бы она, – я только одним недовольна – почему бог не захотел сотворить чуда? Если бы в конце той истории, которая произошла со мной тогда, произошло чудо и Гриша остался бы жив, то все было бы по-другому. Но слишком счастливой, наверное, быть нельзя…»
Не в характере Елены делиться с кем-то душевными тайнами, поэтому никто так и не узнал, насколько близко была она когда-то к полному, абсолютному счастью, которое заключено в том самом слове, произнести которое вслух столь трудно.
Кому первому пришло в голову, что двенадцатилетняя девочка может ухаживать за инвалидом, сказать трудно. То ли мама предложила, то ли тетя Марина бросила клич. Впрочем, особо ухаживать и не надо было – инвалид вполне мог сам обслужить себя дома. Только вот трудновато выбираться на улицу и еще кое-какие мелочи… Да и не в сиделке было дело.
Гриша являлся мужем тети Марины, родной сестры Елениной матери, то есть самым настоящим дядей Елены. Ему было тридцать, когда он переходил дорогу и бежевый «москвичонок» с пьяным водителем за рулем не дал ему дойти до края мостовой всего два шага – ситуация столь же нелепая и трагическая, сколь и частая на дорогах столицы. Можно сказать, что Грише повезло – он остался жив. Но Гриша так вовсе не считал, поскольку после аварии мог передвигаться, только сидя в инвалидной коляске.
Тетя Марина не бросила его лишь потому, что в те годы на экране довольно часто шел фильм «Не могу сказать «прощай»!» – жестокая отечественная мелодрама, заставлявшая рыдать миллионы и миллионы зрителей. Если бы тетя Марина бросила своего мужа, на ее общественном положении можно было ставить крест – все знакомые, друзья и сослуживцы единодушно осудили бы ее. Тетя Марина не покинула Гришу, впрочем, не только из-за боязни подвергнуться всеобщему осуждению. По-своему она даже продолжала любить его, будучи женщиной жалостливой и сентиментальной, но сразу же потеряла к нему всякий интерес, каковой должен быть у любой жены по отношению к мужу. На стороне у нее сразу же завелись кавалеры, кстати, тоже вполне довольные тем, что тетя Марина решила сохранять статус замужней женщины.
Первое время Гриша не терял надежду – тоже под впечатлением той самой мелодрамы. Он все надеялся на чудо, истязая себя бесконечными физическими упражнениями, но потом стало ясно, что никакими зарядками не вернешь чувствительность его ногам. Да и тетя Марина, соблюдавшая все внешние формальности преданной жены, как ни старалась, не могла скрыть, что у нее появились свои интересы.
На его счету было три попытки свести счеты с жизнью, и после третьей на семейном совете решили – во-первых, ни на минуту не оставлять Гришу одного, а во-вторых, занять его каким-нибудь общественно важным делом, которое отвлекло бы его от черных мыслей. Первоначально хотели переквалифицировать Гришу в писатели – работа спокойная, творческая, не требующая вылазок из дому, но вскоре стало ясно, что к писательству у него нет никаких способностей, да и желания тоже – он перестал верить словам, считая всякую высказанную мысль легковесной чепухой, которую можно толковать, как кому заблагорассудится. Да и в счастливые повороты судьбы он перестал верить. Резьба по дереву под кокетливым названием «Татьянка» его тоже не увлекла, попытки заняться на дому репетиторством (до аварии он считался перспективным химиком-технологом) вызывали отвращение. Гриша вообще стал испытывать к людям мизантропическую неприязнь. Близких он еще как-то терпел, а со всеми прочими не церемонился – начинал откровенно хамить.
Оказалось, очень трудно придумать ему занятие по душе. И вот на очередном семейном совете кому-то в голову пришла светлая мысль – отчего не поручить несчастному инвалиду воспитание ребенка? Ведь в любом человеке, даже преисполненном апокалиптическим отвращением к жизни, должны сохраняться родительские инстинкты – закон природы как-никак. К сожалению, тетя Марина не успела завести ребенка от своего мужа, теперь же это не представлялось возможным. В той самой отечественной мелодраме, над которой рыдали советские зрители, обезноженному инвалиду удалось оплодотворить героиню, самоотверженно ухаживавшую за ним, случай же с Гришей был более безнадежным. По крайней мере, так утверждала тетя Марина. Она, конечно, могла родить ребеночка, использовав «свои интересы на стороне», но появление чужого младенца уж точно сказалось бы на здоровье ее мужа весьма отрицательно. И на семейном совете решили: ребенок, которого предстоит воспитывать инвалиду, должен быть своим, кровным, по крайней мере – близкородственным.
Елене уже испольнилось двенадцать, так что на роль младенца она никак не тянула, да и присматривать за ней не было большой необходимости – человечком она являлась чрезвычайно самостоятельным и энергичным, опеки не терпела. Но ей сказали, что за Гришей нужен уход, а Грише – что за племянницей необходим присмотр. Тем более что Леночку несколько раз уличили в том, что она, рискуя жизнью, лазает по крышам. Поначалу никто из родни не верил в положительный исход эксперимента – так, попытка не пытка, чем черт не шутит… Изначально даже предполагали, что, возможно, Гриша пошлет всех куда подальше и откажется от роли гувернера или что Елена не выдержит обязанностей сиделки. Но эксперимент имел неожиданный успех.
Было лето. Две семьи жили рядом, в соседних домах – рано утром девочка прибегала к Грише, кормила его завтраком и вытаскивала обездвиженного дядю в коляске на улицу. В данном действии заключалась главная сложность: просто так коляску с инвалидом трудно вытащить из квартиры, поскольку планировка отечественных домов этому не способствовала. Но… Леночка лихо заталкивала Гришу в лифт, потом так же лихо спускала его по ступенькам, ведущим от подъезда вниз. А все потому, что придумала использовать… фанерный лист, прятавшийся потом в каморке Клавдии Петровны, уборщицы. Других трудностей для девочки не существовало, она в случае непредвиденных обстоятельств решительно требовала помощи от окружающих, и никто не мог ей отказать. Все почему-то жалели ее, думая, что родители взвалили слишком тяжелый груз на ребенка, но она так не считала.
Напевая, она мчалась по московским улочкам, толкая перед собой коляску с бледным молчаливым родственником, в ближайший парк, где робко шелестели старые липы и блестел мутным зеркалом старый пруд. Гриша, разумеется, не единожды подвергался риску быть опрокинутым или задавленным машиной во второй раз – Леночка правила передвижения по улицам соблюдала редко, но больной никогда не делал замечаний своей резвой опекунше. А крыши с тех пор, как начался эксперимент, юную сиделку больше не привлекали, к великому счастью родных и близких.
Вероятно, девочка считала Гришу чем-то вроде большой куклы, и игра в дочки-матери забавляла ее. Гришины мизантропии куда-то отступили – столько адреналина выбрасывалось в его кровь, когда сумасбродная девчонка толкала его легкую немецкую коляску, добытую с огромным трудом тетей Мариной, вперед, в опасную пустоту.
Потом, когда летние каникулы кончились и пришла пора отправиться в очередной класс среднеобразовательной школы, Лена заставляла своего безответного родственника делать за нее уроки. Училась она из рук вон плохо, испытывая интерес только к рисованию – весь дом был заполнен ее шедеврами, изображавшими в основном цветочные букеты. Только в художественной студии ее хвалили.
– Айда на натуру! – говорила она Грише и, не дожидаясь ответа, вытаскивала его в парк, расцвеченный буйными осенними красками. Она рисовала полузасохшие хризантемы на клумбах и яркие кленовые листья.
Со сверстниками Елена почти не общалась – мало кто мог терпеть ее взбалмошный, переменчивый характер. В подругах у нее ходила лишь некая Нюра, рыхлая девочка с длиннейшими, пшеничного цвета косами, но Нюру вообще трудно было чем-либо достать, Леночкины закидоны мало ее трогали. Она покорно сопровождала подругу во всех ее походах, флегматически созерцая окружающий мир. Но главным Леночкиным другом являлся Гриша – он неподвижно сидел в своем кресле, пока его племянница рисовала лихорадочные, сумасшедшие букеты, и бог знает о чем думал. А Нюра степенно бродила рядом, совершая полезный для здоровья моцион.
– Ну как? – оживленно кричала Лена, отрывая от мольберта очередной шедевр.
– Неплохо, – кивала головой Нюра. – Надо застеклить – и в рамку, на стену.
– А как тебе, Гриша?
Она никогда не называла его дядей. К его печальному, утомленному лицу никак не подходило это коммунальное слово – нельзя назвать «дядей» того, кто был похож на беспомощного ребенка.
И Гриша в ответ молча кивал.
– Почему ты молчишь? Почему ты все время молчишь? – сердилась Лена. – Скажи что-нибудь критическое!
На плотном листе ватмана цвели оранжевые ноготки, сквозь увядающую траву чернела земля. Потом, много лет спустя, разбирая свои детские рисунки, Елена вдруг поняла, почему Гриша не отзывался на ее сердитые требования – в ее цветах на черной земле было что-то кладбищенское, печальное и страшное одновременно, так буйно могли цвести лишь цветы на могиле. Но о смерти в семье не говорилось, это правило строго соблюдалось – у всех еще были живы воспоминания о тех трех попытках, на которые решился Гриша.
– Почему бы тебе ни нарисовать человека? – спрашивала рассудительная Нюра.
– Портреты мне не очень удаются, – манерничала Леночка. – Мой учитель, Семен Львович, говорит, что моя стихия – натюрморты. Здесь я бог. Знаете, неживую природу гораздо сложнее писать, ведь в ней тоже есть душа, которую чрезвычайно трудно уловить. Натюр-морт – мертвая природа в переводе. Но это неправда, что она мертвая. Семен Львович говорит, что в моем мазке есть что-то от Гогена – яркость красок, сочетание несочетаемого…
– Нельзя себя хвалить, – осуждающе говорила Нюра. – Это нескромно.
– Брось, Нюрка, я просто объективно освещаю реальность!
– Чего-чего?
В такие моменты Григорий обычно улыбался – задорное самолюбие Леночки всегда ободряло его. Как бы банально это ни звучало, улыбка необычайно красила его лицо, морщинки печали и страдания исчезали. Словно солнышко выглядывало из-за горизонта, освещая хмурую холодную землю.
– Ты такой красивый, Гриша! – хлопала в ладоши его племянница. – Нюрка, посмотри, какой Гриша красивый! Нет, пожалуй, тебя я все-таки напишу…
– Улыбайтесь чаще, – энергично советовала Нюра. – И меня нарисуй, Леночка, я твой рисунок застеклю и повешу в рамку.
Лена хватала бумагу, краски, пытаясь скорее ухватить последний солнечный луч. Но выходила какая-то ерунда – Гриша на ее рисунках выглядел как отечественный киногерой, только что совершивший подвиг.
– А что, очень похоже, – пыхтела из-за плеча Нюра.
– Нет, не то. Ужасно банально! – Лена комкала лист, отбрасывала его в сторону.
– Мусорить нельзя! – Подруга подхватывала скомканную бумагу, тащила ее к урне. – И чего ты привередничаешь…
– Портреты мне определенно не удаются.
– Нарисуй меня, вот увидишь – у тебя точно получится, а я застеклю…
– Гриша, я бездарность?
Гриша бледно улыбался и произносил меланхолически:
– Все суета сует и томление духа…
– Гриша, а что такое томление духа?
По малолетству своему и общей необразованности Леночка не умела толковать слова с энциклопедической точностью, их смысл являлся ей в каком-то смутном, красочном виде – зыбкие контуры, заполненные неким цветом. Она еще не могла ничего точно знать, а только подозревала, что за ними что-то скрыто. Но слова «томление духа» вызывали у нее определенные ассоциации – она сама начинала томиться, как молоко в печке, душа замирала тоскливо и испуганно, словно предчувствуя нечаянную радость.
Иногда она садилась перед Гришей на корточки и подолгу вглядывалась в его лицо. Такие «гляделки» не были ему неприятны, но всегда вызывали удивление:
– Чего ты ищешь во мне, Леночка?
– Я любуюсь. Недавно мы с группой ходили в Пушкинский музей, и Семен Львович нам много рассказывал про картины, про всяких там святых и про Давида, который убил Голиафа. Ты эту историю знаешь?
– Примерно. А я что, похож на Давида?
– Нет, на кого-то другого, не помню. Я говорю о том, что людьми можно тоже любоваться, как картинами.
– И что же во мне такого особенного? – усмехался он.
– Вот это я и пытаюсь понять…
– Я самый обыкновенный человек, Елена.
– В тебе есть тайна, – серьезно говорила она, – и я пытаюсь ее понять. А почему ты называешь меня Еленой, как взрослую?
– Потому что ты Елена, а не Алена, Леночка или Ленка. У тебя только одно имя, а всякие производные от него тебе не подходят. Они какие-то исковерканные, уродливые…
– Что такое «производные»? А вообще, ты прав, я сама нечто подобное чувствую, – важно соглашалась она. – Вот взять, например, Нюрку. Ее только Нюркой и можно назвать, а не Аней или Анюткой. Производное может быть главным именем? А у тебя какое главное имя?
– Я не знаю.
– Хорошо, я тебе придумаю.
В этом союзе чересчур самостоятельного ребенка и беспомощного взрослого было что-то трогательное. Окружающие, видя Леночку, толкающую коляску с Гришей, обычно умилялись и пускали сентиментальную слезу. В те времена город был создан только для здоровых людей, всякое отдаление от нормы полноценности вызывало бурную реакцию – Леночку жалели, а ее родителей считали садистами. Гришу тоже жалели, но какой-то особой, жестокой, животной жалостью, радуясь, что несчастье произошло не с ними, а с кем-то другим. И никто не хотел замечать, что несчастных в этой истории, в общем-то, нет. Разве что Гришина жена.
Леночке нравилось возиться с Гришей. Гриша не имел ничего против, что Леночка возится с ним, почему-то в ее обществе он перестал думать о смерти. Да, жалеть можно было только тетю Марину, ставшую жертвой общественного мнения и гипертрофированного чувства долга. Все знакомые и полузнакомые вздыхали над ее нелегкой судьбой, связанной с инвалидом, даже иногда предлагали сдать его в соответствующий приют, но если б она так поступила, немедленно осудили бы. Ни вперед, ни назад. Двойственность положения мучила несчастную Леночкину тетку, она старалась облегчить положение Гриши насколько можно и насколько невозможно, но оттого еще больше не любила его.
Леночка по малолетству своему и особому складу характера всех этих тонкостей не замечала. Вернее, ей было глубоко наплевать на общественное мнение. Ей было хорошо с Гришей – он терпеливо слушал ее болтовню, милосердно скрывал от родителей ее шалости и проступки, за которые ей могли оторвать дома голову, если б узнали о них. Он был дневником, в который девочка заносила свои мысли и впечатления, и, что не менее важно, у него было прекрасное и страдающее лицо распятого бога – как на человека творческого, с художественным вкусом, на Леночку это не могло не действовать. Она решительно не замечала, как вечерами ее тетка, стремительно переделав все домашние дела, исчезает куда-то. Не замечала потому, что Гриша никак не реагировал на уход жены. Раньше его это очень задевало, но с тех самых пор, как в его жизни появилась Леночка, такие мелочи перестали волновать его. Вечер был для него самым интересным временем дня.
– Почитаем? – тихим, серьезным голосом спрашивал он.
– Ага, – так же серьезно отвечала его племянница.
Гриша прекрасно мог читать сам – слава богу, глаза его очень хорошо работали, в отличие от ног, но совместное чтение стало ритуалом, приятным, торжественным и важным, наполнявшим их души особой значительностью.
– Что сегодня?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?