Текст книги "1984. Скотный двор"
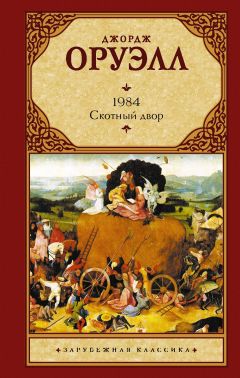
Автор книги: Татьяна Тронина
Жанр: Социальная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Уинстон лежал на чем-то вроде раскладушки, только очень высокой, и был привязан так, что не мог пошевелиться. Прямо в лицо бил яркий свет. Сбоку стоял О’Брайен и пристально смотрел на него сверху. По другую сторону маячил человек в белом халате, держа наготове шприц.
Даже открыв глаза, Уинстон смог сориентироваться не сразу, словно попал сюда, вынырнув из совершенного другого, подводного, мира. Он не знал, сколько там находился. После ареста не видел он ни темноты, ни дневного света. Кроме того, воспоминания были обрывочными. Порой сознание, даже такое зыбкое, как во сне, выключалось, за ним следовала пустота, после которой сознание включалось снова. Невозможно сказать, сколько длилось это беспамятство: то ли дни, то ли недели, то ли считаные секунды.
С удара по локтю начался кошмар. Позже Уинстон понял: то была лишь легкая разминка, обычный предварительный допрос, которому подвергаются все заключенные. Их в обязательном порядке заставляли признаться в целом ряде преступлений, шпионаже, диверсиях и тому подобном. Признание – чистая формальность, зато пытки – самые настоящие. Уинстон не помнил, ни сколько раз его избивали, ни как долго это продолжалось. Одновременно его обрабатывали пять-шесть молодцев в черной форме. Били то кулаками, то дубинками, то стальными прутами, то ногами. Временами Уинстон катался по полу, словно животное, потеряв всякий стыд и тщетно пытаясь увернуться, тем самым лишь провоцируя все новые удары по ребрам, по животу, по локтям, по голеням, в пах, в мошонку, в копчик. Временами это продолжалось до тех пор, пока ему не начинало казаться, что самое мучительное, подлое, постыдное не избиение, а то, что он никак не может потерять сознание. Временами нервы сдавали настолько, что он начинал умолять о пощаде, прежде, чем за него принимались надзиратели, и занесенного кулака ему хватало, чтобы разразиться признаниями во всех мыслимых и немыслимых преступлениях. Иной раз он твердо решал не признаваться ни в чем, и каждое слово приходилось вытягивать словно клещами; или же вяло пытался найти компромисс, говоря себе: «Я признаюсь, но не сейчас. Буду держаться, пока боль не станет невыносимой. Еще три удара, еще два, и я расскажу им все, что хотят». Иногда его избивали так, что он едва держался на ногах, потом заносили в камеру и швыряли на каменный пол, словно мешок с картошкой, оставляли в покое на пару часов, чтобы слегка пришел в себя, выводили снова и продолжали бить. Порой восстановление занимало много времени, и бо́льшую его часть Уинстон почти не помнил, потому что либо спал, либо валялся в беспамятстве. Он помнил камеру с деревянной лежанкой, похожей на пристенную полку, и цинковую раковину, и горячий суп с хлебом, иногда кофе. Он помнил угрюмого парикмахера, который побрил его и подстриг, помнил деловитых, бездушных людей в белых халатах, которые щупали его пульс, проверяли рефлексы, поднимали веки, водили жесткими пальцами по телу в поисках сломанных костей и втыкали ему в руку иголки, чтобы погрузить в сон.
Бить стали реже, в основном угрожали избить в любой момент, если ответы их не устроят. Допрашивали Уинстона теперь не молодцы в черной форме, а дознаватели-партийцы, проворные упитанные человечки в поблескивающих очках, которые работали с ним посменно по десять или даже двенадцать часов подряд. На допросах они внимательно следили, чтобы Уинстон испытывал постоянную легкую боль, но имелись в их арсенале и другие средства. Они отвешивали ему пощечины, крутили уши, дергали за волосы, заставляли стоять на одной ноге, не давали помочиться, светили лампой в глаза, пока те не начинали слезиться, и все ради того, чтобы унизить и лишить способности спорить и рассуждать. Настоящим их оружием были беспощадные, нескончаемые допросы, во время которых дознаватели расставляли ловушки, переиначивали все сказанное, на каждом шагу уличали во лжи и противоречиях, пока Уинстон не начинал рыдать от стыда и нервного истощения. Иногда он плакал раз по шесть на одном допросе. Бо́льшую часть времени его осыпали оскорблениями и угрожали снова отдать на растерзание черным молодцам, но иногда меняли тактику, называли товарищем, обращались от имени ангсоца и Большого Брата и скорбно вопрошали: неужели в нем даже сейчас не проснулась преданность Партии и желание исправить причиненное зло? После многочасовых допросов у Уинстона сдавали нервы, и он мог расплакаться даже от такого обращения. В конце концов назойливые голоса сломили его больше, чем сапоги и кулаки надзирателей. Он обратился в сплошные губы, которые шептали признания, в руку, которая подписывала все подряд. Единственной его заботой было выяснить, что от него хотят услышать, и поскорее в этом признаться, пока следователи не возобновили издевательства. Уинстон признался в убийстве видных членов Партии, распространении антиправительственных листовок, хищении государственных средств, продаже военных тайн, всевозможных диверсиях. Он признался, что шпионил для правительства Востазии еще с шестьдесят восьмого года, что был верующим, приверженцем капитализма, сексуальным извращенцем. Признался в убийстве жены, хотя и он, и следователи прекрасно знали, что жена его жива и здорова. Признался, что много лет контактировал с самим Гольдштейном и состоял в подпольной организации, куда входили буквально все его знакомые до единого. Признаваться во всем и топить всех оказалось легко. К тому же отчасти это была правда: Уинстон и в самом деле был врагом Партии, а в глазах Партии разницы между мыслью и делом не существует.
Память его сохранила и воспоминания иного рода, разрозненные картинки, окруженные темнотой.
Он в камере, но не знает, темно сейчас или светло, потому что не видит ничего, кроме пары глаз. Рядом медленно и мерно тикает какой-то аппарат. Глаза становятся больше, светятся ярче. Внезапно Уинстон отсоединяется от тела, ныряет в эти глаза и тонет.
Он привязан к креслу под слепящими лампами, вокруг какие-то циферблаты. Человек в белом халате снимает с них показания. Снаружи приближаются тяжелые шаги, дверь с лязгом распахивается. Входит офицер с восковым лицом и два конвойных.
«Помещение 101», – говорит офицер.
Человек в белом халате не оборачивается. На Уинстона он тоже не смотрит, только на циферблаты.
Его везут по огромному коридору шириной в километр, залитому дивным золотистым светом, он хохочет в голос и выкрикивает признания. Признается во всем, даже в том, что смог утаить под пытками. Рассказывает историю своей жизни слушателям, которые и так в курсе. Рядом с ним надзиратели, другие заключенные, люди в белых халатах, О’Брайен, Джулия, старик Чаррингтон – все катятся по коридору вместе и стонут от смеха. Нечто ужасное, ожидавшее их в будущем, почему-то не случилось. Все хорошо, боли больше нет, все до единой подробности жизни Уинстона разоблачены, его поняли и простили.
Всякий раз он приходил в себя почти уверенный, что слышал голос О’Брайена. На допросах тот не появлялся, но у Уинстона было ощущение, будто О’Брайен стоит неподалеку, просто его не видно. О’Брайен заправлял здесь всем: натравливал на Уинстона черных молодцев и в то же время не давал им забить его до смерти; решал, когда Уинстону кричать от боли, а когда получать передышку, когда ему есть, когда спать, когда накачивать его наркотиками. О’Брайен задавал вопросы и предлагал ответы. Он был и палачом, и инквизитором, и другом. Однажды (Уинстон не помнил, то ли в наркотическом забытьи, то ли во сне, то ли в момент бодрствования) голос прошептал ему на ухо: «Не бойтесь, Уинстон, теперь вы в моих руках. Я наблюдал за вами семь долгих лет. Решающий момент настал. Я вас спасу, я сделаю вас безупречным». Уинстон не знал наверняка, принадлежал ли голос О’Брайену, хотя тот же голос когда-то пообещал ему в другом сне, семь лет назад: «Мы встретимся там, где нет темноты».
Окончания допроса Уинстон не помнил: наступила темнота, потом вокруг него материализовалась эта камера или комната. Он лежал на спине и не мог пошевелиться, тело стягивали путы, даже голова была надежно закреплена. О’Брайен смотрел на него сверху вниз с серьезным и довольно печальным видом. Лицо его погрубело и постарело, под глазами залегли мешки, от носа к подбородку обозначились усталые складки. Он выглядел старше, чем помнилось Уинстону, лет на сорок восемь или даже пятьдесят. Рука его лежала на аппарате с круговой шкалой.
– Говорил же вам, – напомнил О’Брайен, – если мы и встретимся, то здесь.
– Да, – ответил Уинстон.
Не было ни малейшего предупреждения, лишь легкое движение руки О’Брайена, а тело Уинстона затопила волна боли. Самое страшное, что он не мог понять ее источник, хотя чувствовал: боль чревата смертью. То ли так казалось под действием электричества, то ли его тело на самом деле корежилось, теряя форму, и связки между суставами медленно рвались. От боли лоб покрылся испариной, но хуже всего был страх, что вот-вот переломится позвоночник. Уинстон сжал зубы и тяжело задышал через нос, пытаясь сдержать крик.
– Вы боитесь, – заметил О’Брайен, наблюдая за ним, – что сейчас у вас что-то сломается. Особенно вам страшно за позвоночник. Вы наглядно представили, как позвоночный столб переламывается пополам, как спинномозговая жидкость устремляется наружу. Вы ведь об этом думаете, Уинстон?
Уинстон промолчал. О’Брайен вернул регулятор напряжения в прежнее положение. Волна боли схлынула почти так же быстро, как и накатила.
– Это сорок единиц, – пояснил О’Брайен. – Сами видите, цифры на шкале идут до ста. Во время нашей беседы помните, что в моих силах причинить вам столько боли, сколько я захочу. Солжете, попытаетесь увильнуть от ответа или дурачком прикинуться, сразу закричите от боли. Вам ясно?
– Да, – ответил Уинстон.
О’Брайен отставил суровость, задумчиво поправил очки, немного походил по комнате. Когда он заговорил снова, голос звучал мягко и терпеливо. Он стал похож на доктора, на учителя или даже на священника, который стремится скорее объяснить и убедить в своей правоте, нежели наказать.
– Я вожусь с вами, Уинстон, потому что вы того стоите. Вы прекрасно знаете, что́ с вами не так. И знаете уже много лет, хотя признаться самому себе не пожелали. Вы страдаете психическим расстройством, вас преследуют ложные воспоминания. Настоящих событий вы не помните и убеждаете себя, что помните события, которых не было. К счастью, ваш недуг излечим. Вы не смогли от него избавиться, потому что предпочли этого не делать. Нужно было лишь приложить немного усилий, но вы так и не сподобились. Я прекрасно понимаю, что даже теперь вы цепляетесь за свою болезнь, наивно принимая ее за героизм. Поясню на примере. С какой державой воюет Океания в данный момент?
– Когда меня арестовали, Океания воевала с Востазией.
– С Востазией. Хорошо. И Океания воевала с Востазией всегда, верно?
Уинстон вздохнул. Он открыл рот и не сказал ничего. Он не мог отвести глаз от шкалы.
– Правду, Уинстон. Вашу правду. Скажите, что вы помните, как вам думается.
– Я помню, что за неделю до моего ареста мы вообще не воевали с Востазией. Она была нашим союзником. Война шла с Евразией. И так продолжалось четыре года, а перед этим…
О’Брайен жестом велел ему замолчать.
– Другой пример, – сказал он. – Несколько лет назад у вас случился серьезный, опасный бред. Вы считали, что трое бывших членов Партии по имени Джонс, Аронсон и Резерфорд, которых казнили за измену и вредительство после того, как они полностью сознались в своих преступлениях, не виновны. Вы якобы видели неопровержимое документальное свидетельство, доказывающее, что их признания ложны. У вас возникла некая галлюцинация, точнее, вам привиделась некая фотография. Вы якобы держали ее в руках. Фотография была наподобие этой…
Между пальцами О’Брайена появилась продолговатая газетная вырезка. Секунд пять она маячила перед глазами Уинстона. Это была фотография, причем та самая! Джонс, Аронсон и Резерфорд на партийных торжествах в Нью-Йорке, снимок, который попал ему в руки одиннадцать лет назад и был тут же им уничтожен. Вот снимок есть, а вот его нет. Он же видел, точно видел! Уинстон рванулся, тщетно пытаясь освободиться, но не сдвинулся ни на сантиметр. На миг он даже забыл про шкалу. Ему отчаянно хотелось подержать фотографию в руках или, на худой конец, увидеть ее снова.
– Она существует!
– Нет, – сказал О’Брайен.
Он отошел к противоположной стене, где была дыра памяти, поднял решетку. Теплый поток воздуха подхватил клочок газеты, и тот исчез во вспышке пламени. О’Брайен отвернулся.
– Пепел, прах, – проговорил он. – Восстановлению не подлежит. Фотографии нет и не было никогда.
– Я же сам видел! Она осталась в памяти, я ее помню! И вы тоже.
– Нет, не помню, – заявил О’Брайен.
Сердце Уинстона упало. Вот оно, двоемыслие в действии. Его охватило полное бессилие. Если бы О’Брайен лгал, то ничего страшного. Однако О’Брайен действительно забыл, что видел фотографию! И если так, то он забыл уже и то, что отрицал ее существование, и забыл, что забыл. Вряд ли это можно считать обычным надувательством: скорее безумный вывих мозга… Эта мысль Уинстона буквально добила.
О’Брайен смотрел на него изучающе: вылитый учитель, который пытается вразумить своенравного, но подающего надежды ребенка.
– У Партии есть лозунг про контроль над прошлым, – произнес он. – Будьте так добры его повторить.
– Кто контролирует прошлое, контролирует будущее, – послушно повторил Уинстон, – кто контролирует настоящее, контролирует прошлое.
– Кто контролирует настоящее, контролирует прошлое, – назидательно покивал О’Брайен. – По-вашему, Уинстон, прошлое на самом деле существует?
И снова Уинстоном овладело чувство беспомощности. Его глаза метнулись к шкале. Он не только не знал, какой ответ: да или нет – спасет его от боли, он даже не знал, какой ответ сам считает верным.
О’Брайен чуть улыбнулся.
– Уинстон, вы явно не философ, – заметил он. – До сих пор вы даже не задумывались, что значит существовать. Сформулирую иначе. Существует ли прошлое где-нибудь конкретно, например в пространстве? Есть ли такое место, мир материальных объектов, где прошлое все еще происходит?
– Нет.
– Тогда где же существует прошлое?
– В документах.
– Отлично, а еще где?
– В памяти. В памяти людей.
– Прекрасно. Так вот, мы, то есть Партия, контролируем все документы и память всех людей. Значит, мы контролируем прошлое, верно?
– Разве можно помешать людям помнить? – вскричал Уинстон, на миг позабыв про шкалу. – Это происходит непроизвольно. Это нам неподвластно. Разве вы способны контролировать память? Мою-то вы не контролируете!
О’Брайен снова посуровел и положил руку на регулятор напряжения.
– Напротив, – проговорил он, – это вы ее не контролируете. Потому-то вы сюда и попали. В вас нет ни смирения, ни самодисциплины. Вы не пожелали подчиниться и за это поплатились рассудком. Вы предпочли сойти с ума, остаться в меньшинстве. Лишь приученное к дисциплине сознание способно видеть реальность, Уинстон. По-вашему, реальность материальна, находится извне и существует сама по себе. Природа реальности представляется вам очевидной. Вы глубоко заблуждаетесь, полагая, что видите что-нибудь, и считая, что все остальные видят то же самое. И вот что я вам скажу, Уинстон: реальность находится не где-нибудь вовне, она прямо в человеческом сознании. Разумеется, речь идет не о сознании одного человека (индивид может ошибаться и потому обречен), а о сознании Партии, которое коллективно и бессмертно. Правда то, что считает правдой Партия. Невозможно видеть реальность иначе, кроме как глазами Партии. Этому вам предстоит научиться заново, Уинстон. От вас требуется лишь отказ от ложных убеждений, достигаемый усилием воли. Для того чтобы стать нормальным, вы должны научиться смирению.
Он помолчал, давая Уинстону проникнуться важностью услышанного.
– Помните, – продолжил О’Брайен, – как вы писали в дневнике: «Свобода – это свобода заявить, что два плюс два равно четырем»?
– Помню, – ответил Уинстон.
О’Брайен поднял левую руку тыльной стороной ладони к Уинстону, спрятав большой палец и растопырив остальные четыре.
– Сколько пальцев, Уинстон?
– Четыре.
– А если Партия скажет, что не четыре, а пять – сколько тогда?
– Четыре.
Не успев договорить, Уинстон задохнулся от боли. Стрелка на шкале подскочила до отметки пятьдесят пять. По всему телу выступил пот. Воздух ворвался в легкие и вышел глубоким стоном, которого не смогли удержать даже стиснутые зубы. О’Брайен наблюдал за ним, вытянув четыре пальца. Он перевел регулятор в другое положение. На этот раз боль ослабела лишь слегка.
– Сколько пальцев, Уинстон?
– Четыре.
Стрелка метнулась к шестидесяти.
– Сколько пальцев, Уинстон?
– Четыре! Четыре! Сколько же еще? Четыре!
Вероятно, стрелка поднялась снова, но Уинстон на нее не смотрел. Он видел одно только массивное, суровое лицо и четыре пальца, которые возвышались перед ним словно огромные, расплывчатые колонны. Хотя они слегка подрагивали, их совершенно точно было четыре.
– Сколько пальцев, Уинстон?
– Четыре! Хватит, хватит! Сколько можно? Четыре! Четыре!
– Сколько пальцев, Уинстон?
– Пять! Пять! Пять!
– Нет, Уинстон, лгать бесполезно. Вы все еще думаете, что их четыре. Итак, сколько пальцев?
– Четыре! Пять! Четыре! Сколько вам угодно. Только хватит, хватит боли!
Внезапно Уинстон обнаружил, что сидит и О’Брайен придерживает его за плечи. Похоже, он потерял сознание. Стягивавшие тело путы ослабили. Уинстону было очень холодно, он весь дрожал и лязгал зубами, по щекам текли слезы. Он прильнул к О’Брайену словно дитя, успокоившись под тяжестью руки на плечах. Ему казалось, что О’Брайен – его защитник, что боль исходила извне, от какого-то внешнего источника, и что О’Брайен непременно его спасет.
– Долго же до вас доходит, Уинстон, – ласково заметил О’Брайен.
– А что мне остается? – всхлипнул он. – Разве могу я не видеть того, что перед глазами? Два и два четыре.
– Иногда, Уинстон. А иногда и пять, и три. Бывает, что и то, и другое, и третье одновременно. Вам нужно больше стараться. Нормальным стать нелегко.
О’Брайен уложил его обратно на койку. Путы снова закрепили, зато боль понемногу ушла, дрожь прекратилась, оставив после себя слабость и холод. О’Брайен кивнул человеку в белом халате, который во время процедур неподвижно стоял рядом. Тот склонился над Уинстоном, заглянул ему в глаза, посчитал пульс. Приложил ухо к груди, постучал в разных местах, затем кивнул О’Брайену.
– Еще, – велел О’Брайен.
Тело Уинстона утонуло в боли. На этот раз он зажмурился. Похоже, стрелка поднялась до семидесяти или даже семидесяти пяти. Он знал, что пальцы перед ним и их по-прежнему четыре. Самое главное сейчас пережить конвульсии. Он перестал замечать, кричит или нет. Наконец боль снова уменьшилась. Он открыл глаза. О’Брайен перевел регулятор обратно.
– Сколько пальцев, Уинстон?
– Четыре. Полагаю, их четыре. Будь их пять, я бы увидел. Я стараюсь увидеть пять.
– Чего вы хотите – убедить меня в том, что видите пять пальцев, или действительно их увидеть?
– Увидеть.
– Еще, – произнес О’Брайен.
Наверное, стрелка показывала восемьдесят-девяносто. Периодически Уинстон забывал, отчего ему так больно. Под веками целый лес пальцев двигался в причудливом танце, сплетаясь друг с другом, исчезая и появляясь вновь. Он пытался их сосчитать, но не помнил зачем. Знал, что сосчитать их невозможно, и это как-то следовало из непостижимого тождества четырех и пяти. Боль снова угасла. Он открыл глаза и увидел то же самое: бесчисленные пальцы двигались, словно ходячие деревья, мелькали туда-сюда, переплетались и разъединялись. Уинстон снова зажмурился.
– Сколько пальцев я показываю, Уинстон?
– Не знаю. Не знаю. Вы же меня так убьете! Четыре, пять, шесть… честное слово, я не знаю…
– Уже лучше, – одобрил О’Брайен.
В руку Уинстона вонзилась игла. Почти сразу по телу разлилось блаженное, живительное тепло. Боль почти забылась. Он открыл глаза и благодарно посмотрел на О’Брайена. При виде грузного, в глубоких складках лица, такого некрасивого и такого умного, он расчувствовался. Если бы Уинстон мог, то вытянул бы руку и положил ее О’Брайену на плечо. Сейчас он любил его всем сердцем и не только потому, что тот остановил боль. Вернулось давнее ощущение: по сути, вовсе не важно, друг он или враг, О’Брайен был единственным, с кем можно поговорить. Пожалуй, человек нуждается в понимании куда больше, чем в любви. О’Брайен пытал его и едва не свел с ума, а вскоре, несомненно, отправит на смерть. Но это не имело значения. В некотором смысле они стали больше, чем просто друзьями, так или иначе, они смогли встретиться и поговорить, хотя те самые слова и не прозвучали. О’Брайен смотрел на него сверху с таким выражением, словно думал о том же. Легко и непринужденно он обратился к Уинстону:
– Вы знаете, где находитесь?
– Нет, хотя догадываюсь. В министерстве любви.
– Вы знаете, сколько здесь находитесь?
– Нет. Несколько дней, недель, месяцев… наверное, несколько месяцев.
– Как думаете, зачем мы приводим сюда людей?
– Заставить их признаться.
– Нет, причина в другом. Попробуйте еще раз.
– Чтобы покарать.
– Нет же! – резко вскричал О’Брайен изменившимся голосом. Внезапно лицо его стало одновременно строгим и оживленным. – Нет! Не просто вырвать у вас признание, не покарать. Знаете зачем? Чтобы исцелить! Сделать вас нормальным! Когда вы наконец поймете, Уинстон, что никто не покидает нас неисцеленным? На ваши дурацкие грешки нам плевать. Партию интересуют не действия, а помыслы. Мы не уничтожаем своих врагов, мы их меняем. Понимаете, что я имею в виду?
Он навис над Уинстоном. Снизу его лицо казалось огромным и ужасно уродливым. Вдобавок на нем сиял безудержный восторг, безумная одержимость. Сердце Уинстона сжалось. Сумей он, так вжался бы в койку еще глубже. Он был уверен, что сейчас О’Брайен повернет регулятор просто забавы ради. Однако О’Брайен отвернулся, походил туда-сюда и продолжил уже менее возбужденно:
– Прежде всего учтите вот что: здесь нет места мученикам. Вы наверняка читали про времена религиозных гонений. В Средние века инквизиция потерпела полное поражение. Она намеревалась искоренить ересь, а закончила тем, что ее увековечила. Взамен каждого еретика, сожженного на костре, вставали тысячи других. Почему так вышло? Потому что инквизиция убивала своих врагов в открытую, причем до того, как те раскаются – фактически еретиков убивали из-за того, что те упорствовали в ереси. Люди гибли, не желая отказываться от своих истинных убеждений. Естественно, вся слава доставалась жертве, а позор ложился на голову устроившего костер инквизитора. Позже, в двадцатом веке, появились так называемые тоталитарные режимы: немецкие нацисты и русские коммунисты. Русские искореняли ересь куда более жестоко, чем инквизиция. И они вообразили, будто усвоили ошибки прошлого; в любом случае они знали, что нельзя создавать мучеников. Прежде чем устроить показательный суд, они лишали свои жертвы человеческого достоинства: изнуряли пытками и одиночеством, пока те не превращались в жалких, изуродованных доходяг, которые признаются во всем, что им велят, возводят на себя напраслину, сваливают вину друг на друга, молят о пощаде. И все же через несколько лет история повторилась. Убиенные стали мучениками, их позор забылся. Опять-таки почему? В первую очередь потому, что признания были явно вынужденными и лживыми. Мы подобных ошибок не допускаем. Все признания, которые звучат в этих стенах, – правда. И правдой их делаем мы. И самое главное – мы не позволяем мертвым восстать против нас. Не думайте, что грядущие поколения оценят вас по достоинству, Уинстон. Они о вас даже не услышат. Мы изымем вас из потока истории, превратим в газ и отправим в стратосферу. От вас не останется ничего – ни имени в архивах, ни памяти в головах живых. Вас уничтожат и в прошлом, и в будущем. Словно вас никогда и не было вовсе.
«Тогда зачем меня пытать?» – с горечью подумал Уинстон.
О’Брайен замедлил шаг, словно Уинстон произнес это вслух. Крупное, некрасивое лицо приблизилось, глаза чуть сузились.
– Вы думаете, раз уж мы намерены вас уничтожить, чтобы ничего из сказанного или сделанного вами не имело ни малейшего значения, то зачем утруждаться допросами? Вы ведь это подумали, верно?
– Да, – ответил Уинстон.
О’Брайен слегка улыбнулся.
– Вы изъян в системе, Уинстон. Вы пятно, которое следует вычистить. Разве я не говорил вам, что мы разительно отличаемся от карателей прошлых эпох? Нас не устраивает ни пассивное подчинение, ни угодливая покорность. Когда вы наконец сдадитесь, это должно произойти по вашей собственной воле. Мы не уничтожаем еретика за непокорность – покуда он нам сопротивляется, мы над ним работаем. Обращаем в свою веру, подчиняем себе его разум, перекраиваем на свой лад. Мы выжигаем все зло и иллюзии, перетягиваем инакомыслящего на свою сторону, причем он отдается нам не только внешне, а всем сердцем, всей душой. Прежде чем убить, мы делаем его одним из нас. Партия не намерена мириться с чужим заблуждением, каким бы тайным и бессильным оно ни было. Мы не потерпим отклонений от нашей линии даже в миг смерти! В прошлом еретик восходил на костер все тем же еретиком, провозглашая свою ересь и упиваясь ею. Даже жертва русских чисток, идущая по коридору и ожидающая пули в затылок, могла таить в своих мозговых извилинах мятеж. Мы же приводим мозги в полный порядок, прежде чем их вышибить. Заповеди древних деспотий начинались со слов: «Ты не должен», – заповеди тоталитарных: «Ты должен». Наша заповедь другая, она прямо объявляет: «Ты – это мы!» Никто из тех, кого мы приводим сюда, не смеет идти против нас. Каждого мы очищаем от всей скверны. Даже тех жалких предателей, в чью невиновность вы верили – Джонса, Аронсона и Резерфорда, – мы в конце концов сломали. Я сам участвовал в допросах. Сам видел, как постепенно они прогибались, ломались, скулили и валялись у нас в ногах, а под конец рыдали – не от боли, не от страха, а от раскаяния. К тому моменту, как мы с ними закончили, они были лишь пустыми оболочками. В них не осталось ничего, кроме сожаления о том, что они совершили, и любви к Большому Брату. Весьма трогательное зрелище. Они умоляли пристрелить их поскорее, мечтали умереть, пока совесть чиста.
Голос О’Брайена звучал мечтательно, на лице проступил самозабвенный восторг фанатика. Он ведь не притворяется, думал Уинстон, не лицемерит, он и в самом деле верит в то, что говорит. Хуже всего на него подействовало сознание собственной неполноценности. Уинстон наблюдал за грузной и в то же время элегантной фигурой, что расхаживала взад-вперед, то исчезая, то снова попадая в поле зрения. О’Брайен превосходил его по всем статьям. Не было и не могло прийти ему в голову такой мысли, какую О’Брайен не узнал бы, не изучил и не отбросил уже давным-давно. Его разум вбирал в себя разум Уинстона. Но если так, то разве мог О’Брайен быть сумасшедшим? Нет, сумасшедший здесь он, Уинстон…
О’Брайен остановился и посмотрел сверху вниз. Голос его снова посуровел.
– Не думайте, что вам удастся спастись, Уинстон. Тех, кто сбился с пути хоть раз, щадить нельзя. Даже если мы позволим вам прожить отведенный срок, вы все равно никуда от нас не денетесь. То, что происходит здесь, – навсегда. Усвойте это уже наконец. Мы сломаем вас навсегда, возврата не будет. От такого не оправиться и за тысячу лет! Обычные человеческие чувства станут вам недоступны. Внутри все вымрет. Можете забыть о любви, о дружбе, о радостях жизни, о смехе, о любопытстве, о мужестве, о чести. Мы выжмем из вас последние соки, сделаем совершенно пустым, а потом заполним собой.
Он замолчал и кивнул человеку в белом халате. Уинстон почувствовал, как к голове приставили какой-то громоздкий прибор. О’Брайен присел возле койки почти вровень с лицом Уинстона.
– Три тысячи, – велел он человеку в белом халате.
К вискам Уинстона приложили две мягкие, чуть влажные подкладки. Он содрогнулся в ожидании новой боли. О’Брайен успокаивающе, чуть ли не ласково коснулся его руки.
– Больно не будет, – пообещал он. – Смотрите мне в глаза.
И тут грянул всесокрушающий взрыв, хотя шума вроде и не было. По глазам ударила вспышка света. Никакой боли, лишь ступор. Хотя Уинстон и так лежал на спине, у него возникло странное чувство, словно его сбила с ног и распластала по койке взрывная волна чудовищной силы. И еще что-то случилось внутри головы. Когда вернулась четкость взгляда, он вспомнил, кто он и где находится, узнал маячившее перед ним лицо, однако при этом ощущал зияющую пустоту, словно из черепа вынули кусок мозга.
– Это продлится недолго, – сказал О’Брайен. – Смотрите мне в глаза. С какой страной воюет Океания?
Уинстон подумал. Он знал, что такое Океания и что он ее гражданин. Еще он помнил Евразию и Востазию, но понятия не имел, кто с кем воюет. Собственно, он даже не знал, что идет война.
– Не помню.
– Океания воюет с Востазией. Теперь помните?
– Да.
– Океания всегда воевала с Востазией. С самого начала вашей жизни, с самого основания Партии, с самого начала истории война шла беспрерывно, всегда одна и та же война. Вы это помните?
– Да.
– Одиннадцать лет назад вы состряпали легенду про трех человек, которых приговорили к смерти за измену. Вы притворились, что видели кусок газеты, который доказывал их невиновность. Газета – фикция, которую вы сами выдумали, а потом в нее уверовали. Теперь вспомните тот самый момент, когда это произошло. Вспомнили?
– Да.
– Только что я держал перед вами руку. Вы видели пять пальцев. Помните?
– Да.
О’Брайен поднял левую руку, спрятав большой палец.
– Их пять. Вы видите пять пальцев?
– Да.
Уинстон и впрямь видел их – мимолетно – до того, как в мозгу сменилась картинка. Он видел пять пальцев, и не было в том никакого уродства. Потом все опять стало нормальным, и прежний страх, ненависть и оторопь вновь всей толпой навалились на него. Но был кусочек времени… он не помнил, сколько тот длился, секунд тридцать, пожалуй… сиятельной определенности, когда каждое новое предложение О’Брайена заполняло пустоту и становилось абсолютной истиной и когда два и два давали в сумме три столь же легко, как и пять, смотря, сколько требовалось. Ощущение исчезло еще до того, как О’Брайен опустил руку, но Уинстон его запомнил, хотя и не смог бы воспроизвести. Так помнится яркое событие прошлого, когда ты был, по сути, другим человеком.
– Теперь понимаете, что при желании возможно все? – спросил О’Брайен.
– Да, – ответил Уинстон.
О’Брайен встал с довольным видом. Слева от него человек в белом халате вскрыл ампулу и наполнил шприц. О’Брайен с улыбкой повернулся к Уинстону и почти в прежней манере поправил очки на носу.









































