Текст книги "1984. Скотный двор"
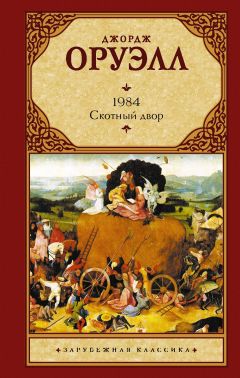
Автор книги: Татьяна Тронина
Жанр: Социальная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Уинстону стало гораздо лучше. Он набирал вес и силы с каждым днем, если уместно говорить о днях. Хотя слепящий свет и непрестанный гул никуда не делись, его перевели в чуть более удобную камеру. На нарах теперь лежали подушка и матрас, и еще был табурет, чтобы сидеть. Уинстону дали помыться целиком и позволили регулярно споласкиваться в жестяном тазу, причем в теплой воде. Ему выделили новый комплект белья и чистый комбинезон. На трофическую язву наложили повязку с болеутоляющей мазью. Остатки зубов удалили, их заменили протезы.
Вероятно, прошли недели или даже месяцы. Поскольку кормили теперь регулярно, Уинстон мог бы следить за временем, если б захотел. Судя по всему, питание он получал трижды в сутки, иногда он задавался вопросом, происходит ли это днем или ночью. Еда была на удивление вкусной, каждый третий раз с мясом. Однажды ему выдали пачку папирос. Спичек не полагалось, но молчаливый надзиратель иногда давал прикурить. От первой папиросы Уинстону стало дурно, потом пошло полегче, и он растянул пачку надолго, выкуривая после еды по полпапиросы.
Ему выдали белую доску для безопасного письма с привязанным в углу огрызком карандаша. Сначала Уинстон ею не пользовался. Даже бодрствуя, он ощущал полное безразличие. Между приемами пищи лежал почти неподвижно, иногда дремал, иногда просто не мог открыть глаза, предаваясь смутным грезам. Он давно привык спать с бьющим в лицо светом – это больше не мешало, лишь делало сны чуть более упорядоченными. В последнее время Уинстону снилось много снов, причем всегда радостных. То он бродит по Золотой стране, то сидит среди грандиозных, живописных, залитых солнцем развалин с матерью, Джулией и О’Брайеном, просто сидит на солнышке и беседует с ними о приятных вещах. Просыпаясь, Уинстон думал в основном о том, что ему приснилось. Похоже, с исчезновением болевого стимула он разучился прилагать умственные усилия. Он не испытывал ни скуки, ни желания беседовать или развлекаться. Его вполне устраивало, что он может побыть один, что его не бьют и не допрашивают, да еще кормят вдоволь и дают помыться.
Постепенно Уинстон стал меньше спать, но подниматься с койки не испытывал ни малейшего желания. Ему хотелось просто лежать и чувствовать, как в теле накапливаются силы. Он ощупывал себя, стараясь убедиться, что ему не мерещится и мышцы действительно наливаются, а кожа становится более упругой. Наконец он уверился, что набрал вес: бедра определенно стали толще коленей. После этого взялся, поначалу нехотя, за зарядку. Он понемногу занялся моционом. Вскоре он проходил по три километра, меряя камеру шагами, и согнутые плечи постепенно распрямились. Попробовав более сложные упражнения, Уинстон с удивлением и негодованием обнаружил, сколько всего ему не удается. Он не мог перейти с ходьбы на бег, не мог держать табурет в вытянутой руке, не мог стоять на одной ноге, не падая. Приседая, он чувствовал мучительную боль в икрах и бедрах и едва поднимался в исходное положение. Уинстон лег на пол, попробовал отжаться. Бесполезно: не сдвинулся ни на сантиметр. И лишь через несколько дней – и приемов пищи – даже этот подвиг ему удался. Пришло время, когда он смог отжаться целых шесть раз подряд! Уинстон начал гордиться своим телом и тешить себя надеждой, что лицо тоже приходит в норму. Лишь случайно касаясь рукой лысого черепа, он вспоминал морщинистое, изуродованное лицо, какое увидел в зеркале.
Разум тоже прояснялся. Уинстон садился на койку, прислонялся к стене, клал на колени доску и методично занимался самообразованием.
Он капитулировал, в том не оставалось сомнений. На самом деле, как Уинстону стало ясно теперь, капитулировал он задолго до того, как принял осознанное решение. Попав в министерство любви – и даже в те минуты, когда они с Джулией беспомощно стояли, выслушивая указания железного голоса с телеэкрана, – Уинстон понял несерьезность попытки пойти против Партии. Как выяснилось, полиция помыслов семь лет наблюдала за ним, словно за жуком под лупой. Замечалось абсолютно все: любой поступок, любое сказанное вслух слово, любая мысль, промелькнувшая на лице. Даже белесую соринку с обложки дневника аккуратно возвращали на место. Ему проиграли аудиозаписи, показали фотографии. На некоторых Уинстон с Джулией… Да, в мельчайших подробностях… Бороться с Партией он больше не мог. К тому же Партия всегда права. Так и должно быть, разве может ошибаться бессмертный коллективный разум? По каким внешним стандартам проверишь его на вменяемость? Здравый смысл измеряется статистикой. Нужно всего лишь научиться думать, как они. Всего лишь!..
С непривычки карандаш казался толстым и неудобным. Уинстон начал записывать мысли, приходившие ему в голову. Он вывел неуклюжими заглавными буквами:
СВОБОДА ЕСТЬ РАБСТВО
И почти без паузы написал ниже:
2 + 2 = 5
Дело застопорилось. Уинстону никак не удавалось сосредоточиться, он словно нарочно увиливал. Знал, что должно следовать дальше, но не мог припомнить. И лишь приложив сознательное усилие, а не по наитию, написал:
БОГ ЕСТЬ ВЛАСТЬ
Уинстон принял все. Прошлое изменяемо – прошлое не менялось никогда. Океания воюет с Востазией – Океания всегда воевала с Востазией. Джонс, Аронсон и Резерфорд виновны в предъявленных обвинениях. Он никогда не видел фотографию, доказывавшую их невиновность. Ее никогда не существовало, он сам ее придумал. Он помнил и обратное, но то были ложные воспоминания, результат самообмана. До чего все легко! Лишь сдайся, а остальное приложится. Все равно что плыть против течения, которое сносит назад, как бы сильно ты ни выкладывался, а потом вдруг решить развернуться и поплыть по течению. Не изменилось ничего, кроме твоего отношения: предначертанное произойдет в любом случае. Уинстон уже не понимал, зачем вообще стал бунтарем. Все теперь легко, кроме…
Правдой может быть что угодно. Так называемые законы природы – чепуха. Закон гравитации – чепуха. «Если бы я захотел, – сказал О’Брайен, – то мог бы взмыть над полом как мыльный пузырь». Уинстон задумался. «Если он думает, что взмыл над полом, и я тоже думаю, что вижу, как он это сделал, значит, так и есть на самом деле». Внезапно, как на поверхности воды появляется обломок кораблекрушения, в его сознании всплыла мысль: «Этого нет. Мы все выдумали. Это галлюцинация». Уинстон поспешно ее подавил, как заведомо ложную. Мысль предполагала, что где-то вне его сознания существует некий реальный мир, где происходят реальные события. Разве такой мир существует? Любые знания дает нам наше сознание. Значит, все происходит лишь в нашем сознании, и что бы там ни происходило, оно и есть правда.
Уинстон избавился от этого заблуждения без труда и не поддался ему. Тем не менее он понимал, что таким мыслям вообще в голове не место. Как только опасная мысль западает, сознание создает своего рода слепое пятно, причем процесс должен происходить автоматически, по инстинкту. На новослове это называется «криминалстоп».
Он начал упражняться в криминалстопе: формулировал утверждения («Партия говорит, что Земля плоская», «Партия говорит, что лед тяжелее воды») и заставлял себя не видеть или не понимать доводов, которые им противоречат. Это давалось нелегко, требовало огромных мыслительных усилий и большой ловкости. Арифметические сложности, связанные с задачей «два и два равно пяти», лежали за пределами его умственных возможностей. К тому же требовался своего рода атлетизм ума, способность одномоментно виртуозно пользоваться логикой, а в следующий миг по-глупому игнорировать грубейшие логические ошибки. Глупость требовалась не меньше, чем разумение, и давалась с не меньшим трудом.
И все это время он задавался вопросом: когда же его расстреляют? «Все зависит только от вас», – заверил О’Брайен, но Уинстон знал, что никоим образом не в силах приблизить этот миг сознательно. Это могло произойти и через десять минут, и через десять лет. Его могут продержать в одиночке долгие годы, могут послать в трудовой лагерь, могут ненадолго выпустить. Вполне вероятно, что перед расстрелом будет снова разыграна та же пьеса: арест, допросы. Единственное, что известно наверняка: смерть всегда внезапна. По традиции (по негласной традиции, разумеется) в приговоренного стреляют сзади, в затылок, без предупреждения, пока ведут по коридору из камеры в камеру.
Однажды – как всегда, непонятно, то ли днем, то ли ночью, Уинстон впал в странное, блаженное забытье. Он шел по коридору, ожидая пули. Знал, что это произойдет в любую минуту. Вопрос был решен, все дела улажены, все противоречия устранены. Не осталось ни сомнений, ни возражений, ни боли, ни страха. Он шагал легко, радуясь движению и почему-то чувствуя на себе лучи солнца. И вот он уже не в длинном белом коридоре министерства любви, а в огромной, залитой солнцем галерее километр шириной, в которую вроде бы уже попадал, когда его накачивали наркотиками. Он очутился в Золотой стране и шел по тропинке через изрытый кроличьими норами луг. Под ногами пружинил мягкий дерн, кожу ласкало солнце. На краю поля чуть покачивались на ветру вязы, вдали струился ручей, где в заводях под ивами плавают ельцы.
Внезапно Уинстон в ужасе вскочил, обливаясь по́том, и услышал свой громкий крик:
– Джулия! Джулия! Джулия, любимая! Джулия!
На миг ему показалось, что она рядом. Точнее, не с ним, а внутри его, словно проникла ему под кожу. И в этот миг он любил ее гораздо больше, чем когда они были вместе и на свободе. Еще каким-то чутьем он угадывал, что она жива и нуждается в помощи.
Уинстон опустился на койку и попытался взять себя в руки. Что же он наделал? Сколько еще лет добавил к своему тюремному заключению, поддавшись минутной слабости?
Скоро раздастся топот шагов. Такой порыв чувств они просто не могут оставить безнаказанным. Теперь они точно знают, что он нарушил соглашение. Он подчинился Партии, но все еще ненавидел ее. Прежде Уинстон скрывал еретические мысли под маской подчинения, теперь отступил еще на шаг: разумом сдался, в душе же надеялся остаться прежним. Уинстон знал, что не прав, и продолжал упорствовать. Его поймут: О’Брайен наверняка все понял! Уинстон выдал себя одним глупым воплем.
Придется все начинать заново. На это могут уйти годы… Уинстон провел рукой по лицу, пытаясь свыкнуться с новыми очертаниями. На щеках залегли глубокие складки, скулы заострились, нос стал плоским. Кроме того, ему сделали зубные протезы. Нелегко сохранять невозмутимость, если не знаешь, как выглядит твое лицо. В любом случае владения мимикой явно недостаточно. Впервые до него дошло, что скрывать тайну нужно не только от окружающих, но и от себя самого. Знаешь, что она есть, и до поры до времени держишь ее за границей сознания, не позволяя обрести ни форму, ни имя. Отныне он должен не только думать правильно, но и правильно чувствовать, видеть правильные сны. И в то же время должен держать свою ненависть под замком, словно шарик материи, который стал его частью и в то же время существует отдельно от организма, как киста.
Когда-нибудь они решат его расстрелять. Заранее не узнаешь, но за несколько секунд догадаться можно. Выстрелят сзади, пока будут вести по коридору. Десяти секунд хватит. И тогда мир внутри его перевернется. И вот без единого слова, не сбиваясь с шага, не дрогнув лицом, он сбросит маску – и бах! врубит свою ненависть на полную. Ненависть заполнит его, как ревущее пламя. И почти в тот же миг – бах! – вылетит пуля, и будет слишком поздно или слишком рано. Они разнесут его мозг прежде, чем сумеют им завладеть. Еретическая мысль останется безнаказанной, грешник ускользнет нераскаянным. Они сами пробьют брешь в своей безупречности. Умереть с ненавистью к ним и есть свобода.
Уинстон прикрыл глаза. Это куда сложнее, чем дисциплина ума. Придется распрощаться с остатками достоинства, изувечить себя, нырнуть в самую клоаку. Что может быть страшнее всего? Он вспомнил Большого Брата. Перед мысленным взором Уинстона возникло огромное, метр в ширину, лицо с густыми черными усами и неусыпно следящим за тобой взглядом – такое как на плакатах. Что же он на самом деле испытывает к Большому Брату?
В коридоре раздались тяжелые шаги. Железная дверь с лязгом распахнулась. В камеру вошел О’Брайен. За ним маячили офицер с восковым лицом и надзиратели в черной униформе.
– Встаньте, – велел О’Брайен. – Подойдите сюда.
Уинстон подчинился. О’Брайен сжал его плечи обеими руками и пристально взглянул в глаза.
– Вы хотели меня обмануть, – сказал он. – Зря. Станьте прямо. Не отводите взгляд.
О’Брайен помолчал, потом несколько смягчил тон.
– Вы делаете успехи, Уинстон. Умом вы почти исцелились, но в эмоциональном плане продвинулись мало. Скажите… и помните, не смейте мне лгать, ложь я всегда распознаю… скажите, что вы испытываете к Большому Брату?
– Я его ненавижу.
– Ненавидите, значит. Отлично. Значит, настало время для последнего этапа. Вы должны любить Большого Брата. Простого подчинения недостаточно, вы должны его полюбить.
О’Брайен выпустил Уинстона и чуть подтолкнул к надзирателям.
– Помещение сто один, – произнес он.
VНа каждом этапе своего заключения в этой башне без окон Уинстон знал, где находится, или думал, что знает. Возможно, сказывались небольшие различия в атмосферном давлении. Камеры, где его избивали надзиратели, располагались в подземной части. Комната, где его допрашивал О’Брайен, – под самой крышей. А это помещение скрывалось глубоко под землей, в самом низу.
Здесь было просторнее, чем в других камерах, хотя обстановку Уинстон особо не разглядывал. Он обратил внимание лишь на два небольших столика, покрытых грубым зеленым сукном. Один стоял в метре или двух перед ним, другой вдалеке, возле двери. Он сидел на стуле, привязанный так крепко, что не пошевелиться. Голову сзади обхватывал мягкий держатель, позволявший смотреть только вперед.
Дверь открылась, вошел О’Брайен.
– Как-то вы спросили, что находится в помещении сто один, – напомнил он. – Я ответил, что это и вам самому известно. Это всем известно. В помещении сто один то, что ужаснее всего на свете.
Дверь снова открылась. Вошел надзиратель с какой-то проволочной клеткой или корзиной и поставил ее на дальний стол. О’Брайен загораживал обзор, поэтому Уинстон не смог ничего разглядеть.
– То, что ужаснее всего на свете, – пояснил О’Брайен, – у всех разное. Кто-то боится быть похороненным заживо или посаженным на кол, погибнуть в огне или утонуть… способов казни существует предостаточно. Некоторые боятся чего-то вполне банального, даже несмертельного.
Он чуть отступил в сторону, и Уинстон увидел, что стоит на столике. Прямоугольная проволочная клетка с ручкой для переноски наверху. К передней части крепилась штука, похожая на фехтовальную маску, вогнутой стороной внутрь. Даже на расстоянии трех-четырех метров Уинстон разглядел, что клетка делится на две части и в каждой кто-то копошится. Крысы.
– В вашем случае, – заметил О’Брайен, – самое ужасное на свете – крысы.
Уинстон содрогнулся, едва внесли клетку, и предчувствие не обмануло. Он сразу сообразил, для чего нужна маска, и его точно ударили под дых.
– Не надо! – вскрикнул он высоким, надтреснутым голосом. – Только не это! Только не это!
– Помните, – осведомился О’Брайен, – миг паники в своем кошмаре? Вы стоите перед стеной мрака, в ушах рев. За стеной что-то ужасное. Вы всегда знали, что там, но не отваживались себе признаться. Там были крысы, Уинстон.
– О’Брайен! – воскликнул Уинстон, пытаясь унять дрожь в голосе. – Вы же знаете, что это лишнее. Чего еще вы от меня хотите?
От прямого ответа О’Брайен уклонился. Он задумчиво посмотрел вдаль и заговорил тоном школьного учителя, словно обращаясь к невидимой аудитории за спиной Уинстона.
– Случается, одной боли недостаточно. Некоторые люди способны терпеть боль до самой смерти. Однако у всех есть то, что для них невыносимо. Мужество и трусость тут ни при чем. Если падаешь с высоты, то схватиться за веревку не трусость. Если выныриваешь из воды, то наполнить легкие воздухом не трусость. Это всего лишь инстинкт, который нельзя подавить. То же самое и с крысами. Для вас они невыносимы. Такого давления вы не в силах выдержать, даже если захотите. Вы сделаете все, что от вас потребуют.
– Но что, что? Как я могу сделать то, чего не знаю?!
О’Брайен поднял клетку, перенес к ближнему столу и аккуратно поставил на зеленое сукно. В ушах Уинстона застучала кровь. Внезапно он ощутил полное одиночество, словно сидит посредине громадной бесплодной равнины, плоской выжженной пустыни, и все звуки доносятся с огромного расстояния. При этом клетка с крысами находилась всего метрах в двух от него… Крысы были чудовищные, матерые, с побуревшей шкурой, с тупыми носами.
– Крыса, – продолжал О’Брайен, обращаясь к своим невидимым слушателям, – хотя и грызун, зато плотоядный. Полагаю, вам это известно. Вы слышали, что творится в беднейших кварталах нашего города. Женщины боятся оставить маленьких детей одних даже на минуту. Крысы тут же нападут и за считаные минуты обглодают младенца до костей. Еще у них удивительное чутье на хворых и умирающих, которые неспособны защититься.
В клетке поднялся визг. До Уинстона он донесся словно издалека. Крысы устроили драку: пытались достать друг друга через перегородку. Еще он услышал глухой стон отчаяния, тоже донесшийся как бы извне.
О’Брайен поднял клетку и на что-то нажал. Раздался громкий щелчок. Уинстон рванул изо всех сил, пытаясь высвободиться. Бесполезно, все части тела и даже голова были совершенно обездвижены. О’Брайен придвинул клетку. До лица Уинстона оставалось меньше метра.
– Я нажал на первый рычаг, – пояснил О’Брайен. – Конструкция клетки вам понятна. Маска обхватывает лицо плотно, деться вам некуда. Когда я нажму на второй рычаг, дверца клетки поднимется и эти ненасытные твари вылетят из нее пулей. Доводилось видеть крысу в прыжке? Они прыгнут вам на лицо и вгрызутся в плоть. Иногда они начинают с глаз. Иногда прогрызают щеки и пожирают язык.
Клетка придвигалась все ближе и ближе. Уинстон услышал череду пронзительных воплей, раздававшихся где-то над головой, но продолжал яростно бороться с паникой. Думать, думать, думать до последнего – единственная надежда. Вдруг его ноздрей коснулась смрадная, затхлая вонь. К горлу подкатила тошнота, и он едва не лишился сознания. Вокруг все почернело. На миг он превратился в безумное, визжащее животное. И все же из темноты Уинстон вынырнул, цепляясь за мысль. Спастись можно только одним-единственным способом: закрыться от крыс другим человеком, подставить его вместо себя.
Проволочная маска заслонила собой все. Дверца находилась совсем близко от лица. Крысы сообразили, что скоро произойдет. Одна принялась скакать вверх-вниз, другая тварь с длинным чешуйчатым хвостом, владыка сточных канав, встала, схватилась розовыми лапками за решетку и яростно втянула носом воздух. Уинстон разглядел усы, желтые зубы, и на него вновь нахлынула черная паника. Он ослеп, оглох, ошалел от ужаса.
– Подобный вид пытки был весьма распространен в Китайской империи, – назидательно сообщил О’Брайен.
Маска почти закрыла лицо, проволока коснулась щеки. И тогда Уинстон испытал еще не облегчение, нет, лишь проблеск надежды. Поздно, наверное, слишком поздно. Внезапно он понял, что на всем свете найдется лишь один человек, которого можно подставить вместо себя, – одно тело, которым он может отгородиться от крыс. И он истошно завопил, повторяя снова и снова.
– Возьмите Джулию! Возьмите Джулию! Не меня! Джулию! Мне все равно, что с ней будет. Пусть крысы сгрызут с ее лица кожу, пусть обглодают до костей. Только не меня! Джулию! Не меня!
Он падал назад, в бездонные глубины, прочь от крыс. Он все еще сидел, прикрученный к стулу, но при этом проваливался сквозь пол, сквозь стены здания, сквозь землю, сквозь океаны, сквозь атмосферу, в открытый космос, в межзвездное пространство – прочь, прочь, прочь от крыс. Он был в миллионах световых лет отсюда, и все же О’Брайен стоял рядом, щеки еще касалась холодная проволока. И тут сквозь сомкнувшуюся мглу до Уинстона донесся металлический щелчок, и он понял, что дверца клетки закрылась.
VIВ кафе «Каштан» было почти пусто – посетителей в пятнадцать часов всегда немного. На пыльные столешницы падал косой луч солнца. С телеэкранов раздавалась дребезжащая, назойливая музыка.
Уинстон сидел в своем привычном углу, глядя в пустой стакан. Время от времени он поднимал взгляд на лицо, смотревшее с противоположной стены. «Большой Брат следит за тобой», – гласила надпись. Не дожидаясь просьбы повторить, подошел официант, вновь наполнил стакан джином «Победа» и добавил несколько капель сахарина с гвоздикой из бутылки с трубочкой в пробке. Фирменный коктейль кафе «Каштан».
Уинстон прислушивался к телеэкрану. Сейчас передавали музыку, но в любой момент следовало ждать специальной сводки из министерства мира. Новости с африканского фронта поступали чрезвычайно тревожные. Уинстон переживал из-за этого целый день. Евразийская армия (Океания воюет с Евразией – Океания всегда воевала с Евразией) продвигалась на юг ужасающими темпами. В дневном спецвыпуске конкретных мест не называли, и вполне вероятно, что битва уже идет в устье Конго. Браззавиль и Леопольдвиль в опасности, и не нужно смотреть на карту, чтобы понять, насколько все серьезно. Теперь речь шла не только о потере Центральной Африки, впервые за всю войну под угрозой оказалась территория Океании.
Уинстона охватило душевное волнение, не совсем страх, скорее неясное смятение, и тут же сошло на нет. Думать о войне он перестал. В эти дни он не мог сосредоточиться ни на чем дольше нескольких секунд. Поднял стакан и осушил его залпом. Как всегда, джин заставил содрогнуться и чуть не пошел обратно. Отвратное пойло. Даже гвоздика с сахарином, сами по себе весьма мерзкие, не могли заглушить убогий сивушный запах, а хуже всего, что вонь джина, не оставлявшая его ни днем, ни ночью, напоминала запах…
Он никогда не называл их, даже мысленно, и пока удавалось гасить в сознании их вид. Крысы чудились ему постоянно, копошились возле лица, их запах щекотал ноздри. Джин поднялся к горлу, и Уинстон рыгнул сквозь сиреневые губы. С тех пор как его выпустили, он располнел и обрел прежний цвет лица, если не сказать больше. Черты погрубели, кожа на носу и скулах стала грубой и красной, даже лысина налилась темно-малиновым. Снова подошел официант, принес шахматы и свежий выпуск «Таймс», открытый на шахматном этюде. Увидев, что стакан Уинстона пуст, сходил за бутылкой и налил джина. Звать официанта и делать заказ даже не требовалось: тут его привычки знали. Шахматная доска всегда ждала Уинстона, угловой столик всегда отведен для него; даже если в кафе становилось людно, он сидел в одиночестве, поскольку никому не хотелось быть замеченным в его обществе. Время от времени официант подавал грязный клочок бумаги, так называемый счет, но Уинстону чудилось, что с него берут подозрительно мало. Впрочем, деньги его не заботили, теперь их хватало с избытком. У него даже была работа – настоящая синекура, куда лучше оплачиваемая, чем прежняя.
Музыка с телеэкрана прекратилась, зазвучал голос. Уинстон поднял голову и прислушался. Не сводка с фронта, всего лишь короткое объявление от министерства благоденствия. Сообщили, что в прошлом квартале Десятый трехгодичный план по производству шнурков перевыполнен на девяносто восемь процентов.
Уинстон изучил этюд и расставил шахматы на доске. Это было сложное окончание партии с двумя конями. «Белые начинают и ставят мат в два хода». Уинстон посмотрел на портрет Большого Брата. Белые всегда ставят мат, суеверно подумал он. Всегда, без исключения, так уж устроено. Ни в одном шахматном этюде с сотворения мира черные никогда не выигрывали. Не символизирует ли это вечный, неизбежный триумф добра над злом? Огромное лицо ответило ему спокойным, властным взглядом. Белые всегда ставят мат.
Голос с телеэкрана сделал паузу и добавил другим, гораздо более мрачным тоном:
– Внимание! В пятнадцать тридцать мы сделаем важное объявление. В пятнадцать тридцать! Новости крайне важные, не пропустите. В пятнадцать тридцать!
И снова забренчала назойливая музыка.
Сердце Уинстона забилось чаще. Вот и сводка с фронта, интуиция подсказывала, что грядут плохие новости. Весь день при мысли о разгромном поражении в Африке на него накатывали короткие приливы волнения. Он так и видел, как евразийская армия ломится сквозь прежде неприступную границу и заполоняет оконечность континента, словно колонна муравьев. Почему не удалось как-нибудь обойти их с флангов? Береговая линия Западного побережья буквально стояла у него перед глазами. Он взял белого коня и перенес на противоположный конец доски. Вот где правильное место! Он видел, как черная орда несется к югу, и вдруг таинственным образом появляется другая сила, врезается ей в тыл, перекрывает сообщение с сушей и морем. Уинстон чувствовал, что усилием воли вызывает эту силу к жизни. Действовать надо без промедления. Если им удастся взять под контроль всю Африку, если захватят аэродромы и базы подлодок на мысе Доброй Надежды, то Океания расколется надвое. И тогда возможно буквально все: поражение в войне, развал страны, передел мира, уничтожение Партии! Уинстон глубоко вздохнул. В нем боролись весьма противоречивые чувства, причем в их дикой мешанине отдельные элементы располагались слоями, и нельзя было разобрать, чего там больше.
Наконец волнение отхлынуло. Он поставил белого коня на место, но уже не мог сосредоточиться на этюде. Мысли снова разбрелись. Почти неосознанно Уинстон вывел пальцем на пыльном столике:
2 + 2 = 5
«В нутро к тебе им не влезть», – сказала когда-то Джулия. Зато в твое влезть сумели. «Происходящее здесь с вами, оно навсегда», – сказал когда-то О’Брайен. Точное слово нашел. Есть такое, твои собственные поступки, от чего не оправиться никогда. Что-то убито в твоей груди: сгорело, выжжено дотла.
Он виделся с ней, даже разговаривал. Уинстон ничем не рисковал, он интуитивно чувствовал, что его дела их почти не интересуют. Мог бы увидеться с Джулией и еще раз, если б возникло такое желание. На самом деле встретились они случайно, в парке. Стоял промозглый мартовский день, когда земля тверда, как железо, трава кажется мертвой, и нигде ни единого зеленого листочка, не считая жалких крокусов, вылезших будто на растерзание ветру. Он торопливо шел, руки заиндевели, глаза слезились, и вдруг метрах в десяти увидел ее. Джулия разительно изменилась, хотя Уинстон сразу не понял, что именно не так. Они почти разминулись, и тут он, передумав, неохотно последовал за ней. Джулия молча свернула на лужайку, надеясь, что Уинстон отстанет, потом смирилась с его присутствием. Вскоре они очутились в жалких зарослях безлистного кустарника, не укрывающего ни от чужих взглядов, ни от ветра. Было ужасно холодно. Ветер свистел в ветвях и безжалостно трепал редкие, замызганные крокусы. Уинстон обнял девушку за талию.
Телеэкранов рядом нет, зато наверняка есть скрытые микрофоны. К тому же их было видно. Значения это не имело, ничто уже не значило. Они могли бы улечься на землю и заняться этим, если б захотели. Мысль эта всю его плоть вогнала в ужас. Джулия оставила без ответа все пожатия его руки на талии, даже отстраниться не пыталась. Теперь он понял, что в ней изменилось. Лицо стало еще более землистым, через лоб к виску тянулся длинный шрам, чуть прикрытый волосами, но не в том была перемена. Она в том была, что талия ее раздалась и как-то удивительно отвердела. Ему вспомнилось, как однажды после разрыва ракеты он помогал вытаскивать из развалин труп, как поразился не столько невероятной тяжести тела, сколько его жесткости и неподатливости, так и казалось, что держишь не плоть, а камень. Таким же под его рукой было сейчас и тело Джулии. В голове его гнездилась мысль, что и кожа ее уже совсем не та, какою когда-то была.
Он не пытался ее поцеловать, оба молчали. Когда шли по траве обратно, она в первый раз в упор взглянула на него. Один краткий взгляд, зато полный презрения и неприязни. Уинстон гадал, вызвана ли неприязнь одним только прошлым или еще и его пропитым лицом да влагой, какую то и дело выжимал ветер из его глаз. Они сели в железные кресла, бок о бок, но не слишком близко. Он видел, что Джулия вот-вот заговорит. Она передвинула свой грубый башмак на несколько сантиметров и нарочито хрустко переломила ветку. «Ступни у нее стали шире», – отметил про себя Уинстон.
– Я тебя предала, – напрямик выговорила она.
– Я тебя предал, – произнес он.
Она вновь бросила на него быстрый неприязненный взгляд.
– Иногда тебе грозят тем, чего ты не в силах вынести, даже в мыслях. И тогда ты говоришь: не делайте этого со мной, сделайте с кем-то другим, сделайте это с тем-то и тем-то. После, может, и притворишься, будто ты просто схитрила и сказала так, чтоб только пытки прекратились, а на самом деле ничего это не про то. Только это неправда. В тот момент, когда пытают, ты и впрямь про то. Думаешь, мол, никак иначе себя не спасешь и вполне готова спастись именно так. Ты хочешь, чтоб оно случилось с кем-то другим. Тебе плевать, что кто-то будет страдать. Заботишься только о себе.
– Заботишься только о себе, – эхом отозвался он.
– А после такого нет у тебя больше прежних чувств к тому, другому.
– Да, – молвил он, – того же уже не чувствуешь.
Больше, похоже, говорить было не о чем. На ветру их тонкие комбинезоны липли к телу. Внезапно сидеть и молчать стало слишком неловко, к тому же они замерзли. Джулия, пробормотав что-то про то, что надо успеть в подземку, поднялась.
– Нам надо еще встретиться, – предложил он.
– Да, – кивнула она, – нам надо еще встретиться.
Уинстон нерешительно двинулся следом, чуть позади. Больше они не разговаривали. Джулия вовсе не пыталась от него ускользнуть, просто торопливо шагала вперед, не давая себя нагнать. Поначалу Уинстон собирался проводить ее до подземки, но вдруг понял, сколь бессмысленна и невыносима эта прогулка по холоду. Захотелось поскорее очутиться подальше от Джулии, желательно в теплом кафе «Каштан», что сейчас манило как никогда. Он затосковал по своему столику в углу, по газете и шахматам, по нескончаемому джину. Самое главное, там тепло. И он дал группе прохожих обойти себя, потом для очистки совести попытался нагнать Джулию, наконец замедлил шаг и двинулся в противоположную сторону. Пройдя метров пятьдесят, оглянулся. Хотя на улице было не особо людно, среди дюжины спешащих прохожих разглядеть Джулию уже не сумел или просто не узнал сзади ее раздавшееся, ожесточившееся тело.









































