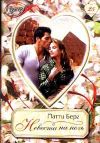Текст книги "Счастливы по-своему"

Автор книги: Татьяна Труфанова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава 7
– Что я делаю? Пеленки глажу, – голубиным голоском лепетала Юлька. – Да, с двух сторон. Да, чтоб ни микроба… Ой! Яся проснулся! Прости, мам, я тебе вечером позвоню.
Она прикрыла глаза от стыда. Стыдно было не от вранья, а от того, что в ней ни на грош смелости. Сказать, что со вчерашнего дня бросила Ясю на мужа? Ха! Для Юльки это так же возможно, как выйти на канат под куполом цирка и прогуляться туда-сюда. Она не сообщала раньше матери о том, что ищет няню и собралась на работу, потому что та непререкаемо заявила ей: до года нужно сидеть с ребенком. Лучше бы до двух, но до года – это без обсуждений. Иначе… Дальше начинался длинный список тех травм и ущерба, который нанесет Ярославу разлучение с матерью. «Я сидела с тобой до двух лет. Сейчас вы, понятно, разбалованные, чем-то жертвовать – это для вас нелепость. Но хотя бы до года…» Вот так клубились, разрастались в Юлиной голове тирады маман, звучал громко резковатый, глубокий голос – хотя телефонный разговор закончился.
– Я даже не ожидала, что в провинциальном музее… – послышался восторженный голос, и в зал вошла пара лет сорока, он и она в одинаковых джинсах.
Юля переглянулась с пожилой смотрительницей зала и скорчила мину. Да знаете ли вы, что это один из лучших областных музеев?! Что у нас великолепная коллекция русского авангарда? Что наша «Мадонна с единорогом» Фра Анджелико только что вернулась с выставки в Нью-Йорке? Знаете ли… Мысленно Юлька разгромила столичных снобов в пух и прах, но они этого не заметили: они увидели Кандинского и, повернувшись к ней спиной, заахали перед свистопляской цветных фигур.
Юля беззвучно вздохнула и перешла в соседний зал. Там висела одна из ее любимых картин – «Парижский бульвар» Константина Коровина. Взгляд сверху на вечернюю реку людей, на сотни разноцветных огней – если постоять в тишине перед картиной, то через минуту начинаешь слышать неясный гул: будто шарканье тысячи подошв по бульвару, и разговоры, и смех, вдруг поднявшийся вверх женский голос, музыка, цоканье копыт по мостовой, скрип колес, шум ветра, а над этим взлетает шепот: «Oh, Paris!..» Юлька усмехнулась. Вот ее Париж. Чтобы попасть туда, ей не нужны деньги, виза и самолет. Этого Парижа ее никто не сможет лишить.
«Между прочим, это все благодаря родной матери», – произнес в голове знакомый голос.
«Между прочим, зайти в музей посмотреть на Коровина я и сама могу», – возразила Юлька. В своих мыслях она была весьма дерзкой спорщицей.
«Да-да, по билету, – снисходительно сказала маман. – Но работу хранителя в лучшем музее города ты получила только благодаря моим знакомствам».
На это ответить было нечего, поэтому Юля поспешила заняться делом. По внутреннему коридору она перешла во второе здание музея, пристроенное сзади к старинному графскому особняку. Особняк выходил на главную площадь и был виден всем, а этот невзрачный рыже-кирпичный дом не видел почти никто, ибо он смотрел на глухой переулок и был полускрыт высоченным забором, что к лучшему – внешность у него была самая заурядная. Зато внутри, на нижнем этаже и в подвале, находились сокровища. Пожалуй, за экспонаты хранилища не стали бы драться Лувр и Вашингтонская галерея, но по обычным человеческим меркам это были именно сокровища, и ради них, конечно, стоило возводить бетонный трехметровый забор и ставить видеонаблюдение.
Идя вниз по лестнице, Юля вспоминала свой вчерашний побег. Что это было? Словно вулкан в ней взорвался. Месяцами копил напряжение, а потом – бух! И пошли клочки по закоулочкам, вместе с Юлиным здравым смыслом… Какое счастье, что она не уехала вчера в Петербург! И как жаль, что она купила билет! Истратила две тысячи, отложенные на подарок Степе. Двенадцать дней осталось до его дня рождения, где она возьмет деньги?.. Вулкан взорвался, и теперь она чувствовала себя опустошенной и виноватой, но под слоями вины и сожалений грелось удовлетворение от того, что она таки добилась своего и вышла на работу.
Юля спустилась в подвальный этаж. Здесь было холодновато, она порадовалась, что захватила шерстяную шаль. Бетонный пол был чисто выметен, но все равно неуловимо пахло пылью. Юля открыла магнитным ключом одну из дверей, табличка на которой сообщала: «Зап. Европа, ДПИ» («ДПИ» значило – декоративно-прикладное искусство). Всю длинную комнату, направо и налево от центрального прохода, занимали застекленные стальные стеллажи, выкрашенные унылой горчичной краской, а на них выстроились объекты, при одном виде которых у любого антиквара загорелись бы глаза. Здесь были резные шкатулки из ливанского кедра, янтарные четки, когда-то умиротворявшие крестоносцев, серебряные кубки, из которых пили богатые ганзейские купцы, тяжелые фаянсовые блюда, вмещавшие целиком жареного гуся, и крохотные лаковые табакерки. Почти все эти богатства, наравне с живописью и прочим, были после 1917 года свезены в город со всей губернии, из тех усадеб, что еще не были разграблены ошалевшими от вольницы крестьянами. Какой-нибудь Николай Николаевич Н-ский, помещик, владелец обширного имения с садами, лесными угодьями и лугами, путешествуя по Европе, заходил в лавки торговцев редкостями, крутил в руках венецианский кинжал с узким холодным лезвием, с рукоятью, блестевшей перламутром, говорил: «Беру». А еще брал ковчежец лиможской эмали с золочеными фигурками святых на бирюзовом и синем фоне – раритет тринадцатого века, а еще брал флорентийскую майоликовую вазу с когтистым грифоном… Это если помещик Н-ский был человеком разбирающимся. Если же не было у него ни желания, ни вкуса рыться в старинных цацках, то он просто покупал в парижском магазине поросяче-розовый, с гирляндами, фарфоровый сервиз, в который ткнула пальчиком жена, вез его в Россию и потом хвастался перед соседями тарелками с росписью по новейшей моде 1843 года. Так или иначе, а только и лиможский ковчежец, и уцелевшие тарелки покинули после революции своих хозяев – либо были отняты грубо, кулаком и наганом, либо вытянуты голодом, бедностью, выкуплены за бесценок. Бурный поток награбленного – кубков, кресел, музыкальных шкатулок, живописных мадонн и скульптурных нимф – растекался к новым хозяевам и мог бы уйти под землю. Большая удача, что помимо тысяч грабителей нашелся десяток энтузиастов, создавших музей. Поток награбленных ценностей прошел через музей, как через сито, желтый особняк о шести белых колоннах уловил лучшее и очистил вещи от крови, от скорби. Пожалуй, никто из посещавших Домский художественный музей не задумывался о происхождении его великолепных экспонатов. А Юля, беря тонкой рукой какую-нибудь легкомысленную, гладенькую фарфоровую пастушку, часто видела на ней тень далекого, давнего бедствия.
В число ее обязанностей входил присмотр за почти семью сотнями предметов в комнате «Зап. Европа, ДПИ». Нужно было следить, не начал ли окисляться металл часов и стилетов, хорошо ли чувствует себя шелк вышитых кошельков, не подобрался ли к резным дубовым креслам особенно хитрый жучок и так далее. За девять месяцев отсутствия Юли никто этим не занимался, так что она приступила к перебору хранилища первым делом, как только вышла на работу. Сегодня она решила заняться шкафом с бронзой.
Через полчаса Юлька присела на табуретку. Статуэтки, солонки, чернильницы, пресс-папье… Гладкие бронзовые девы, рыкающие львы, носороги, шары, артишоки… Снять с полки, осмотреть, вернуть, поставить в списке галочку или начеркать примечание – она повторяла эту последовательность раз за разом. В руке у нее сейчас была статуэтка размером с яблоко – бронзовый орел, дымчато-зеленый благодаря благородной патине, раскинул крылья и взлетал с небольшого круглого постамента. Не заглядывая в список, Юля на глаз аттрибутировала бы орла началом девятнадцатого века. В тишине, сопровождаемой лишь гудением потолочных ламп, Юля крутила в руках статуэтку, вела пальцем вдоль рельефной надписи, опоясавшей по боку постамент. «Saint-Germain et fils» – «Сен-Жермен и сыновья», видимо, название фирмы, выпускавшей эти статуэтки. Забавно, подумала Юлька, фирму-то назвали именем известного оккультиста! Разделителем надписи, свернутой в кольцо, служили две рельефные сандалии с крылышками на пятках. В том, что крылатая обувь Гермеса, посланца олимпийцев и покровителя магов, была не случайным украшением, а эмблемой мастера, не было ничего удивительного – во Франции эпохи Наполеона античная мифология была весьма популярна.
Юля надавила на одну из сандалий – и вдруг что-то щелкнуло у нее под рукой. Дно постамента оказалось не цельным, а прикрытым круглой крышкой, которая сейчас распахнулась. Под ней, как в шкатулке, в углублении виднелся припудренный пылью круг с делениями-рисочками, как у часов, только без цифр. В центре из круга выступала объемная горбатая стрелка, одна-единственная, указывавшая сейчас на самое крупное из делений – видимо, на полночь.
Юлька чуть слышно взвизгнула от удовольствия, держа перед собой находку. Такие маленькие открытия случались в ее работе редко. Как же понять горбатую стрелку? Она рассматривала потайной круг так и сяк… Конечно, не компас – стрелка ведь недвижима. Больше всего это походило на антикварный механический таймер. Пару раз она видела такие в каталогах.
Французская штучка, статуэтка с секретом. Скорее всего, сделали ее в Париже, такой удачный подарок для столичных буржуа, ценящих время и выдумку. Эх, Париж! Подумать только, что они со Степой могли бы побывать там! Она бы по-французски выговаривала: «дайте мне два круассана», «как пройти к площади Звезды?» Прогулялась бы по той улице, где Д’Артаньян повстречал госпожу Бонасье, сунула бы нос в кафе, где завсегдатаями были Гоген и Ван Гог… Мечты! Ей скоро двадцать семь, а она до сих пор никогда не бывала за границей. Юля ощущала это, будто печать на лбу – печать провинциальности. И побывает ли? Как всегда, денежный вопрос… Но подумать только! Оказывается, они со Степой могли бы полететь в свадебное путешествие в Париж! Как жаль, что… Юлька оборвала себя. Степан ничего принимать от отца не хотел, а значит, сожаления о пропавшей поездке – сродни предательству.
Чтобы проверить, работает ли этот старинный таймер, Юля надавила на стрелку, но та не сдвинулась. Эх вы, парижане! Небось, если б немцы делали, до сих пор бы работало… Париж… Снова перед ее глазами замелькали образы города, который она, скорее всего, никогда не увидит: сказочные башни Нотр-Дама, Эйфелева башня, серебристая Сена, делящая город на респектабельный правый и артистический левый берег… Под сильным нажимом стрелка сдвинулась вбок на несколько миллиметров, издав тихий, насекомый скрежет. Юлька отпустила ее – и тут с ней случилось нечто совершенно неожиданное.
Секундное головокружение, тьма в глазах – и она увидела себя сверху, будто из-под потолка, увидела тело Юлии Соловей, сидящей на черном офисном стуле между двух высоких стеллажей. Потом снова кинулась в глаза тьма, словно кто-то махнул громадным крылом перед лицом, а когда темнота рассеялась, Юля перестала понимать, где она.
Зал хранилища был отлично освещен, а тут нахлынул полумрак, и пахнуло рекой и рыбой. Совсем рядом в сумраке гомонили люди, галдели сразу на нескольких языках, отчего слитный говор был абсолютно непонятен, а к тому же пол под ногами покачивался, и воздух был совершенно другой – пронзительный, свежий, только снаружи такой может быть, но не за семью дверями. Откуда-то донесся протяжный, быстро оборвавшийся мощный гудок, и сразу впереди забрезжил светлый овал, сумрак стал отступать, а Юля вместе со всеми этими незнакомцами вокруг – а их сгрудилось десятка два, не меньше, – покачиваясь, двинулась вперед, к светлому плеску, к небу и реке под выгнутым краем моста. «Вот ты какая, ладья Харона…» – пришло в голову. Еще несколько секунд – и они выплыли на корабле под эмалевое, ласковое голубое небо.
Справа вырастала сложенная из крупных каменных блоков набережная, на ее подножии стояли двое парней, закинув в реку удочки, их короткие толстые тени распластались по бежевой стене. Спереди надвигался большой катер, похожий на раздутую, застекленную белую мыльницу, это он гудел и с него доносился увеличенный динамиками голос, вещавший что-то на английском. Юля огляделась. Нет, так не может выглядеть Лета! Впереди над набережной вставал ряд домов с безупречной стройностью окон, с тонкими ребрами-пилястрами, с высокими серыми крышами, в этих домах было что-то столь изящное, что страсть как захотелось увидеть их ближе. Только захотелось, как сразу качка под ногами исчезла, от нее отодвинулся вниз корабль, отодвинулась и распростерлась внизу плещущая синяя река, а сама Юля помчалась к ближайшему зданию – дворцу из светлого камня, в три исполинской высоты этажа, с чепцовой крышей, из которой радостно вырастали каменные трубы. Юля помчалась и вдруг чуть не вскрикнула: как это? я лечу?
Она оглядела себя и не увидела. Видела нежное небо, реку в каменных объятьях набережной, воздух – а себя не видела. Словно сама превратилась в воздух. Но все происходящее было так странно и невозможно, что еще одной странности Юлька не смогла удивиться. Ладно, лечу. Ладно, невидима.
Вдоль стены дворца, из которой выступали пилястры, лепные завитки и головы кудрявых фавнов, она плавно спустилась к майской зелени деревьев и к улице. Ноги беззвучно коснулись мостовой: похоже, невидимая Юлька теперь была не плотной-плотской, а кисейно-бесплотной. Улица была короткой и тихой, громче звуков Юля слышала сейчас запахи: что-то сладкое-кондитерское, бензиновый шлейф от проехавшего грузовичка, цветочно-пряный от седой дамы, прошагавшей мимо и задевшей Юлю полой своего бежевого тренча.
Впереди, на углу этой тенистой улочки, блестела витрина, а над высоким крыльцом висела кованая, ажурная эмблема с неразборчивым названием – почему-то Юля сразу подумала, что это кафе. Можно было пройтись туда, по надписям понять, на каком языке здесь говорят, или, в конце концов, зайти внутрь и попробовать объясниться, ведь она очень неплохо знала французский и сносно – английский… Юля сделала несколько шагов вперед, бормоча про себя на английском: «Не могли бы вы подсказать, какой это город?» – но тут вспомнила, что невидима и в собеседницы не годится.
– Все страньше и страньше, – сказала она.
Смуглый, рабочего вида мужчина, прошедший мимо нее, не повернул головы на ее голос.
– Вы меня не слышите? Нет?
Улица была обсажена платанами, и Юля прислонилась к одному из них, к теплому стволу в светло-зеленых, оливковых, бархатных пятнах, прошлась пальцами вверх по коре, а затем, встав на носочки, медленно взмыла вверх вдоль ствола, порхнула через прозрачную майскую листву и полетела вверх, вверх, к небу.
Через несколько секунд она развернулась. Город лежал под ней, как великая, выстланная перламутром раковина, и восхищенный взгляд перекатывался по нему жемчужиной, везде находя только красоту. А что это был за город? Блестела рыбьей чешуей река. Светло-серые дома теснились на двух островах и на том, что побольше, вырастал из площади готический собор. А вдалеке виднелся невесомый силуэт – словно весенняя голая ветка, что вот-вот расцветет, словно легкий рисунок коричневой тушью на голубом – та самая, банальная, неповторимая башня. Tour Eiffel!
Так она в Париже! Увидела все-таки! Жаль только, что не при жизни… Ясно было, что ничем иным, кроме перехода в мир иной, этот полет объяснить нельзя, и от жалости к себе, от грандиозности города под ней, от того, что великолепный этот город сбылся только таким образом, Юлька заплакала. Тут все и кончилось.
Глава 8
Обочина кладбищенской дороги заросла разнотравьем высотой по колено, кустами, побегами ольхи. Из тени плакучей ивы вылетела бабочка-белянка, замелькала крыльями, словно чья-то испуганная душа. Бабочки и птицы, а людей в будний день, в среду, было здесь немного. Майя чуть сжала руку, которой держала сына под локоть. Они шли не спеша, нога в ногу, рядом. Ей хотелось запомнить это ощущение – она и сын, идут рядом. Солнце греет ей щеку, над травой гудят шмели, а сын несет каллы, белые с прозеленью раструбы. Надо запомнить, он ведь скоро уедет.
Богдан никогда не любил ходить с ней к отцу на кладбище. Наверно, она сама виновата: сначала слишком часто его с собой брала. Первый год она каждую субботу ездила. Всегда находилось что сделать: убрать листья и сор, вычистить снег, а главное – поговорить с ним, с Толей. Для тринадцатилетнего мальчишки это было слишком. Но ей было нужно ездить к Толе.
За оградой два гранитных надгробия рядом: под черным – Анатолий, под серым – его отец с матерью. Богдан сложил цветы к памятникам. Майя внимательно оглядела газон. Хорошо подстригли, не зря она деньги платит. Хотя… у Толиного камня выросли два кустика сныти. Майя опустилась на колени, не жалея свое черное с бирюзовым, во Флоренции купленное платье, вынула из сумки мотыжку длиной в две ладони и безжалостно подрубила сныть под корень. Богдан проворчал: «Зачем ты сама? Сказала бы мне», но помогать не стал. Да боже ты мой, приехал с ней – и на том спасибо.
– Что-то вспомнилось. Я ведь только лет в шестнадцать поверил, что отец действительно здесь лежит.
– В каком смысле? – подняла голову от травы Майя.
– Ну, его же в закрытом гробу хоронили. Я думал: может, он, а может, не он? Думал: отец мог уехать куда-нибудь. Скрыться.
– От нас с тобой уехать? Чушь!
Богдан пожал плечами.
Майя тяжело поднялась с колен, беззвучно охнула, оперлась о сына. Затем села на скамейку.
– А я вспомнила, как ты в день похорон, вечером, стал «Семнадцать мгновений весны» смотреть.
– О-о! – закатил глаза Богдан.
– Знаешь, как мне горько было?
– Знаю! Ты мне сказала. А потом еще раз сказала. Мам, его же первый раз показывали, вся страна прилипла к ящику, улицы с семи до восьми были пустые. А я был тринадцатилетний остолоп! Ну, ударь меня, только не попрекай больше!
Майя качнула головой.
– Я про что, если ты не верил, что отец погиб, – тогда мне понятно.
Вот оно что – не верил. А она тогда заглядывала Дане в беспокойные, убегающие глаза, спрашивала: как ты можешь? Оказывается, он не верил.
– Отец – он был страшно зол, что его перестали выпускать за границу, – говорил Богдан, похлопывая ботинком по траве. – Ваши бесконечные разговоры на кухне – вы думали, я сплю? Я все слышал. Я представлял, что он добрался до Батуми и ночью переплыл границу с Турцией. Кстати, были такие случаи. А отец плавал, как касатка.
– Чушь! Из Батуми в Турцию?
– А что? Отец Москва-реку переплыл со связанными руками и ногами! На спор, помнишь, он рассказывал?
– Переплыл, когда был студентом. Ах ты мой балбес. – Майя обняла сына, прижалась головой к его замшевому боку. – Какой ты был балбес! Только мальчишка может верить, что его сорокапятилетний отец – с животиком, с сединой – одной левой проплывет двадцать километров. Только мальчишка видит в своем отце полубога.
– Пфф! Не мой случай. Поехали, а?
После кладбища они, как договаривались, отправились к Майе. В квартире было прохладно: Майя нарочно оставила окна открытыми, чтобы ветер выдул даже намек на запах лекарств и болезни. Сын обошел комнаты, осматриваясь, остановился посреди яично-желтой гостиной, ковырнул ногой марокканский ковер в рыжих ромбах. Добрался-таки до матери на третий день. А раз добрался, то ясно: собрался в Москву. Кладбище (в качестве одолжения маме), затем обед с ней – и педаль в пол. Как жаль…
– Жаль, что нельзя привязать мужчину к своей юбке, – еле слышно сказала Майя.
– Послушай, а где абажур? – недовольно спросил Богдан, задрав голову к люстре с тремя хрустальными тюльпанами.
– Какой абажур?
– Ну, естественно, тот, который всегда здесь висел! – нетерпеливо объяснил сын. – Мандариновый, с бахромой. Тот, который сначала был у деда Альберта на даче, а потом к нам переехал.
– Ох, господи… У всего есть свой срок.
– Выбросила?! – обиделся Богдан. – Мой любимый абажур? Мой абажур?
Майя махнула рукой с досадой. Она уже не помнила, куда отправила абажур – к друзьям или на помойку. И вообще, претензии сына, не навещавшего этот дом десять лет, просто смешны!
Богдан взял с полки фаянсовую голову мавра, увенчанную гирляндой лимонов, – Майя купила ее на Сицилии. Кончик его прямого носа коснулся черного носа мавра.
– Вот так, Чернушка, – сказал Богдан. – У всего свой срок, говорят. Лучшие воспоминания детства у меня с этим абажуром. В одном круге света все вместе, смех, разговоры… Финита! Истек срок воспоминаний! На свалку мое детство… И обои ты поменяла. Шторы другие, диван другой. Картины…
– Славная пастель, правда? – Майя указала на пышную, в духе Ботеро, персиковую женщину со скрытым шляпой лицом, сидящую на морском пляже. – Она из Барселоны. Этот рисунок из Праги, на Карловом мосту сидел художник.
– А это убожество? – Богдан указал на косой акварельный натюрморт с ученически выписанными розанами.
– Это я месяц назад нашла в коробке. Степа нарисовал лет в двенадцать.
Богдан притворно застонал.
– Боже ж мой! Да, линия наша идет на понижение. Помнится, мне отец талдычил: «Я в двенадцать лет стал шахматным чемпионом Москвы среди юношества! – Он заговорил высоким, комично негодующим голосом. – А ты в двенадцать лет – чемпион двора по валянию дурака!» Хо-хо! Что бы он сказал про Степу – ой-ей!
Майя поджала губы, но сказала только:
– Помоги мне на стол накрыть.
Блюдо с маленькими пирожками, ее фирменными, – одни с гречкой и солеными груздями, другие с телятиной. В хрустальной селедочнице вытянулась серебряная толстая сельдь, уложеная на кольца замаринованого лука. Крупные черные маслины в голубой миске – Майя запомнила по пятилетней давности визиту в Москву, что Даня маслины любит.
– Богиня! Кудесница! – Сын схватил по пирогу в руку и стал кусать по очереди. – Обожаю пироги, обожаю тебя! А вон в той кастрюле на плите, там, дай угадаю, там – да? Он?
Через пять минут по тарелкам был торжественно разлит огненный борщ и украшен снежком сметаны, да россыпью укропа, да снабжен справно нарезанным, душистым бородинским хлебом.
– Ты знаешь, что Анатолий выиграл первенство в двенадцать лет. А знаешь ли ты, что его отца посадили в этот же год?
– Деда Альберта? – сощурился Богдан.
– Да. Он тогда работал в тресте, заготавливавшем лес.
Майя попробовала борщ и отложила тяжелую серебряную ложку. Борщ-то был отличный, другого она не делала, но аппетит к ней опять не явился.
– В тридцать седьмом году взяли все начальство этого треста, – продолжила она. – Вдруг они стали шпионы. Вдруг доперли, что раз экспортом занимаются, то – связь с заграницей, шпионы. А потом стали хватать тех, кто пониже. Ему повезло, что он не в Москве, под Кинешмой был.
– Я вообще не знал, что дед сидел, – перебил Богдан.
– Я говорю, повезло, что его взяли под Кинешмой. Он там лес выбраковывал. В каком-то райцентре сидел в тюрьме. Просидел полгода, его дело еще не раскрутили – там не Лубянка, не спешили. А потом сняли Ежова, поставили Берию. Объявили, что прежде была «ежовщина», стали чистить тех, кто под Ежовым, стали пересматривать дела – некоторых выпустили. В том числе Альберта.
– Везучий был дед!
– Да. Только он вышел с выбитыми зубами и с отбитыми почками. И без прежней веры в людей… Толя рассказывал, первое время отец от каждого стука в дверь вздрагивал. Тогда-то они переехали из Москвы в Домск. Подальше от столичных дел.
– Почему мне не рассказывал никто?
Майя усмехнулась.
– Потому что мы все приучились забывать и молчать. В этом была советская власть. Но я даже не про Альберта Анатольевича, я про твоего отца. Представь, каково ему было! Вот он чемпион Москвы, отличник, гордость школы. А через месяц – сын врага народа. Его вмиг из пионеров исключили. Но главное – друзья отвернулись. Его через неделю в подворотне поймали, избили, на спине написали мелом: «Враг народа». Сын врага – значит, сам тоже враг. Понимаешь, у него было будущее, мечты, шахматы. В один раз прихлопнули! Ни будущего, ни друзей.
– Ох-ох-ох, – без жалости поохал Богдан, хватая с тарелки пироги. – Ой, бедный папа. И шахматы вернулись, и прочее. Потому что деда оправдали. Так? Все у отца было: турниры, поездки, призы, слава. А если б он не продул Бобби Фишеру – так было б все и даже больше, – заключил он, подбирая губами капустные пряди.
Майя встала, отвернулась к балкону. Ей хотелось бы не слышать последних слов Дани. Почему он так жесток к отцу? Будто про постороннего говорит… За окном у проезжавшего троллейбуса сорвался ус с проводов, троллейбус встал посреди дороги, с лязгом раскрылась передняя дверь, и выскочил злой, небритый маленький водитель – материться и прилаживать ус на место. А за дорогой равнодушно шумели кроны высоких сосен и лип в парке.
– С каждым днем все меньше остается людей, которые помнят Толю. Исчезает его след, как краска тает в воде. Уже никто, кроме меня, не заступится за него перед тобой… – вздохнула Майя.
Сын молчал.
– Даня! Между прочим, непримиримыми бывают только не очень умные люди.
– Если у тебя в духовке лежит кулебяка – я все прощу! Кстати, о непримиримых: знаешь, что учудил Степан?
Майя достала еще теплую кулебяку, выложила на голубую фарфоровую тарелку со сценой охоты, привезенную Толей давным-давно из Дрездена, а Богдан тем временем рассказал, что был у сына дважды, в первый раз, кажется, поругался с ним – кажется или поругался? – да уже не помню, ну, сказал что-то, а он принял близко к сердцу… и так далее. Майя уяснила, что Степа надулся, как лягух, и даже не показал ему внука.
– Ну естественно, – рассеянно сказала Майя.
– По-твоему, это естественно?! – возмутился Богдан. – Ко мне вахтеры сердечней относятся, чем родной сын!
– А что ты, собственно, хочешь? – склонила голову Майя.
– Я семью хочу!
Сын воскликнул это с таким праведным негодованием, будто ему не давали забрать уже оплаченный стаканчик мороженого.
– Это какую семью? – переспросила Майя. – Когда все собираются за столом, под одним абажуром, шутки-смех, папочка дорогой, ах, как мы тебя любим?
Богдан нахмурился и вгрызся в сектор кулебяки.
– Даня, знаешь пословицу: что потопаешь, то и полопаешь? Ты семью себе не натопал. Ты много в Москве трудился, и я горжусь тобой. Ты натопал себе квартиру, дом, путешествия, независимость… много всего ты сам заработал. И я тобой горжусь.
– Вот, значит, как? – сердито спросил Богдан.
Он встал, широко расставив ноги, упер руки в бока, словно собирался прочесть отповедь, но молчал.
– Уезжать собрался, да? – спросила Майя. – Так и уедешь, не повидав Ярослава?
– Нет, что ты! Я проникну к ним в дом, как тать, украду Яро… – начал Богдан, но у него зазвонил телефон, он взглянул на экран и, увидев, кто звонит, изменился в лице. Лицо его стало шатким и взволнованным, словно он снова студент, плохо выучивший к экзамену учебник.
– Я на минуту, – сказал он матери, вставая и выходя в коридор.
– Петр Сергеевич, здравствуйте! Очень хорошо, я как раз хотел… – услышала Майя, а затем Богдан плотно прикрыл за собой дверь.
Но минуту спустя через открытую дверь балкона стали слабо доноситься слова. На балконе всегда было слышно, если кто-то говорил в соседней комнате с открытым окном. «Я могу на сто процентов гарантировать… – прилетал голос сына с ветром. – Я завтра буду в Москве, и мы…» Майя закрыла дверь на балкон. Ей очень даже хотелось бы послушать, переменившееся лицо Богдана говорило, что звонок весьма, весьма важный. Но подслушивать – нет! Никогда не опускалась до этого, и поздно начинать.
Через десять минут Богдан вернулся – порозовевший, будто выходил не в гостиную, а в баню.
– Так ты уезжаешь или не уезжаешь? – спросила Майя, словно их разговор не прерывался.
– Чаю хочу! – объявил Богдан и сам ринулся к шкафчикам, застучал дверцами, зазвенел фарфором, банками, ложками, что-то пряча в этом шуме и звоне.
– Нет, я же говорю, что не уезжаю. Отпуск у меня! – говорил он, заваривая чай. – Я побуду в Домске. Пару недель, как раз на день рождения Степы схожу. Осталось только, чтоб он пригласил. О! Придумал! Ты с ним поговоришь!
– Как будто нет у меня больше дел, – задумчиво сказала Майя.
Сын фыркнул, но затем повернулся и, комично стеная, пал и сложил полуседую голову Майе на колени.
– Ой, что ж такое! Ой, некому слово доброе за меня замолвить!
Майя положила руку ему на голову, погладила короткие кудри.
– Ма-ма. Ну, мам. Давай. Вправь Степе мозги. Я знаю, ты можешь.
– Что за лексикон? – нахмурилась Майя.
Ох. А кто, кроме нее? Никто. Для Богдана отношения – что игрушка: покручу, поверчу, а сломаю – починю. Степа же закипает медленно, но уж если обиделся – то надолго и крепко… Хорошо, пока она с ними. А потом кто их мирить будет?
– Мам! – нетерпеливо позвал Богдан. – Повлияй на Степу!
– Я попробую.
Юля шла по Гороховой улице к дому. Подул ветер, запахло сиренью – большой, бело-розовый куст цвел у соседей напротив. Она приблизилась к знакомому сизому забору, поднесла руку к деревянным доскам с облезающей краской. Кувыркавшийся в струе ветра весенний листок пронесся через ее грудь, вызвав внутри легкую щекотку. Юля хихикнула и перелетела через забор.
Вчера ее парение над Парижем кончилось так: перед глазами крылом махнула темнота, желудок взмыл вверх, голова закружилась… Мгновение болтанки – и она опять очутилась в музейном хранилище, в подвальной комнате с рядами стеллажей.
На полу боком лежал бронзовый орел. Все было в точности таким же, как обычно, и в нерушимом покое лежала по углам пыль, игнорируя адреналиновое буханье в груди у Юли. Еле слышно гудели лампы на потолке. Она встала со стула, на подгибающихся ногах подошла к статуэтке и убрала ее в шкаф. Она возвращалась мыслями к удивительному приключению целый день, да и ночью долго не могла заснуть, думая: что ж это было? Сон? Нет, не сон. Галлюцинация? Не хотелось бы.
Юля вспоминала, как все случилось: она сдвинула стрелку на несколько делений, то есть завела таймер минут на пять – и примерно минут пять провела в Париже. Невидимой, неощутимой – бестелесным призраком. Похоже, что только ее душа – или сознание, можно так сказать – путешествовала, телом она оставалась все там же, в музейном подвале. А почему Париж? О Париже она думала в тот момент, когда крутила в руках таймер… Значит, вот как.
Юля не сказала никому о случившемся – ни коллегам в музее, ни даже Степе. Произошедшее с ней было настолько странным, что оказывалось где-то на грани постыдного. Здравомыслящие люди не болтают о видениях и путешествиях вне тела. А если болтают, то сразу переходят из разряда здравомыслящих в разряд, мягко говоря, чудаков.
Утром в среду она зашла в хранилище, проверила: орел стоял на той же полке, где она его оставила, полускрытый скульптурами, подсвечниками и чашами. Юля открыла нижнюю крышку постамента, рассмотрела внимательно стрелку и круг с делениями. Судя по всему, таймер был рассчитан на час. Подумаешь о месте – отправит туда, а максимум через час вернет. Ах, какие возможности перед ней открываются!.. Но в то же время… Этому механизму уже лет двести! Чудо одно то, что у него пружины и шестеренки не проржавели. А если что-нибудь случится? А если он сломается? А если он не вернет ее? Юля резко поставила таймер на полку и сбежала наверх, в свой кабинетик.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?