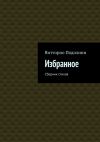Читать книгу "Избранное"

Автор книги: Татьяна Вольтская
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
«Механическая речка…»
Механическая речка
И кузнечик заводной —
Все счастливей человечка,
Пляшущего под луной.
Волны бьют, кузнечик скачет,
Ласточка чертит круги,
Только человечек плачет,
Шепчет: «Боже, помоги!»
Что-то треснуло такое:
Машет ветка, блещут сны,
Не остановить рукою
Вздрагивающей спины.
Дождь
Тихо. Даже муха уснула,
Целый час не дававшая мне покоя.
Голове, избавившейся от гула,
Весело покачиваться над рукою,
Над чертой подоконника, над садами,
Слушать: дождь копытцами не трещит ли,
Здесь ли он – серебряными стадами
Налитой трепещущий клевер щиплет…
Вот в такую ночь не хватает джинна
В той бутылке в углу – чтоб ловил любое
Приказанье.
Что делать? Неудержимо
Одного хочу я – лежать с тобою,
Остывая медленно от пожара,
С губ пошедшего, справившись с дрожью в теле,
Снова впасть – улыбнись! – в продолженье жанра
Влажных, дикорастущих бесед в постели,
Оплетающих это простое ложе
Лучше роз – или чего там? – мирта,
Впрочем, тут цветы со всего, похоже,
Порыжелого, будто август, мира.
И от свежего терпкого Августина
К перезрелому – винною вишней – Джойсу
Я хочу блуждать, как в раю, невинно,
Наклоняя ветвь, даже если жжется.
Беспокойным движеньем касаться Пруста
И плодов, что мне достаются редко
В одиночестве, – для тебя же просто
Не бывает слишком высокой ветки.
Не боясь терновых шипов, кругами
Я хочу блуждать от Евфрата к Волге
И, внезапно сталкиваясь губами,
Обжигаться и замолкать надолго.
Тихо. Даже для мухи поздно.
Дождь уносится, испугавшись взгляда,
Вдаль – садами промокшими, – стадом козьим —
Устьем сердца, уступами Галаада.
Мелкими следами полна страница,
И ладонь, и щека. Все, что было, все, что
Будет, дробно выстукивают копытца,
Лишь умалчивая, где пасешь ты.
«В тростнике голосовых…»
В тростнике голосовых
Пересохших связок
Страх, как ветер, петь привык;
Словно в кроне вяза,
В темени стучит испуг
Твердым клювом. Ночью
Из лесу воздетых рук
Ты выходишь, Отче.
Прошумев по волосам,
Прочь взмывают птицы,
Слез соленая роса
По Тебе струится.
В мокрых ризах, на пути
К светлым и любимым,
Отче, Отче, не пройди,
Заклинаю, мимо!
Наклонись и подыши,
Раздвигая стены:
Тлеет уголек души
В солнечном сплетенье,
И потрескивает плоть
Не соломой – кротче.
Дай мне силы побороть
Этот ужас, Отче.
«Где наша родина, узнать нам не дано…»
Где наша родина, узнать нам не дано —
Души размытый контур, берег сонный.
Из губ твоих грузинское вино
Мне показалось музыкой Вийона.
Не знаю, виноват ли виноград —
Хоть он плебей, а древний род прервался,
Что если он – родство забывший брат,
Потерянный – певучих лоз Прованса?
Навек ли нам пространства кабала
И времени рабочая одежда?
Что если поцелуем пополам
С вином ты разорвал ее – и между
Глотками долгими, как птицу, пропустил
Иную жизнь, мелодию иную:
Люби и пей! – И возразить нет сил,
Сосна скрипит, Нева ревнует
К жаре, виоле, бедному плащу,
Объятью, пересказанному просто.
Два неба встретились, о них я и грущу,
Им губы наши были —
перекресток.
«В луже треснула звезда…»
В луже треснула звезда.
Сердце раскололось.
За рекою поезда
Завывают в голос.
Спичек коробок исчез,
А другого нету.
Клен шагнул наперерез
Попросить монету.
На ступеньке лунный свет,
Свернутый в калачик.
Разве знает человек,
Почему он плачет?
Тень
«Как много смерти прячется в траве…»
Как много смерти прячется в траве
Острозаточенной, в тяжелой голове
Отрубленного солнца на лесной
Покатой плахе ветреной весной.
Пар изо рта порхает, как дракон,
Уже затеплен с четырех сторон
Лес – языками соловьиного огня,
И луг в цветах бледнее бледного коня.
Плывет цветок, качается в седле,
Неся точеный череп на стебле,
И под плащом сжимает семена;
Позвякивают тихо стремена.
Плывет цветок и смерть свою несет —
Ту, что скрывается внутри медовых сот,
На дне ладони, проплывающей тебя
Вдоль, поперек, – и ангелы, трубя
Пчелиным гудом, улетают прочь.
Плывет цветок, неся на стебле ночь.
И в сердце – ухо приложи – растут слова,
Как обоюдоострая трава.
«Я тебя потеряла, не обретя…»
Я тебя потеряла, не обретя,
И тепла в глазах твоих не увидев.
Все же я качаю твое дитя —
Этот стих, звучащий, как вдох и выдох.
Он рожден в грехе и слезах, и вот
Он горит листом золотым и красным,
Рвется прочь из рук и тебя зовет,
И еще не знает, что все напрасно.
Но к нему одному не пристанет грязь,
Мы уже погибли, а он – невинен:
В нем ты будешь со мною всегда, мой князь,
И на дне морском, и на небе синем,
И в чужом пиру, где меня не ждут,
И на кухне, где наших пиров приметы, —
Всюду – чем бы ни кончился Страшный Суд —
На дитя взглянув, мне укажут, где ты,
Позабывший с легкостью мой порог, —
Возле Божьих ног, в преисподней щели:
Мне, тебя не дав, милосердный Бог
Подарил его, как залог прощенья.
«Пока сухие стебли улиц…»
Пока сухие стебли улиц
Внезапный полдень озарил,
Пока из-под руки, прищурясь,
На нас не смотрит Азраил,
Пока шевелит Амфитрита
Заплесневелой чешуей, —
Еще не поздно – дверь открыта,
Входи, – пока над головой
Не потемнело от отлета
Чугунных ангелов в лесу
Исакьевском, – смахни заботу,
Как тополиный пух в глазу.
Пока лучи вслепую шарят
По комнате, и голова
Пока не катится, как шарик,
Под лапой каменного льва,
Пока на небе цвета сливы
Налево родинка видна,
И губы – солоней прилива,
Слюна во рту – пьяней вина,
Покуда пламя только лижет
Дворы и косяки дверей, —
Взгляни в глаза мне – ближе, ближе;
Скорей, скорей, скорей, скорей.
«Я хочу в Венецию – как лицом в траву…»
Я хочу в Венецию – как лицом в траву,
Посмотреть, как выглядит душа моя наяву.
От нее закат, как камин, отгорожен цветным экраном,
И часы расцвели на стебле четырехгранном:
Стрелок тычинки; горьковатого звона завязь
Никогда не созреет, подставленных губ касаясь.
Там копье проросло, как в озере остролист,
И герой, словно рыба, выловлен: запеклись
Бронзовые чешуйки – он умер сразу.
И дома поставлены в воду, как в зеленую вазу.
Под ногой ступень качается, как листок,
И пролеты мостов прерывисты, словно вздох,
Словно в горле речь – не находя участья,
Медлит – начаться ей или не начаться.
Есть у счастья свои приметы и у несчастья тоже:
Покрывается камень гусиной кожей,
А спина волны каменеет; на водосточной трубе
Выступает испарина, как на губе.
То ли в любви, то ли в битве —
сжав друг друга руками,
Смертной дрожью объяты оба – вода и камень.
«Серый камень спит, коростель скрипит…»
Серый камень спит, коростель скрипит,
Ходит облако на ногах дождя,
Жгучий воздух крепок, как чистый спирт,
Чиркни спичкой – и полыхнет, треща.
Роща кажется берегом, а луга
Проплывают медленно, на спине
Пронося уснувшие два цветка,
Словно белых всадников на коне.
Травяная бездна легка, под ней —
Черной бездны стиснутые пласты,
Где уснули под гул земляных червей
Зерна мертвые, сжав в кулачках цветы.
За былинку цепляясь одной рукой,
Век сочтя минутою, как в раю, —
На краю – обнимая тебя другой,
Губ твоих цикуту я залпом пью.
Прилив
Неслышно зарождается прилив:
Вот губы тихо трогают, как волны,
Песчаную ладонь, вот, плечи скрыв,
Становятся упруги и упорны.
Вот тело всё, подобное волне,
Но не одной волне, а сразу многим,
Уже вскипает вкруг меня, во мне,
Окатывая голову и ноги,
И, то на гребне, то на дне крутя,
Уносит вглубь, как легонькую щепку, —
И шум в ушах, и я тону, хотя
За каждую волну цепляюсь крепко.
И это чудо – выйти не на мыс
Чужих миров, неведомых америк,
А, пересекши время, как Улисс,
Лечь
возле тех же губ, на тот же берег.
«Мне двойное судьба изготовила лезвие…»
Мне двойное судьба изготовила лезвие,
Шелковистой рукой мою шею пригнула:
Подарила мне сердце сестры моей Лесбии
И – в насмешку – напрасные слезы Катулла.
Так вот кошку в мешок зашивают с собакою,
Чтоб верней утопить. В этом теле зашиты
Две души, два врага, что сильны одинаково, —
Ни управы на них не найти, ни защиты.
О любимом забуду – свобода! – а мысли-то,
Словно птицы в гнездо, возвращаются сами.
Так охотник помчится за дичью и выследит —
И опустит копье, и зальется слезами.
Голос – горше цикуты, сестра моя Лесбия, —
Не живу и не сплю, не пою и не плачу,
И, обычаем варварским местным не брезгуя,
Вместе лавра и терна ищу, не иначе.
Капли от унынья
1
Радость померкла.
Волшебный фонарь зрения помутился.
Вынуты цветные стекла:
Стала рекою река, стала травою трава,
Как Золушка в полночь.
Пеплом присыпан вечер,
Будто его закоптили,
И даже соседкино платье
Больше не отбивается от прищепок,
Повисло, рукава растопырив.
Видно, что-то я натворила,
Раз никто со мной говорить не хочет —
Ни ведро, ни калитка, ни тополь,
А серый лягушонок спиной повернулся
И кинулся в пруд (по-японски).
2
Как ни крути, нынче
Для отшельников тяжелое время.
Во-первых, подорожали дачи,
Во-вторых, перевелись акриды —
Остались одни искушенья.
Не то чтобы морковка на грядке
Принимала непристойные формы
(Чаще всего никаких не принимает),
Но бес полуденный блазнит:
Не вари, – говорит, – обеда,
Куда лучше прыгнуть в колодец;
В знойном мареве кувыркается, голый,
Глаза ледяные,
На кудрях – венок из лютиков и кашки.
Как вспомню тебя – зашипит и растворится.
Но не надолго:
Зачерпну ведро – брызнет оттуда,
Выжимаю белье – выскользнет полотенцем.
Бывало, гнала его постом и молитвой
О твоей любви – о хлебе насущном,
А теперь не смею:
Большой грех просить о невозможном,
Бог таких капризов не любит;
Как ребенка, бьющего ногами
По полу, – стороной обходит.
А полуденному бесу того и надо —
Замолчу – он и стукнет по лбу копытом.
3
Я проиграла.
Но ты не жди афоризма вроде
«Поражение – и есть победа».
Нет, я совсем проиграла.
Ну, попал в меня некий луч, как в линзу,
Ты-то от него не загорелся,
Разве что потеплел немножко.
Видно, ты от меня дальше,
Чем я думала, – как снежная вершина, —
Лезешь, лезешь – и упадешь, понимая:
Трудней всего дотянуться
До того, что кажется рядом.
Протяну ладонь к щеке – о! версты и версты!
Но зато, проиграв, я узнала
Важную вещь: это не победивших,
А побежденных не судят —
Потому что просто не замечают.
4
Раз в неделю я приезжаю в город
Купить продуктов и повидаться с тобою.
Так глубоководная рыба
Всплывает глотнуть воздух – и снова ныряет.
Сегодня асфальтировали площадь,
Она дымилась, укрытая чем-то белым, пухлым:
Тополь отдал ей последнюю рубашку.
Тускло блестели шпили
И лица разомлевших нищих.
Жара. Все деревья, все реки,
Все Книги Царств, все звери и птицы,
Бесы, ангелы, псалмы, розы,
И даже Песнь Песней
Не в силах дать мне хоть каплю
Твоей любви.
5
Заходя подальше от дома
В синие заросли мышиного горошка,
Я думаю: отчего нам дороже
Не те, кто приносят радость,
А те, из-за кого мы плачем?
Вот и эта земля привязывает не лаской,
А сыростью и коварством.
Видно, таков закон всемирного тяготенья,
Настигающий даже тех, кто бежит в пустыню.
Если бы ты знал, как здесь тихо!
Сидят златоглазые лягушки,
Ветер приносит слоеный пирог тумана.
Здесь, в пустыне, мне очевидно:
Только боль – повод для речи.
Ну, а голос —
К кому обращен, к тому и привяжет
Крепче веревки.
6
Все по-прежнему, только нещадно печет солнце,
Раскаленный песок простыни обжигает кожу,
Ветер пьет из окна вишневый сироп занавески,
А я – из блестящей ямки
На твоей груди – воду, пролитую из стакана. —
Видно, ангел стоит в головах, поит меня с ложки,
Потакая причудам,
Видя, что хворь моя неизлечима.
Все по-прежнему – так же губы скользят вдоль тела,
Натыкаясь на те же преграды,
Только вот говорят с тобою
Бессмысленно и беззвучно:
Как после взрыва.
7
Близок кастальский ключ – это просто слезы.
Даже слишком близок – как наша речка,
Падающая с плотины,
Крутя траву, мусор и камни.
Близок ключ, отворяющий вскрики, встречи,
Слухи, сны, объятья,
Омывающий острова глаз, покуда
Я лежу на песке и, обгорев на солнце,
Меняю по-змеиному кожу.
Близок ключ, да выскользнет – об одно лишь
Слово твое запнусь, полечу в обиду,
Как в погреб, где в наказанье
(Впредь, мол, лучше гляди под ноги!)
Тесно, сыро и ничего не слышно, —
Потому что Бог не любит унынья.
Только выбравшись и пойму, что из иных потоков
Ни напиться, ни выбраться невозможно.
8
Слоистая пагода лопуха, буддийский
Голубой колокольчик,
Шаманский бубен ромашки,
Ель, увешанная четками шишек, —
Все они громко славят Бога,
Хоть имени Его не знают.
Даже маленький серый лягушонок,
Живущий в пожарном водоеме,
Носит на спинке одну Его букву —
И страшно этим гордится.
Только я своей хвалою недовольна,
Только мне она в кровь раздирает губы.
Видно, вместе с нею
С плачем рвутся наружу
Нерожденные слова, что я тебе не сказала, —
И не скажу, не бойся.
9
Сколь любезна сердцу моя пустыня!
В ней благословенны жара и холод
И не тягостно послушанье:
Целый день я стираю, поливаю,
Варю, кормлю и таскаю воду.
Правда, бесы вьются комарами,
Всё хотят, чтоб я на тебя рассердилась.
Но я вспоминаю твои губы
И завешиваю окно марлей.
Иногда мне кажется, что вокруг так тихо,
Словно что-то стряслось —
то ли поезд сошел с рельсов,
То ли какие-то враги всех завоевали
И ушли… Я сама зарастаю бурьяном,
Как положено после крушенья.
И когда мы в последние дни говорим с тобою,
Он шуршит от ветра – неужели не слышишь?
10
Надо же, какая насмешка:
Я готова быть твоей тенью,
Ты же тени отбрасывать не хочешь.
Или я мало старалась,
Или тот, кто тени своей из-за меня лишился,
Слишком много слез пролил —
И они заслонили мне солнце,
Словно эти облака над покатым полем
Встали после грозы – как морские волны —
Поглотить фараоновы колесницы.
Когда Бог сидел на пустой земле Робинзоном,
Трепеща от любви и разгораясь,
Всё вокруг он склеил, сшил, замесил на страсти,
На страстях, вернее.
Ты же сам повторял мне часто,
Что сильнейшая из них – это жалость.
11
Утром, стоя в траве, побитой градом,
Я гадала, отчего это боль и ревность
Со временем становятся печалью. —
Так вот наши соседи-погорельцы
Который год живут во времянке,
По безденежью сделавшейся вечной.
Когда ты целуешь меня вот так устало,
Вытянувшись рядом,
Но не смешиваясь, как ртуть с водою,
Я смотрю на острое плечо, на живот темный и
впалый,
И одна мне отрада:
Так я мало для тебя значу,
Что тебе-то уж не причиню горя.
Хотя согласись, что это —
Слишком терпкие капли от унынья.
12
Отче наш, иже еси, – а значит,
Был и будешь, – на небесех, конечно,
А не на небе, – да святится
Имя Твоё, которого я не знаю,
Как любая трава, стоящая пред Тобою,
Да приидет – пусть даже меня сжигая —
Царствие Твое, в котором
Лишь любовь и не сгорит, – да будет
Воля Твоя, становясь и моею,
Яко на небеси, где стрижи несутся,
И на земли, пропахшей грозой и мятой, —
Потому что я боюсь мрака.
Хлеб наш насущный,
Любви нашей хлеб – с полынью
И лебедой – дай нам днесь, голодным,
И мне тоже – хоть крошку,
И остави нам долги наши,
Не попомни зла, которое причиняем —
Даже целуя – друг другу,
А я, верно, побольше прочих,
И прости нас, яко же и мы, измучась
От попыток забрать назад, что отдали сами,
Оставляем, вздохнув, должником нашим.
И не введи нас, легких, как сухие листья,
Во искушение, не отпускай надолго
От Себя – но избави… избави… избави…
13
После дождя в небе – виолончели
Долго звучат. В радугу шириною
Промежуток между грозой и грозой, —
встречей и встречей.
Скоро ты уедешь – и радуги мне не хватит.
Не то чтобы три недели
Без тебя не прожить, но маленькая разлука —
Восковая куколка настоящей.
Ты ведь не в первый раз уезжаешь;
Погляди на меня – есть ли дальше страны?
Скажи, вот так, без одежд и вёсел,
Стиснув до боли запястья,
Зажмурясь от страха,
Прижавшись губами,
Качаясь, как после крушения, на обломках, —
Есть ли опасней плаванье, чем друг в друге?
14
Ночью в грозу, как всегда, в поселке
Свет погас. Хорошо, отыскалась свечка,
Привезенная тобой прошлым летом.
Я ее посадила в консервную банку,
И она расцвела. Молнии к ней слетались
Бабочками, а внизу, в картошке,
Серый лягушонок блестел глазами.
Я боюсь темноты (лучше треск и вспышки),
Хотя знаю – кто долго глядит на солнце,
Увидит его черным.
Недаром мудрецы говорили:
Слишком яркий свет грозит тьмою.
Может, и к лучшему, что ты меня не любишь, —
Зато свечка твоя не гаснет,
И я при ней все яснее вижу:
Ни о чем на свете говорить не стоит,
Кроме любви и смерти.
Искушение
Два стула, стол, две чашки с молоком,
Две стопки книг, влетающий бегом
Ребенок – за игрушкой и конфетой,
Скрипение пером на чердаке,
Желтеющее поле вдалеке
И зреющие яблоки – все это —
Пустыня. Потому что нету в ней
Твоей любви. Зане – песчаных дней
По низким крышам плещут перекаты.
Еще висит мираж, но сквозь него
Уже витает грач, и естество
Дождя блестит. И мы не виноваты.
Пустыня – это родина камней,
Лежащих на душе. К тому же в ней
(В пустыне) обитают искушенья.
Они выныривают из травы,
То скалятся, голодные, как львы,
То с детским плачем требуют решенья:
Душе дрожащей быть или не быть,
Напиток смертный пить или не пить,
Что слаще вин; от здешних помогает
Недугов – но нездешние влечет.
Кладет мне тихо руку на плечо
Кудрявый дух – и смотрит не мигая.
«Тихо, как облако, ходит печаль и не старится…»
Тихо, как облако, ходит печаль и не старится —
Все молодеет, и губы ее – точно ранки.
Вечер дышит сыростью, и душа моя – странница —
Нынче – венецианка.
Никогда не пила я сумерки эти креплёные,
Полные йода и нарда,
Никогда не ступала на ступени краплёные —
На раскрытые веером карты.
Никогда не сжимала ни ручку дверную медную
В старой гостинице, ни перила
Темного дерева, и слово последнее
Ночью не говорила
Никому. А душа загляделась на воды карие,
Замерла на мосту – и
Все глядит, как Тритон выплывает в зеленом мареве,
Поднимая раковину пустую.
«Крестовидные соцветья…»
Крестовидные соцветья
Пахнут горьким молоком.
Но по ним ступает ветер
Без опаски, босиком.
Вниз от каждой пентаграммы —
Изумрудная струна.
Лепесток откинут рамой,
Створкой белого окна.
Но за легкой занавеской
Никогда тебя не ждут, —
Лишь густеет запах резкий,
Словно чьи-то письма жгут.
И метаться бесполезно
Между стен, как между скал:
Под пыльцою желтой – бездна,
Та, что выдумал Паскаль.
Вечер
I
Не грусти, до плеча укройся,
Все пройдет, эта боль тоже.
Облако брошено, как роза,
На окно, и блестит ножик
На столе, и бокал желтый,
И рубашка висит на стуле,
Скорчившись от горя: пришел ты
И ее покинул, пустую.
Ах, как я ее понимаю!
Обнимать тебя, нехитрого счастья
Прижиматься, льнуть – к середке и с краю —
Лучше не иметь, чем лишаться.
Луч, узор на столе соткавший,
Лужица мадеры. Уйдешь ты —
Тень твою обниму я так же,
Как твоя пустая одежка.
II
Ты – молитвенник мой – прочту я
Строчки ребер, по складам, четко,
Сердца буквицу золотую.
Позвонков убегают чётки
За границу, вниз, в тени, блики.
Сколь ты лучше книг – им на зависть:
Лишь глазами я читаю книгу,
А тебя – всем, чем касаюсь!
Белая ночь
Травы спят с открытыми глазами,
Молча приподнявшись на корнях.
Воздух спит, объятый соловьями,
С пламенем подземным на щеках.
Спит река, несясь неудержимо,
Ни на миг не жмуря желтых глаз.
Словно из разбитого кувшина,
Время выливается из нас.
Спит флейтист на улице, обманщик,
Продававший вишни, жук в траве,
Спят леса, вставая возле дачек,
Словно волосы на голове.
Ветер не отбрасывает тени.
Не видать источника огня.
Сплю и я, обняв твои колени.
Спишь и ты – и смотришь сквозь меня.
«От заката к восходу, с запада на восток…»
От заката к восходу, с запада на восток,
По пустыне листа идут караваны строк,
Торопясь, точно душу пленницей увели,
И невидимой точкой позванивая вдали.
Мир поделен на два, ровен и золотист:
Только ты и бумага, бескрайний горячий лист;
Добираться к тебе коварным путем листа —
Только это осталось, а сверху того – тщета.
Монотонно множась, движенье рождает звук:
На краю земли – вереницы горбатых букв,
Их волнистые спины колышутся, как вода,
И висит мираж, до которого – никогда…
«Когда б мы ездили на лошадях…»
Когда б мы ездили на лошадях
По много суток и писали письма
На станциях, – то каждая разлука
Казалась бы тогда ужасно длинной,
Зато не столь глубокой. И когда
Взметая пыль, ты мчался бы во Франкфурт,
Я знала бы, что завтра столько верст
Проедешь ты, а послезавтра – столько, —
Конечно, если ось еще цела.
Ты б уменьшался медленно – не то что
Взмыл в облака – и всё: стена, обрыв.
А так – изрыто губчатое время
Отвесными провалами – во мне
Самой их несколько. Землетрясенье
В сравнении со скоростью – ничто.
И все же лошади быстрей моторов,
Не говоря о том, что симпатичней;
Хоть медленнее ездили на них,
Зато гораздо больше успевали:
Неспешный путь необходим для мысли,
Которая сама – лишь только путь.
К тому же никакая быстрота
Не заменяет ритма, на который
Нанизан мир, как на шампур – шашлык.
А ритм живет в копытах, кастаньетах,
Любовниках, волнах, ветвях и прочем,
Но если сильно увеличить скорость —
Тогда он убивает сам себя.
Поэтому ты не получишь писем,
Войдя в отель, – о том, что стало жарко,
Однако же простуда не проходит,
О том, что, как всегда, имеет ценность
Лишь тот пейзаж, в котором скрыта боль,
Что босоножки порвались, малина
Созрела, сигареты на исходе,
И что желанье получает силу,
Лишь только обретая направленье,
Не ранее, – и я не получу
Отчета о дорожных приключеньях,
Язвительных портретов, опасений
Сойти с ума от глупости соседа —
И краткой просьбы поберечь себя.
Хоть сами по себе не важны письма,
Но строчек набегающие волны
Слагают ритм: прилив – отлив – прилив.
А нет его – и жизнь пересыхает
И обнажает с трещинами дно.
Чем больше разговоров и событий
Вкруг нас кипит – тем глубже расставанье —
Ни расстоянье, ни, тем паче, сроки
Здесь не играют роли. Потому,
Вернувшись, ты найдешь меня в ушелье
Таком глубоком, – что не извлечешь,
Пока не крикнешь слов из арсенала,
Которого стыдится молвь дневная
И презирает письменная речь.