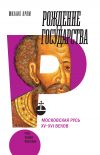Текст книги "Стать Теодором. От ребенка войны до профессора-визионера"
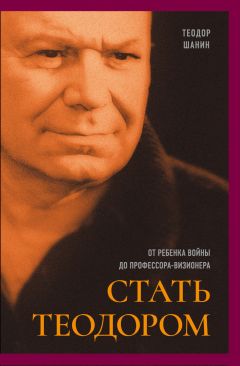
Автор книги: Теодор Шанин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
7. Семья и фамилия
Семейные корни
Перед тем как распрощаться с частью книги, посвященной раннему периоду моей жизни, стоит дополнить картину короткой зарисовкой ближайших членов семьи, в которой я рос.
Начну с деда с отцовской стороны – деда Зайдшнура. Его родители довольно рано поняли, что он, по виленским понятиям, «никудышник». Это значило, что он не сможет вести семейное дело – текстильную лавку средней величины. Для этого ему не хватало амбиций, способностей и энергии. Все, что он умел, – это красиво одетым, надушенным и с тросточкой в руках гулять по улицам Вильно, обмениваясь любезными фразами с соседями и знакомыми. Единственный и избалованный ребенок, он без родительского присмотра загубил бы в два счета семейный бизнес. Продумав это, родители приняли нужное решение, то есть вызвали свах высшего класса. Те поняли задание, и в семье появился еще один человек.
Фрида-Рейзел была известна характером и энергией. Отец ее умер рано, оставив беспомощную вдову с кучей детей. Когда это произошло, Фрида-Рейзел – старшая дочь – твердо взяла в свои руки дела семьи. Со временем все ее братья были «устроены», то есть вели купеческие дела и были женаты на девушках с хорошим приданым. Ее младшие сестры были удачно выданы замуж. Она же сама в понимании еврейского Вильно становилась почти что старой девой, к тому же без солидного приданого: деньги ушли на устройство братьев и сестер. Это значило, что надежд на приличный брак было очень мало. Выбор свах был безошибочным – Фрида-Рейзел стала женой единственного и не совсем удачного сына уважаемой семьи Зайдшнур.
С первой же минуты новой жизни Фрида-Рейзел твердой рукой повела дела новой семьи. Это было вскоре отмечено купеческим сообществом Вильно. Дело семейной фирмы развивалось с завидной быстротой. В течение немногих лет все узнали его реальную руководительницу, о которой ходило все больше рассказов и легенд. Умнейшие из купцов советовались с ней по серьезным делам. Когда к ней приходили просить поддержки (чаще всего денег на приданое для бедной невесты, что считалось обычной обязанностью преуспевающих купцов), она очень серьезно выслушивала просителя, расспрашивая о качествах молодого человека и самой невесты, а далее говорила: «Дело серьезное, я должна посоветоваться с мужем». Выходила в пустую соседнюю комнату и возвращалась, говоря: «Мой муж согласен (или не согласен)». И все купечество Вильно пело дифирамбы ее уму.
В свое время не нашлось денег на ее образование, да и сама мысль образовывать девушку из небогатой семьи показалась бы тогда странной. Единственный язык, которым она владела свободно, был идиш. При этом она ездила и в Петербург, и в Берлин закупать дорогие товары, и до Вильно доходили слухи о том, как эффективно она вела переговоры в далеких краях. Среди нескончаемых рассказов, которые я слышал в детстве (чаще всего от людей посторонних, как только они узнавали мою фамилию), был и следующий. После возвращения из Берлина с большой партией дорогих товаров Фрида-Рейзел стоит перед витриной своего магазина. Перед ней главный приказчик с записной книжкой в руках, вокруг бегают приказчики помельче. Глядя на витрину, где вывешены привезенные ею товары, она рассуждает вслух: «Какую бы цену здесь поставить? Поставить пять рублей за штуку – мне будет обидно. Поставить семь рублей – покупателям может показаться обидным. Ставь двенадцать!»
Несмотря на ежедневный труд, у нее было семеро детей, из которых старшая дочь Рая с молодых лет заменяла мать по дому. Рая и ее брат Абрам были активными меньшевиками – это был период расцвета виленского отделения этой партии. Во время революции 1905–1906 годов Абрам отличился тем, что влез на стену полицейского участка и наклеил на нее большой плакат «Да здравствует Революция!». Его вычислили, арестовали и отдали под суд. Бабушка подкупила судей с тем, что, по договоренности, на вопрос «Вы ли наклеили возмутительный плакат?» Абрам даст ответ: «Нет, не я!» – и его освободят «за недостатком улик». Но согласно закону за день до суда Абраму предоставили возможность встретиться с кем-либо по выбору, и он выбрал свою красавицу-невесту – меньшевичку, как и он, которую я много позже знал как «тетю Сару». Они встретились, и она заявила ему, что, если он откажется признать, что наклеил злосчастный плакат, она никогда за него не выйдет. Так что на вопрос суда: «Вы ли повесили плакат?» – Он ответил: «Конечно, я – и горд этим». Его осудили, а бабушка обозлилась вовсю – большие деньги были потеряны. Но это был умница Абрам, ее любимчик: она выложила следующую сумму, добилась освобождения Абрама и отослала его от греха подальше, во Францию – «учиться».
Мой отец Меир Матвей был младшим, четвертым сыном семьи Зайдшнур. В 1917 году он отбыл в Петербург для учебы на факультете права Петербургского университета. Учиться он не стал, для этого время было слишком интересным. Он провел революционный 1917–1918 год, глядя во все глаза на происходящее и втянувшись в активные действия эсеровской молодежной организации. К 1918‑му его матери уже не было в живых и дела семьи повел Абрам. Он потребовал от младшего брата спешно вернуться в Вильно. Все имущество было разделено далее меж четырех братьев, и его хватило на предприятие каждому из них, а также на приданое для двух оставшихся сестер. Старшая, третья, Рая уехала к тому времени к мужу-нееврею в Винницу, потеряв из‑за этого все связи с семьей.
***
Семья со стороны матери сильно разнилась от купеческого рода Зайдшнуров. Я меньше знаю о них, но там было несколько раввинов – и особая тяга к образованию. Мой дед Григорий Юшуньский учился в российском педагогическом училище. Без особых финансовых средств, но со сравнительно хорошим светским образованием, он работал далее руководителем разных учреждений, из которых важнейшими были водочные заводы. Это значило близкие отношения со многими из польской знати нашего района – зачастую землевладельцами, производителями пшеницы и ржи, из которых делалась наша водка. При этом он был глубоко религиозен, пользовался уважением еврейского сообщества, но вел себя и одевался подчеркнуто светски. Бритоголовый, усатый и крепкий, по представлениям нашего региона, дед не выглядел как еврей. Это усиливалось тем, что он хорошо говорил на всех языках, употребляемых в Вильно: на польском, идиш, русском и немецком. Когда в 1940 году в город пришла литовская власть, он, единственный в нашей семье, в течение года свободно заговорил по-литовски.
Я как-то спросил его, почему он покрывает голову только для молитвы и не носит кипу в остальное время. Как добрый миснагд, он ответил, что не видит причин вести себя иначе, поскольку никто не может показать ему того места в Библии, согласно которому это обязательно, – а другие евреи ему не указ (добрый миснагдский ответ!).
Так как мои родители не были религиозны, они решили, что представить мне нашу религию должен он. Дед принял эту задачу серьезно: часто брал меня в синагогу по субботам, научил первоначальным молитвам и очертил передо мной более широкую картину иудаизма.
В советское время дед был арестован, когда полицейские нового режима обыскивали квартиру его соседа и по инерции попали к деду. Они нашли украшения умершей бабушки, которые он свято хранил, и обвинили его в спекуляции ювелирными изделиями. Дед попал тогда в нашу городскую тюрьму на Лукишках. Мама взялась за дело его освобождения (с обычной энергией и бесстрашием перед властями) и добилась своего – его выпустили и даже извинились за ошибку. В этот период у нас несколько раз побывали сокамерники деда, приносившие приветы от него. К нашему удивлению, они постоянно говорили, что он святой (а они все были польскими католиками). Когда дед вышел и мы его расспросили, он, смеясь, объяснил: так как еда в тюрьме была некошерной, он не ел ничего, кроме хлеба и чая, отдавая остальное сокамерникам – они же признали такое поведение явным выражением святости.
Я привык в моей семье к тому, что отец был всегда сильно занят работой и общественной деятельностью – я его видел только за обедом. Мама училась в университете (она окончила его при двоих детях). Она определяла также ежедневный распорядок домашней жизни, как и обязанности служивших у нас людей, и иногда представляла отца в руководстве наших заводов. Для меня главным авторитетом был дед Юшуньский: его внутренняя духовная сила, спокойствие, твердость взглядов и неограниченная доброта ко мне остались со мной на всю жизнь. Пред лицом гибели членов нашей семьи, которые остались в Вильно и попали в лапы нацистов, я благодарен (не знаю кому – я атеист) за то, что моя четырехлетняя сестра Алия, по-видимому, пошла на смерть, держа деда за руку. Если это было так, она умерла спокойно.
Отец
В условиях предвоенного Вильно отец был блестящим купцом «из молодых» – уже богатым и с быстро растущим состоянием. В еврейском Вильно он выделялся также как вожак партии Общих сионистов («Ха-Ционим Ха-Клалим» на иврите) – был их постоянным делегатом на сионистских конгрессах. Отец был меценатом в сфере искусств, известным оратором, мужем первой красавицы города – для многих синонимом успеха.
Советская власть прервала эту карьеру – он оказался в лагере в Свердловской области, из которого вышел с подорванными здоровьем и уверенностью в себе. Хотя к нему еще однажды возвратилась на короткое время купеческая удача в послевоенной Лодзи, далее он оказался в чужих странах, без определенной профессии и без капитала, который мог бы стать основой благополучия. Потеряв Вильно, он в большой мере потерял себя.
Мои отношения с отцом были непростыми. В детстве я видел в нем героя, а позже не хотел принять его надломленность лагерем и потерей родного Вильно. Это усилилось тем, что в беде мама оказывалась раз за разом сильнее и деятельнее его. Но по мере моего взросления требовательность к отцу смягчилась, я начал ценить его интеллектуальные способности и познания. В последние встречи с ним в послевоенном Париже, где он оставался до своей смерти, мы подружились заново, но он скоро ушел в мир иной.
Я жил в Тель-Авиве, когда пришла телеграмма, что мой отец неожиданно умер от сердечного приступа. Его друзья, которые мне послали эту весть, предложили задержать похороны до моего прибытия. Я ответил, что прилечу немедленно. Моя первая жена Наоми пошла «с шапкой по кругу», обходя друзей и собирая деньги на перелет. В то время билет на самолет был экстраординарным расходом: люди нашего круга не летали тогда по заграницам.
Я рассказал выше о нашей схватке, связанной с моим выездом в Палестину. Потом отец страшно гордился моими фронтовыми заслугами, а его друзья-сионисты завидовали ему. Дела его шли плохо, он жил очень скромно, но продолжал отказываться переехать в Израиль, что я ему предлагал раз за разом. Без профессии и без капитала он боялся стать обузой.
Тогда я пробыл с отцом два месяца, изучил Париж, его площади, музеи и театры. В те дни нам с отцом было хорошо вместе, и его смерть стала для меня полной неожиданностью. Ему было всего 60, но жизнь выдалась трудной.
Меня встретили личные друзья отца, и я прожил у них десять дней. Как только прилетел, началась подготовка похорон. Так как отец был членом всевозможных комитетов, на похороны собрались несколько сот людей от сионистских движений Парижа. В основном там были руководящие члены двух партий: ведущей тогда в еврейской Палестине партии Мапай и Общих сионистов, к которой принадлежал отец. Было несколько знамен, и выступали вожди этих двух партий. Я до сих пор помню свой растущий гнев, когда стало ясно, о чем они говорят. Выступающие были людьми разных политических убеждений, но их объединяло то, что посреди кладбища, прямо над гробом, они спорили с отцом. Они говорили, что не надо было быть таким упрямым, таким бескомпромиссным. Это, конечно, определяло отца как виленчанина и миснагда. Слушая их, я понимал, какую трудную жизнь он устроил им в их центральных комитетах.
Церемония похорон продолжалась и продолжалась, и мне становилось все хуже и хуже. Горло сжималось. Хотелось плакать, но я не был готов показывать слезы. Мне хотелось изругать их или дать кому-нибудь по морде. Последним выступил раввин, и мне полегчало.
Над гробом отца этот раввин сказал: «Говорится в наших законах, что, если находишь тело убитого на территории общины и не известно, кто его убил, десять старейшин должны публично омыть свои руки и сказать: „Наши руки не пролили эту кровь“. Почему требует этого наш закон? Обвиняют ли кого-то в убийстве? Но ведь нельзя обвинить в убийстве, когда нет свидетелей. Если так, что значит это требование? Когда человек мертв, никто не может сказать точно, кто его убил, тем ли, что сделал злое дело, или тем, что ничего не сделал, когда нужна была помощь. И у гроба этого человека хочу сказать: пусть десять старейшин омоют свои руки». Я подошел к нему позже, поблагодарить за сказанное им. Раввин защитил отца в его одиночестве – и меня в моей боли.
Мама
Моя мама была экстраординарно привлекательной и умной женщиной. Личные способности и обаяние, как и университетское образование (неожиданное у замужней женщины ее социального окружения тех времен), последовательно выделяли ее в разных кругах ее общения. Помню, как знакомый узбек определил ее высшим для себя комплиментом: «Какая баба! Не баба – мужик!» Мама была моложе отца на 13 лет. В Самарканде появился мужчина ее возраста, они полюбили друг друга. Он просил ее выйти за него замуж. Она отказала ему в основном из‑за меня. Много позже в Париже они встретились опять, и этот вопрос встал заново.
Родители позвали меня и сказали: «Ты знаешь, что мы собираемся разводиться. Остается один нерешенный вопрос: с кем ты останешься жить? Ты уже не ребенок и имеешь право выбора. Каждый из нас предпочитает, чтобы ты жил с ним». Я ответил: «Мне и впрямь уже 16. Расходитесь, если хотите, – дело ваше, но это значит, что семьи больше нет и я не собираюсь быть ни с одним из вас. Я уйду в Движение. В нем есть что делать, а в Палестину я попаду быстро». И тогда мама решила не разводиться. Это было в 1947 году.
Когда через несколько лет я понял, что наделал, – я проклял себя за это. С детским максимализмом я сделал страшное: лишил мать хорошего человека, которого она любила. Быть взрослым физически, оставаясь во многом ребенком, – опасное дело. Не знаешь, что творишь.
Они с отцом все равно развелись, в 1951 году, чего и следовало ожидать. Мама решила перебраться в Израиль, чтобы быть ближе ко мне. Отец побоялся ехать в новую страну без языка, без профессии и без капитала и в возрасте – теперь я понимаю, что было чего бояться. Отношения между родителями закончились. С матерью мы к этой теме не возвращались, пока она не сказала: «Знаешь, я хочу жить с таким-то и таким-то мужчиной. Как бы ты отнесся к этому?» Я до сих пор помню ее удивленное лицо, когда я ответил: «Буду очень рад». Тогда она добавила: «У меня одна трудность, с которой не знаю, как совладать. Отец не дает мне развода, а я старомодна – не принимаю мысли, что буду жить с мужчиной, который не является формально моим мужем». Я ответил: «Предоставь это мне» – и вылетел в Париж. После жесткого разговора с отцом получил для матери развод, который привез с собой1313
Речь идет про «гет» – письмо с согласием на развод у иудеев. – Примеч. М. Пральниковой.
[Закрыть] в Израиль. В 1960 году мама вышла замуж заново.
Годами позже второй муж матери умер от сердечного приступа. Они жили в Тель-Авиве. На новом месте мама стала ведущей учительницей в профессиональном училище кройки и шитья. Я пробовал уговорить ее переехать в Англию, быть ближе к моей семье, а в особенности к внучке, которую она боготворила. Но мама отказалась, спокойно и бесповоротно, как принимала все важные решения.
После того как мама ушла на пенсию, ей становилось все хуже – развился рак легких. Она много курила, как оказалось, убийственно много. Дышала все труднее. Через еще пару лет, в 1985 году, мама рассказала мне, что есть фешенебельный дом для пожилых людей, который дамы ее круга очень хвалят. Но, конечно, попасть туда невозможно, уж очень дорогое удовольствие. На что я ей ответил: «У тебя есть сын. Ты думаешь, что я не смогу заработать на это?»
В то время мне предложили профессуру в США, которая хорошо оплачивалась (тогда многие ведущие американские университеты «покупали» себе английских профессоров). Мне не хотелось переезжать, но я договорился с Университетом Анн-Арбора проработать у них полгода, чтобы понять, насколько мы подходим друг другу. Я взял в Манчестере оплачиваемый отпуск, принял временную работу в Анн-Арборе и, живя скромно при двух параллельных зарплатах, собрал кучу денег, привез их в Израиль и отправился в тот дом для престарелых.
Когда я приехал туда, меня вначале не пустили – был неприемный день. Я зло обругал охранника, на что он вдруг с широкой улыбкой открыл дверь и предложил войти: «Я давно не слышал такого прекрасного пальмахского1414
Пальмах был элитным военным подразделением подпольного движения Ха-Гана во время борьбы евреев против британцев, а затем и арабов, когда они стремились создать независимое еврейское государство в Палестине. Упоминание этого человека о «пальмахском иврите», вероятно, относилось к красочному агрессивному языку, который использовал Теодор. См. также главу 9. – Примеч. М. Пральниковой.
[Закрыть] иврита». В офисе объявили, что, к сожалению, у них очередь на два года. Я записал маму в нее и, вернувшись домой, рассказывал, как обстоят дела, когда вдруг зазвонил телефон: «Место для вашей матери нашлось, нам было бы стыдно не предложить его, принимая во внимание вашу биографию». Мама и впрямь переехала, а я уехал в Англию. Но после трех недель мама сказала мне по телефону, позвонив в Англию, что ей там не нравится и она возвращается домой.
Дальше – хуже. Рак развивался, и я опоздал. Был на переговорах с советскими социологами в Новосибирске и так и не успел вернуться вовремя проститься с мамой. Моя жена Шуля – мы поженились в 1970‑м – успела долететь до Тель-Авива из Лондона, где работала в LSE, и быть с ней до конца. А я опоздал. В решающую минуту не мог сесть у постели самого близкого мне человека. Чувства вины мне не изжить.
Фамилия Шанин
Мое первоначальное фамильное имя представляло характеристики города, как и прошлые занятия моей семьи. Фамилия состояла из двух частей: первая на идиш (или немецком), вторая – славянская. Это двуязычие в рамках одного фамильного имени определяло в немалой мере характер населения города и языков, на которых в нем говорили. «Зайд» – это шелк, а «шнур» – веревка. То, как все это писалось на польском, делало имя окончательно нечитабельным на большинстве европейских языков. Труднее не придумаешь для тех, кто не являлся сыном или дочерью Вильно.
С увеличением моих международных связей и обязанностей возникало все больше трудностей с произношением моей фамилии. Во время моего первого визита в Англию повторялась беспрестанно следующая сцена: я приезжал на встречу в министерство, меня встречал на входе один из младших чиновников и вел по длинным коридорам здания. На пути он не менее чем трижды заглядывал в записку, в которой содержались мои данные, и, все более напрягаясь, спрашивал: «Извините, не могли бы вы повторить мне вашу фамилию?» Я повторял ее, добавляя: «Извините, это, конечно, трудночитаемое имя», и смотрел далее, как мой провожатый стучал, открывал дверь, краснел и говорил что-то совершенно несуразное – вне всякой связи с тем, как должна была звучать моя фамилия. Назавтра повторялось то же.
Я мало что мог сделать с этим, пока здравствовал мой отец. Его, несомненно, обидело бы предложение изменить фамилию, которую он считал глубоко уважаемой в нашем городе. После его смерти я решил формально сменить фамилию. Тогда появились новые трудности: ни я, ни мои друзья не имели ни малейшей идеи, на что можно было бы ее сменить. Я попросил знакомого, который работал в Израильской академии языка, помочь с этим делом, и он предложил: «Шани» – на иврите это значит «пурпур» и «шелк» и имеет в своем составе звук «ш», как и оригинальная фамилия. Я поблагодарил, но сказал, что там, откуда я происхожу, фамильные имена не кончаются на гласный – мы не украинцы. Далее я попробовал сам, добавляя разные буквы к «Шани». Получалось Шанир, Шанис, Шаним и т. д. Шанин прозвучало лучше, и я официально просил у Министерства внутренних дел Израиля изменения фамилии. Перед тем для верности дела я посмотрел в телефонную книгу Тель-Авива – не хотелось получить неожиданных «родственников». Все оказалось хорошо – никаких Шаниных там не нашлось.
Через месяц, в 1954 году, я вылетел в Лондон на ежегодный съезд специалистов по истории России. После моего выступления ко мне подошла пожилая женщина ученого вида и сказала: «Вы, несомненно, родственник уважаемого профессора Льва Шанина. Как приятно знать, что интерес к крестьянскому вопросу удерживается в определенных семьях!» Оказалось, что у Бухарина был советник по сельским проблемам, бывший меньшевик Шанин (позже выяснилось, что это его партийная кличка, которую он сделал фамилией). У меня не хватило отваги признаться, что я сам стал Шаниным неделю назад. Позже нашлись в России другие Шанины, которые сплавляли лес в Тамбовской губернии, нашлись также актеры и писатели. Неплохой вариант – мне понравилось иметь таких однофамильцев.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?