Текст книги "Свет с Востока"
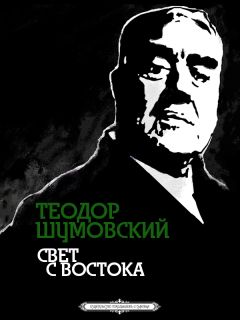
Автор книги: Теодор Шумовский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
И вдруг Ника заболел. Кажется, простудился, но он вообще не отличался крепким здоровьем. Увели его в тюремную больницу.
И вдруг оставшимся, Леве и мне, объявили: собираться на этап. «Как это, позвольте, нам назначено повторное следствие, проверка дела!» – «Отставить разговоры!» Спорить нельзя. Спокойно, может быть, отменят. Ведь прямое нарушение закона.
Этап – завтра, но уже сегодня в тюрьме гул, как на восточном базаре. Сердце учащенно бьется. «Куда повезут, что там ждет? Кончаются часы призрачного тюремного покоя. «Может быть, нас развезут по разным лагерям, – говорит Лева, – послушай и постарайся сберечь в памяти…» Мы залезаем под нары, подальше от суеты, Лева шепчет мне стихи своего отца, я запоминаю:
Твой лоб в кудрях отлива бронзы,
Как сталь, глаза твои остры.
Тебе задумчивые бонзы
В Тибете ставили костры.
Когда Тимур в унылой злобе
Народы бросил к их мете,
Тебя несли в пустынях Гоби
На боевом его щите.
И ты вступила в крепость Агры
Светла, как древняя Лилит,
Твои веселые онагры
Сверкали золотом копыт.
Был вечер тих. Земля молчала.
Едва вздыхали тростники
И, от зеленого канала
Влетая, реяли жуки.
И я следил в тени колонны
Черты прекрасного лица
И ждал, коленопреклоненный,
В одежде розовой жреца.
Узорный лук в дугу был согнут
И, вольность древнюю любя,
Я знал, что мускулы не дрогнут
И что стрела найдет тебя.
Тогда бы вспыхнуло былое,
Жрецов торжественный приход
И пляски в зарослях алоэ,
И дней веселый хоровод.
Но лоб твой, вычерченный строго,
Таил такую смену мук,
Что я в тебе увидел бога
И робко выронил свой лук.
Толпа рабов ко мне метнулась,
Теснясь, волнуясь и крича,
И ты лениво улыбнулась
Стальной секире палача.
Последние часы напряженного ожидания истекли 2 декабря, и наш этап двинулся. Говорили, к Беломорканалу, Беломорско-Балтийскому каналу имени Сталина.
«Повенец – миру конец»
Медвежьегорск, Медвежья Гора, Медвежка – три имени обозначают городок, прильнувший к самому северному краю Онежского озера. В 1933 году здесь по холодным и пустынным улицам ходил ссыльный востоковед Василий Александрович Эберман. Один из ближайших учеников первостроителя советской арабистики академика Крачковского, Василий Александрович посвятил свою научную жизнь исследованию средневековой арабской и персидской поэзии. Но зревшему творчеству судьба отвела всего десять лет, ибо до них была университетская подготовка, после них – тюрьма, закончившаяся смертью.
Эберману принадлежат печатные статьи, в частности «Арабы и персы в русской поэзии»; он опубликовал несколько выполненных им стихотворных переводов с арабского. В последние годы молодой ученый изучал то, что смогли сберечь двенадцать веков из произведений поэта Ваддаха из Йемена, и вскоре должно было появиться первое издание его стихов. Имя этого человека, павшего жертвой разделенной любви к жене самодержца, в свое время привлекло и внимание Стендаля.
Работа над сборником арабского поэта была пресечена 27 июня 1930 года: Эбермана арестовали и отправили в ссылку. Тот, у кого отняты не только свобода передвижения, но и книги, содрогается от особой боли, понятной не каждому; она была тем сильнее, что Василию Александровичу шел всего тридцать первый год. Горькое утешение от отыскал в том, что стал сочинять «Венок сонетов», посвященный описанию трагедии давнего поэта, которого он уже не мог более изучать за письменным столом; так искалеченная птица пытается приспособиться к изменившимся условиям, чтобы продолжать жить. Над Медвежьегорском низко висело сумрачное небо; задумчивый бледный человек в стеганой телогрейке медленно ходил по стынущим улицам, губы шептали только что созданное, прилаженные друг к другу слова:
Жену халифа в праздничной Медине
В торжественных и чувственных стихах
Воспел красавец-юноша Баддах.
Она любовь дарит ему отныне…
С озера в лицо дул холодный ветер, а Эберман продолжал творить сонеты о солнечных арабских городах и сердцах.
…Ну вот, а теперь, через пять лет, пришла наша с Левой очередь; 4 декабря 1938 года «столыпинский» вагон с решетками на окнах доставил нас в сей самый Медвежьегорск. Эбермана уже не было в живых. После Прионежья он еще успеет побывать в Магадане, потом окажется в Орле, куда к нему сможет приехать жена, Ксения Дмитриевна Ильина, тоже востоковед и тоже ссыльная. Она заживо сгорит в тюрьме во время войны с Германией, а он, Василий Александрович, при странных обстоятельствах утонет летом 1937 года. Этот разумный человек видел, к чему шло дело вокруг, так, может быть, и странности-то не останется…
Конвой привел нас, пеструю толпу этапников, к пристани. Каждому при входе на баржу выдали по буханке черного хлеба и две вяленые рыбины – сухой паек на три дня. Всех спустили в трюм, как в средние века поступали работорговцы с невольниками, вывозимыми из Африки. Черный пол трюма тотчас же усеяли мешки и тела. Мы с Левой поместились в углу у продольной балки.
– Хорошо, что Нику не отправили, – сказал я. – В больнице все-таки легче.
– Во-первых, это еще как сказать, – рассудительно возразил Лева, – а потом, знаешь, могут его по выздоровлении так загнать куда-то, что и следов не сыщешь.
Кончился день, прошла ночь. Баржа пересекала Онежское озеро в неизвестном направлении. Сквозь щели с палубы пробивался студеный ветер. Тяжелые изжелта-серые волны, которые можно было разглядеть сквозь зарешеченные иллюминаторы, бились в борта, отваливались, уступали место новым и новым. Люди коротали время в разговорах и сне, благо их пока не тревожили.
Наступило 7 декабря, сверху открыли дверь на палубу, скомандовали: «Всем выходить!»
Поднялись по узкой лесенке, огляделись. Баржа стояла на широкой реке, у причала, за которым простирался вдаль высокий глухой забор из почерневших от времени досок. Прошли по шатким сходням, построились, двинулись, остановились у проходной. Охранник, зевая, вышел из караульного помещения, принял у конвоя документы, открыл ворота и впустил нас в зону, пересчитывая пятерками. Барак с бревенчатыми стенами, слезившимися от разлитой в воздухе сырости, ждал новоприбывших.
Назавтра этап, разделенный на три бригады, погнали к знакомому причалу. Плотников во главе с бригадиром Зотовым увели на какое-то строительство, других, человек двадцать, послали чинить лежневку – лесную дорогу для доставки заготовленных бревен к штабелям. Третью бригаду, нас, поместили в просторную лодку; рядом качалась меньшая, туда вошли конвоиры. Старуха и мальчик из ближней деревни перевезли всех через реку к неясно темневшему складу круглого строевого леса.
Так и пошли дни: утреннее плавание туда, вечернее – обратно; распиловка двуручной пилой, на пару с Левой, лежавших стволов на «балансы», «пробсы» и что-то там еще. Неподалеку, путаясь в полах еще домашнего пальто, утомленно и равнодушно пилил 64-летний немец Брандт. Напарник на него покрикивал: «Давай, давай, старик, я за тебя ишачить не буду!», иногда вместо «ишачить» появлялись «мантулить» или «втыкать», но на Брандта все это не действовало, он пояснял: «Я по-русски – нет».
14 декабря лодки не пришли, потому что нашу реку – я уже знал, что ее зовут Волдл, и втекает она в Онегу с востока, – сковало льдом. Северные реки хороши тем, что промерзают быстро и при не очень большой глубине – до дна: это важно для заключенного, жизнью которого никто кроме него не дорожит. И все же, оказываясь по пути на работу или с нее посреди далеко простершейся речной пустыни, я, выросший в глухом сухопутье, двигался с опаской: а вдруг…
1 января 1939 года нам даровали выходной, но что это был за выходной! Велением лагерного начальства мы со своими пожитками расположились перед входом в наше обиталище с улицы. Нас окружила вооруженная стража, возле нее с поводков злобно рвались овчарки.
Великое стояние длилось весь день. Охранники в тулупах и валенках, стоя у костров, равнодушно оглядывали плохо одетых людей, беспомощно топтавшихся на отведенных местах. Новогодний мороз крепчал, стыли руки, ноги, все тело. Текли часы. Кого, чего ждали управители лагеря? Никого и ничего, просто заключенным надо было напомнить о том, что они бесправны и что по отношению к ним разрешена любая жестокость. Лишь когда стало смеркаться, начался «шмон» – обыск. Охранники вытряхивали содержимое сумок и мешков на снег и, скользнув торопливым взором на вещам, отрывисто роняли: «Забирай, иди в зону!»
Шатаясь, я добрался до барака и упал на свои нары. Меня бил озноб, в голове жгло. Лева Гумилев помог дойти до медпункта. Вдоль стен полутемной прихожей, страстно желая получить освобождение от изнурительной работы хоть на один день, в очереди на прием сидели узники-азербайджанцы. Когда мы с Левой появились в дверях, они дружно и молча пропустили нас без очереди – помогло то, что я постоянно разговаривал с ними на их родном языке, здесь, в дальнем и безрадостном северном краю это было для них ценно. Фельдшер Гречук, тоже наш брат арестант, поставил термометр, отметка 39 дала мне день передышки.
И вдруг вскоре – этап на соседний лагпункт. Леву отправили туда в лесоповальную бригаду. Было грустно расставаться после более чем трехмесячного ежедневного общения под беспощадными сводами тюрьмы. Но мы надеялись увидеться вновь – как-никак приговор отменен, должно быть переследствие, а «дело» у нас общее.
Вслед за отправкой Гумилева в этап меня «перебросили» на газочурку. Работяги распиливают березовые бревна (хлысти) на кружочки толщиной пять сантиметров, потом эти кружочки раскалывают на дольки. Это и есть газочурка, топливо для газогенераторных двигателей, на этом участке и предстояло работать. Бригадир Чириков – краснощекий, должно быть недавно взяли, – обратился ко мне:
– Райлянд и вы! Возьмете носилки, пойдете носить!
– Что носить-то?
– Кого носить? Газочурку, не меня же! Во, малопонятные, давай действуйте!
Подошел напарник, человек намного старше меня, с проседью и печальными глазами. Вытащив на складе инвентарь из-за каких-то бочек (инвентарь представлял собой шаткие носилки с щелями между досок), мы отправились к пильщикам и стали перетаскивать горы желтовато-розовых долек из единичных «гнезд» в общий сарай.
Как правило, напарники знакомятся быстро – ведь они подолгу бывают наедине друг с другом и хочется услышать живое слово. На следующий день после того, как мы стали работать вместе, мой товарищ сказал:
– Все фашисты – немцы, но не все немцы – фашисты.
– Это известно, – отозвался я,
– И, тем не менее, не подумайте, что я немец. Меня зовут Дмитрий Родионович Райлян. Не «вРайлянд», как назвал меня бригадир. Фамилия у меня молдавская, она принята предками, бежавшими в Молдавию, Бессарабию, Румынию, куда глаза глядят, от крепостного гнета…
– Погодите, вы сказали «Райлян». А у знаменитого издателя Сойкина, действовавшего до революции и целых двенадцать лет после нее… у него был великолепный художник Фома Райлян, который иллюстрировал все его издания…
Дмитрий Родионович просиял.
– Это мой брат, – в голосе его прозвучала гордость. – Фома был академиком церковной живописи. Он расписывал соборы, его кисть высоко ценилась…
Я слушал, не перебивая.
– Сейчас Фомы уже нет, – голос моего собеседника дрогнул, – его не стало в 1930 году. Фрески его, картины – не знаю где. В Ленинграде живет его сын, Владимир Фомич, если выйдете когда-то на волю, он вам расскажет больше…
Спустя тридцать лет я разыскивал Владимира Фомича, и он действительно рассказал мне о художнике подробней, чем его дядюшка. Но еще больше я узнал, занимаясь в библиотеке Академии художеств. Родившийся в 1870 году, Фома Родионович Райлян, будучи привезен из провинции, мальчиком красил в Петербурге уличные тумбы. На средства купца Тарасова учился в школе рисовальщиков, потом в Академии художеств, которую окончил по классу знаменитого Чистякова, воспитателя талантов Репина, Поленова и Врубеля. Кисти зрелого Райляна принадлежит портрет жены брата революционерки Веры Фигнер – певицы Медеи Фигнер (Мей), блиставшей в Мариинском театре четверть века, с 1887 по 1912 год, первой исполнительницы партии Лизы в «Пиковой даме». Иллюстрации в изданиях Сойкина – тоже светские творения Райляна, однако главным делом его жизни была церковная живопись. Академиком он не стал, хотя кандидатура его была выдвинута выдающимися деятелями искусства, оценившими яркий и самобытный талант: острый язык помешал собрать необходимые для избрания две трети голосов. Незадолго до первой мировой войны Райлян расписывал детище Л. Н. Бенуа – новый Варшавский собор; цветовое решение фресок оказалось настолько жизнерадостным, что строгие богословы смутились и вознегодовали. Получив за работу шестьдесят тысяч рублей, Фома Родионович стал издавать на эти деньги журнал «Свободным художествам» и газету «Против течения». Через них он стремился ввести в мир читающей России лучшие произведения мировой живописи; здесь же, из номера в номер, он громил серость и лень, наблюдавшиеся им среди представителей искусства перед революцией. Отклик был слаб, журнал и газета просуществовали недолго, художника постигло разорение.
Лагерные дни шли однообразно: работа; беспокойный ночной сон, всегда казавшийся коротким; мечущийся по двору начальник нашего заведения, армянин, часто выкрикивавший свое решение провинившемуся: «в КУР» – камеру усиленного режима, то есть карцер – других слов от него никто не слышал.
Но дни шли и не однообразно, потому что по вечерам была другая жизнь. Я раздобыл карандаш, а бумага – вот она – обратная сторона копии приговора военного трибунала, выданной мне после свершения правосудия. Приговор отменили, но копия осталась. Лампочка тускло освещает барак; низко склонясь над потрескивавшимся от старости столом, я записываю то из тюремных филологических размышлений, что сохранила память. Первым ложится на бумагу пришедшее ко мне раньше других сравнение «гром» с арабским «ра'д» в том же значении. За ним… Еще и это… Да, чуть не забыл, вот… Примеры всемирного родства языков – такие, внешние, всегда на виду, а вот эти глубоко скрыты под напластованиями… в слове, а иногда еще только в мысли, оценке явления, подходе к его называнию. Я работал с радостью и ужасом, как хорошо, что запомнились эти сложные выкладки, но… бумага уже кончается, ее чистое поле сокращается, подобно шагреневой коже. Конечно, потом можно перевернуть лист и писать между строками приговора, Но и та сторона не беспредельна. Ну, пока пиши мельче, как можно мельче, там видно будет.
Вечером 23 января в барак вошел нарядчик. Назвал мою фамилию, объявил:
– Завтра на этап!
Занятый своими мыслями, я вздрогнул, машинально переспросил:
– На этап?
– Да, в Ленинград!
Значит, наконец, переследствие. Люди вскочили с нар, обступили; стали поздравлять.
– Вас, конечно, выпустят.
– Надеюсь, Михаил Лазаревич, надеюсь.
– Прошу, зайдите к моей семье, скажите про меня. Адрес – улица… дом… квартира… Запомните? Вы же ученый, у вас должна быть хорошая память.
– И к моим зайдите, пожалуйста… Это в Надеждинской улице, дом… – ко мне обращены умоляющие глаза старого петербуржца Михаила Альбиновича Сосновского, он и улицы дорогого ему города называет по-старому.
– И моим скажите несколько слов обо мне: жив, здоров, жду от них весточки, больше ничего нужно. Очень прошу…
Товарищи вы мои… Все, что смогу – сделаю. И каждый сделает на моем месте.
Утром 24 января, выйдя из барака с вещами, я сразу увидел Гумилева.
– Здравствуй, Лева! Как ты, жив?
– Здравствуй! Вот, опять пригнали сюда, едем.
– Едем, наконец-то!
Ехать не пришлось. Прошли с конвоем по льду реки тридцать один километр до Пудожа. Новая зона, в бараке встретили уголовники.
– А-а, контрики! Ночевать лезьте под нары, других мест нет!
Ну и ладно, не испугаешь. Мы на тюремной баланде доживаем год, кое-что повидали. Да и двинулись уже в обратный путь, к переследствию, все неудобства могут скоро кончиться. Под нарами на полу – вода, сырые промерзшие стены сочатся в затхлом барачном тепле. Нашли уголок посуше, усталость взяла свое, уснули.
Утром обнаружилось: пока мы, утомленные, крепко спали, воры не дали маху. У Левы из рюкзака вытащили ботинки, у меня, прорезав карман брюк унесли бумажник. В бумажнике были рубль и – бесценная, с филологическими записями, копия трибунальского приговора. Вот это утрата так утрата! Надо все восстанавливать, но когда, где, а главное – на чем? Опять нужно… что? До случая держать в памяти и повторять, чтобы не ушло.
За зоной, разогреваясь, рычал мотор. Нас, человек двадцать, посадили в открытый кузов грузовика, дали одеяла, чтобы укрыться от мороза и ветра. Мы двинулись на северо-запад вдоль восточного берега Онежского озера.
Ехали целый день, заночевали в избушке посреди поля. Оказалось – построена специально для ночлега подконвойных людей, перегоняемых этапами от севера к югу и обратно. Бревенчатые стены были оклеены газетами с многословными и краткими сообщениями о разоблачении «врагов народа».
Следующий день – снова в пути под острым морозом и леденящим ветром. Неслись навстречу и отбегали прочь голые леса, пересекали дорогу и оставались позади скованные стужей речки. Вечером грузовик влетел в крохотную деревушку, здесь была ночевка – в небольшой горнице, где впервые за много месяцев нас обнял запах домашнего тепла.
Назавтра – вновь по бесконечной белизне заснеженной дороги. Нет, не бесконечной, всему есть предел, Все дальше от Водлы и все ближе к Ленинграду. Вперед, вперед! Но вот пали сумерки, и перед нами не Ленинград, а большое село. Опять ночлег в крестьянском доме. Молчаливая хозяйка – может быть, и ее близкого человека где-то сторожат охранники – стелет на печи. Как хорошо! Свистит кругом дома холодный ветер, а здесь – блаженство. Но недолго, всего несколько кратких часов, а там, в утренней полутьме, снова лезь в промерзлый кузов, сиди весь день, кутайся в сползающее в плеч старое одеяло.
Но утром нас не повели к грузовику. Разнеслась весть о том, что по всему северному Прионежью свирепствует пурга, замело великие и малые дороги. Как ни тревожила эта новость, – когда же удастся, наконец, добраться до невских берегов? – ощущалась и радостная умиротворенность: усталое тело отдыхало.
Сумерки сменялись рассветами, рассветы – сумерками. В этом человеческом гнезде, одиноко теплившемся посреди снежной пустыни, мы застряли надолго и основательно. Так подошел мой первый тюремный день рождения. Перед отъездом из Пудожа мне выдали двенадцать рублей, заработанных на переноске газочурки; Леву конвоир отпустил в сельский магазин, и вскоре в нашем распоряжении оказались рыбные консервы и печенье; хозяйка сварила несколько картофелин. Лева и я сидели друг против друга, между нами стояла табуретка с едой, исполнявшая должность стола
– Ты мне как брат, – произнес Лева.
– Ты мне тоже. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.
Долго разговаривали, вспоминали университет, своих учителей, Нику Ереховича.
А назавтра, глядь – «собирайся!» Дороги расчищены, солнечный свет залил землю, снег искрится. Мы забрались в кузов, застоявшийся грузовик рванулся, вынесся за околицу, помчался. Отлетали назад леса, мосты, одинокие домики, упругий ветер бил в лицо.
– Повенец! – крикнул кто-то бывалый.
«Повенец – миру конец» – говорили древние новгородцы. Предприимчивые и выносливые, они смогли дойти только сюда, не дальше. Их остановили северная стужа и приполярный мрак, безлюдье и бездорожье.
В нашем столетии от Повенца на север, по глухим лесам и болотам, протянулся рукотворный водный путь. Заключенные, тысячи бесправных, униженных людей, усыпав своими костями нехоженые земли, проложили Беломорско-Балтийский канал имени Сталина, во имя Сталина.
Вот куда я был приведен судьбой. Но она же отворачивает меня сейчас от прожорливого горла рукотворного крестного пути и влечет к Ленинграду. Вперед! Скрываются последние дома Повенца, белые версты стремительно и покорно ложатся под колеса. Вечной свежестью, вечным спокойствием пахнет в этом лесном, озерном краю.
И снова Медвежьегорск. Опять вокзал и «столыпинский» вагон для арестантов и стражи. Грузовик и машина с конвоем одновременно замирают у шлагбаума.
– К вагону марш! – кричит конвойный начальник. Сели, медленно тронулись. Решетка на нашем окне безостановочно переползает с одного городского дома на другой, все дальше.
– Лева, последний перегон.
– Как я хочу, чтобы ты был прав! Поезд набрал скорость, мчится, несется.
– А что, не последний? Ты думаешь…
– Что думать? Попробуй их переубедить. Со временем виновность подследственного становится их навязчивым убеждением, они, следователи, не могут представить себе невиновного арестанта.
– Но за нами-то вины нет.
Ленинград, 7 февраля 1939 г. Вновь «Кресты». Нас развели по камерам.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































