Текст книги "Свет с Востока"
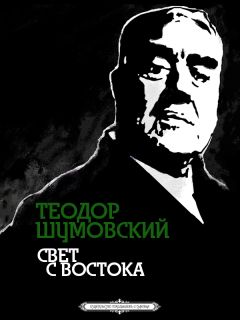
Автор книги: Теодор Шумовский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Тайное судилище
В конце февраля 1939 года меня вызвали к следователю Брукову. Террористы на государственной службе не хотели расстаться со своей жертвой, и вновь потянулись нудные обвинения в «контрреволюционной деятельности», вся эта ставшая привычной ложь, обкатанная на сотнях тысяч людских судеб. Конечно, она давно уже надоела и следователям, сочинявшим ее с тупым упорством маньяков, но на ложь и расправы приказ был дан сверху, его исполнение оплачивалось деньгами, путевками, повышением по службе и – личной безопасностью самих исполнителей.
Но Бруков пожелал создать некую видимость законности и поэтому – за тринадцать месяцев моего заключения это было впервые – допросил в качестве свидетелей восемь человек, знавших меня по университету. С их показаниями я был ознакомлен 31 марта, в день окончания следствия. Все свидетели показали, что о моей «контрреволюционной деятельности» им ничего не известно. Однако, «честь мундира» НКВД – «мы невиновных не берем!» – требовала, чтобы о подследственном непременно были сказаны слова осуждения, спорить с «органами» боялся каждый гражданин страны, и мне пришлось, глотая горькое удивление, прочитать о себе то, чего не подозревал за двадцать шесть лет прожитой жизни: «высокомерен», «груб», «жаден» и далее в этом роде. Все это набрасывало нужную тень, именно такими качествами должен был обладать законченный контрреволюционер. Но с другой стороны, столь ужасные несовершенства натуры сами по себе не давали повода для уголовного преследования меня, они могли рассматриваться как беда, но не вина, этим свидетели утишали свою совесть.
Но вдруг, читая одно из показаний, я наткнулся на слово «душевнобольной». Неужто обо мне?! Конечно, о ком же еще! Протокол допроса свидетель написал собственноручно, мелкий изломанный почерк был мне хорошо знаком. Игорь Дьяконов, друг с первых дней первого курса, убежавший от этой дружбы через полгода. Сблизили нас твердое намерение заниматься сверх учебной программы и стремление исследовать в близком будущем далекое прошлое Востока. А развел мартовский вечер 1933 года. Мы после занятий пошли к Игорю домой, на улицу Скороходова в Петроградской стороне. Он показал свою библиотеку, написал мне по-английски слова известной песни «Долог путь до Типперери», подарил какую-то книжку. На курсе было назначено собрание, мы отправились обратно на Университетскую набережную. Когда только что сошли с Тучкова моста на Васильевский остров, я в ходе оживленного разговора спросит Игоря:
– Тебе не кажется, что у нас в стране появился Иосиф Первый?
Дьяконов страшно перепугался, хотя поблизости никого не было. Его породистое лицо побелело, он замахал руками:
– Забудь, навсегда забудь эти слова! Ты их не говорил, я их не слышал!
С этих пор он стал избегать меня – тщательно, изобретательно. И теперь этот донос – поднялась рука, начертала, не дрогнув: «душевнобольной».
– Как ты мог? – спросил я его много лет спустя. Он пожал плечами.
– Я хотел тебя спасти…
6 апреля того же 1939 года меня перевезли из «Крестов» в уже знакомый Дом предварительного заключения.
Камера номер 6 полна разными людьми, но четко вспоминается мне лишь Семен Михайлович Шамсонов. Когда-то он был одним из восьми лекторов, читавших нам, студентам, нестройный и, не побоюсь этого слова, поверхностный курс по имени «История колониальных и зависимых стран». Относительно качества преподавания знаний можно судить, например, по тому, что о возникновении ислама и длительном развитии средневековой мусульманской державы было поведано всего за два академических часа. Теперь Шамсонов являлся таким же арестантом, как я, наше общественное положение уравнялось.
Близкое знакомство с Семеном Михайловичем в стенах тюрьмы все более сглаживало нелестные мысли о давнем курсе лекций. В отличие от своих товарищей по лекторской группе, не производивших серьезного впечатления, Шамсонов, читавший нам историю Латинской Америки, основательно, филологически знал язык изучаемого народа – испанский. Это и привлекло к нему: еще студентом я стал думать, что история без филологии – пустое словоизлияние, упражнение в красноречии. Позже эта мысль переросла в убеждение. Оценивая с этой точки зрения читанный нам курс вновь и вновь, вспоминая и сравнивая, пришлось придти к выводу, что Шамсонов научил нас большему, чем остальные «колониальщики», как мы их между собой называли.
Сейчас, в тюрьме, я попросил Семена Михайловича преподавать мне испанский. Мы садились в углу камеры, мой учитель произносил испанские слова и русские, перевод, я старался запомнить: ни бумаги, ни карандаша не имелось. Основной словарной запас был приобретен, однако, от произнесения не отдельных слов, а стихотворений, которые подробно разбирались. Так от незатейливого четверостишия мы дошли до большого произведения «испанского Лермонтова» – Хосе де Эспронседы.
Уроки под руководством Семена Михайловича шли и шли. Так протекли два месяца, по истечении которых тем, кто ведали моей внешней судьбой, было угодно в третий раз перевезти меня в «Кресты. Я покидал Дом предварительного заключения с грустью из-за того, что пришлось расстаться с Шамсоновым. Увижу ли я его еще когда-нибудь? Но в неволе надо ежеминутно быть готовым к вечной разлуке с учителем, другом, напарником: только что мирно разговаривали, вдруг его или тебя вызвали на этап и все кончилось.
На этот раз «Кресты» предоставили мне настоящую одиночку – узкую камеру, в которую теперь уже не стали заталкивать двадцать человек (так было еще недавно, в конце прошлого 1938 года), а поместили одного меня. «Я огляделся», – написал бы создатель приключенческой повести, но оглядываться было незачем, все находилось на виду: в углу, у двери – параша, вдоль стены – койка под серым одеялом, наконец, против двери, под потолком – решетчатое окно, крохотное, но еще и полузакрытое снаружи «намордником Заковского». Говорили, что начальник ленинградского управления НКВД Л. М. Заковский распорядился на окна камер, едва пропускавшие свет, дополнительно навесить с внешней стороны непроницаемые деревянные щиты, чтобы «враги народа» могли здесь видеть лишь самую малость воли – чуть заметный краешек неба, это должно было поддразнивать и увеличивать боль заточения. Усердие оценили, передовой опыт распространили, Заковского перевели в Москву, назначили заместителем сталинского наркома – но потом он исчез; был слух, что отправили его в бессрочную командировку на тот свет, а перед этим довелось ему любоваться на свое изобретение уже не с улицы, а с внутренней стороны.
Итак, одиночка. Не припомнить, что там имелся стол: заключенным не полагались письменные принадлежности, следовательно, то, на что кладут бумагу, когда пишут, не требовалось. Зато предоставляется необозримый простор для мыслей. Вот когда ничто не прерывало их последовательного хода, вот когда, слушая звенящую тишину, шагая от окна к двери и обратно, можно было целиком пребывать наедине с собой,
И так и случилось, что 9 июня, стоя у окна и задумчиво глядя на краешек неба, я вдруг проговорил:
– В них море и небо слились…
Это о темно-синих глазах Иры Серебряковой, первокурсницы русского отделения филологического факультета. Познакомились мы в нашем общежитии незадолго до моего ареста, и после знакомства каждый день искали друг друга. Высшим блаженством было в свободные минуты рука в руке пройти по ближнему парку, рассказывая один другому о своих устремлениях и о своем прошлом. Ира была последним человеком, кого я видел на воле: проговорили до половины второго ночи, расстались, а в три часа за мной пришли. Из пересыльной тюрьмы, как только разрешили писать, я послал ей письмо. Успел получить ответное – в конверте лежали клочки исписанной Ириным почерком бумаги; это позабавился какой-то штатный гуманист из НКВД. Я сложил клочки, прочитал Ирины строки и хранил, пока их не выбросили, отобрав при очередном обыске. Сердце у меня тогда тоже сжалось и, лишенный возможности помешать надзирателю, я дал себе слово научиться прятать нужные мне бумаги так, чтобы их не нашел самый матерый охранник, Сейчас, будучи не в «пересылке», а снова в следственном изоляторе, я не мог писать Ире. Что же, скоро появится возможность вернуться в общежитие, придти к ней.
«Здравствуй!» – ведь свидетели, в общем, показали в мою пользу, переследствие закончено, дело идет к освобождению.
– В них море и небо слились…
В Институте востоковедения Академии наук рядом с блестящей плеядой из десяти академиков-ориенталистов среди других сотрудников работали три молодых, но уже заметных филолога: арабист Василий Александрович Эберман, китаисты Борис Александрович Васильевич и Юлиан Константинович Щуцкий. Двое первых были привержены поэзии, третий – музыке. Всех троих схватили, ни один из них не вернулся к науке. Васильевич, стоя у тюремного окна и вспоминая близкую ему женщину, сказал:
За окошком небо голубое —
Голубое, как твои глаза…
Он берег надежду на встречу, надежда переступала с ним изо дня в день, все больше слабея. Он пытался отогреть ее умиравшее тельце своим дыханием пока был жив, и все оказалось напрасным.
Это станет мне известным позже, а сейчас, в одиночной камере, я, сам того не ведая, вдруг оказался на тропе угасающего в те дни китаиста.
– В них море и небо…
Как все это случилось? Почему я здесь на самом деле?
Могу лишь догадываться. Во время каникул между четвертым и пятым курсами, летом 1937 года, появилась погромная, в духе того времени, статья Л. Климовича, где мой учитель, академик Крачковский обвинялся в «низкопоклонстве перед западной наукой», «космополитизме» и тому подобном. В первые дни пятого курса студент Гринберг публично спросил меня: «Как ты относишься к статье Климовича?» Я ответил: «Это ложь». Гринберг обвел победоносным взором замершие ряды присутствующих. Он торжествовал. А для меня отзыв о статье Климовича послужил началом конца пребывания на свободе. Я еще читал арабские рукописи, переписывался с братом, прогуливался и беседовал с Ирой Серебряковой, а за мной уже ходили холодные глаза слежки. 3 февраля 1938 года академический журнал принял мою статью. А через неделю – «Одевайтесь. Поедете с нами». А Гринберг? Как я узнал впоследствии, он успешно продвинул свою научную карьеру, написал кандидатскую диссертацию, но не успел ее защитить – был призван на фронт и сгорел в танке под Сталинградом.
…Как душно, как трудно! Хождение по камере чуть успокаивает. Немного, но все-таки – сижу в одиночке. Мое одиночество кончилось в июле. Однажды под вечер загрохотал замок, в камеру вошел человек среднего роста с живыми глазами на смуглом настороженном лице.
– Большаков, инженер – представился он, подавая руку. Я ответил рукопожатием и, назвав себя, добавил: «филолог».
Вошедший улыбнулся.
– Противоположности сходятся, значит, давайте дружить. Вы давно сидите?
Я удовлетворил его любопытство. Завязался разговор – обстоятельный, неторопливый, когда собеседники хотят лучше познакомиться. Это особенно важно в тюрьме, тем более, если людям приходится длительное время быть один на один. Каков ты? Будет ли о чем с тобой говорить или придется играть в угрюмую молчанку? И главное – не продашь ли, не переврешь ли перед начальством какое-то мое неточное слово, обмолвку, не обречешь ли на новые муки?
Назавтра Большаков спросил:
– Вы знаете тюремную азбуку?
– Нет.
– Вот тебе и на! Старый арестант, и… Как же так? Ну вот, смотрите…
Он принялся объяснять, и я узнал то, о чем не догадывался раньше, а может быть, просто не обращал на это особого внимания. Придуманная декабристами, тюремная азбука переходила затем от одного поколения узников к другому, неизменно служа верным средством общения между строго изолированными камерами. Каждой букве соответствует определенное количество точек, располагающихся по обе стороны паузы. Один арестант становится против надзирательского «глазка», закрывая обзор камеры из коридора. Другой короткими ударами в стену передает сочетание точек, из которых складываются слова. Два быстрых удара в середине передачи слова означают: «понял, давай дальше» – ведь, неровен час, охрана может «застукать», то есть застать узника за «неположенным занятием», тогда – карцер и другие кары, а хочется узнать как можно больше новостей. Если вдруг охранник стал отпирать дверь в камеру, передающий слова резко проводит по стене черту – «там» это воспринимают как знак тревоги – и с невинным видом отворачивается от стены. Опасность миновала – и он передает недосказанное и вновь слушает непроницаемую преграду, отделяющую людей от людей. И вот уже «оттуда» раздались позывные, два замедленных удара в стену: «Слушай!». Это ответ на передачу «отсюда». А бывает, что все спокойно, тогда «разговор» происходит без перерыва.
Много важных известий было передано таким образом за столетие с лишним. Мы с Большаковым тоже воспользовались этим способом, но из-за одной стены не ответили, по-видимому, далеко не все из нынешних узников знают старинную азбуку, а за другой стеной оказался некто Динвеж, который не смог сообщить ничего нового: «Сижу давно, один, что происходит вокруг – не знаю». Тогда мы стали перестукиваться между собой: сидим в разных углах камеры, стучим каждый по дну оловянной кружки: «Говорят, что во Флоренции к стенам домов на улицах прибиты медные пластинки с выгравированными на них терцинами Данте, вы слышали об этом?!» – «Да, и это очень трогательный памятник человеческой признательности». – «Я в лекциях Тарле слышал, что…» – «Да, но это можно понимать и в том смысле, что Талейран…» Я первый начинал эти разговоры в кавычках или без них, как угодно, – мне хотелось и оживить свои знания, и закрепить в себе умение перестукиваться с товарищами по несчастью.
А время шло…
9 августа я был вызван «с вещами» и препровожден в контору тюрьмы. Молодой канцелярист, что-то писавший за большим столом, поднял глаза и холодно проговорил:
– Сядьте, распишитесь, что вам объявлено постановление.
На листе мутно блестевшей бумаги значилось: Особое совещание при НКВД СССР решением от 26 июля сего 1939 года приговорило меня «за антигосударственную агитацию и антисоветскую деятельность» к пяти годам лишения свободы в «исправительно-трудовых лагерях.
Кровь прихлынула к моему лицу, Значит, напрасной была отмена Верховным судом прежнего приговора и ни к чему оказались все показания свидетелей относительно того, что о моей «контрреволюционной деятельности» им ничего не известно. Значит… Значит…
Канцелярист смотрел на меня выжидающе-нетерпеливо. Я молча расписался, встал. Конвоир отвел меня в просторную камеру, где сидели и лежали на грязном полу уже приговоренные. Дверь поминутно открывалась, вводили новых и новых.
Я присел в углу на свой узел и задумался. Итак, пять лет. Срок считается со дня ареста, следовательно, осталось три с половиной года. Сорок два месяца неволи. Это не так много, у других бывает больше. Но дело не в этом. Дело в том, что я невиновен, а меня наказывают. Это нарушение закона, за это должны ответить. Кто? Особое совещание при НКВД. А что это такое? Кто эти судьи, выносящие приговор заочно, без допроса обвиняемого, без участия сторон? Я уже знаю, что кроме предварительного следствия должно быть судебное, с участием прокурора и защитника. Где это? Но если этого нет, значит, я не осужден, а репрессирован, значит, мою судьбу заключенного определил не суд, а тайное судилище, которое боится посмотреть мне в глаза, страшится правды. Тайное Судилище! Нужно оспорить его решение перед ним самим, нужно убедить, заставить пересмотреть. Как я был наивен!
…В сборной камере несколько людей собрались вокруг старого серба Душана Ивановича Семиза, который гадал по руке. Я не верю предсказаниям, но любопытства ради протянул Душану Ивановичу левую ладонь. Он долго ее рассматривал, водил по ней пальцем, потом пристально посмотрел мне в глаза и проговорил:
– У вас все будет хорошо. Кончится хорошо, я хочу сказать.
За хорошее надо бороться. Если предсказание совпадает с тем, что получится в итоге борьбы, то тем лучше для хиромантии.
Мои «сопроцессники», проходившие по одному «делу» со мной, – Лева Гумилев и Ника Ерехович – тоже получили по пять лет лагерей. Леву отправили в Норильск; знавшая его там женщина-химик, встретившаяся мне в Красноярском лагере осенью 1943 года, передала мне по памяти четверостишие Гумилева-младшего:
Я этот город строил в дождь и стужу,
И чтобы стал он выше местных гор,
Я сделал камнем собственную душу
И камнем выложил дорог узор.
Нику этапировали на Колыму. Там в начале сороковых годов он погиб – в неисчислимых владениях Главного Управления ЛАГерей – часто не выдерживали и более сильные телом.
Мне же была назначена Воркута.
Путь на воркуту
И опять, вечером 9 августа 1939 года, предстала мне ленинградская пересыльная тюрьма – знакомая тысячам людей «пересылка», притаившаяся за старинными Лазаревским и Тихвинским кладбищами, притихшей Александро-Невской лаврой, сонной речкой Монастыркой. Снова просторные камеры, тревожное ожидание этапа. На этот раз недолгое – едва я стал приглядываться к стенам гостеприимного дома, как уже оказался в кировской (вятской) тюрьме. Здесь мною было подано первое заявление о пересмотре дела; таких заявлений за годы скитаний по тюрьмам, лагерям и ссылкам мне придется написать сто десять. Служащая тюремной конторы, миловидная женщина в темном платье с белым кружевным воротничком, приняв густо исписанный лист бумаги, прочитала его, внимательно посмотрела на меня и мягко сказала:
– Хорошо, передадим по назначению.
В ее голосе прозвучало сочувствие – или так показалось, потому что я хотел этого?
Из Кирова путь наш пролег на север, к Воркуте; 22 августа я уже сидел вместе с другими этапниками во дворе «пересылки» в Котласе. Отсюда меня рассчитывали переправить в постоянное место назначения. Воркута, лежащая далеко к северо-востоку от Котласа, рядом с Югорским полуостровом Северного Ледовитого океана, была известна как пожиралище людей, где условия труда и жизни были особенно жестокими. Начальники в НКВД рассуждали об отправляемых на Дальний Север «контриках» (так звали нас уголовники) просто: «Выдюжит – его счастье, подохнет – спишем. Их наловили много, перемрут эти – пригонят новых». Мне предстояло пополнить этап воркутинских «новичков».
Но где-то заело, что-то не сработало, отправку заключенных на север отложили. Мы были размещены в брезентовых палатках, и нас тотчас же стали выводить на работу. Сперва она состояла в переборке гнилого картофеля, рассыпанного по многим отсекам лагерного овощехранилища. Затем собирали бревна, валявшиеся вокруг зоны, укладывали их в штабеля. Наконец, грузили тюки прессованного сена и мешки с крупой на баржи, стоявшие у берега широко разлившейся Северной Двины; под заходившим солнцем, когда рабочий день медленно близился к концу, река пылала нестерпимым и торжественным блеском, потом, наступая, по ней растекались нежная желтизна и розовый свет вечернего неба.
В последующие дни я сдружился с Вернером Карловичем Форстеном. Недавно один из наркомов Карело-Финской ССР, теперь он был моим напарником на распиловке бревен. Не верилось, что этот человек с открытым лицом, доброжелательный и отзывчивый, мог быть «врагом народа». Я стал учиться у Вернера Карповича финскому и быстро оценил самобытную красоту этого языка.
Возле склада, где мы пилили, стоял щит, на нем вывешивалась местная газета. Слова о «вечной советско-германской дружбе» и сообщение о вторжении фашистской Германии в Польшу были напечатаны почти рядом. «Странное совпадение!» – подумал я. Потом прочитал о том, что на третий день вторжения Англия и Франция объявили Германии войну. Но небольшая Польша уже билась в хищных руках, через неполный месяц после нацистского нападения она сникла. Второе дыхание для борьбы придет позже.
5 сентября нас, привезенных 22 августа, переправили в погрузочный лагерь на берегу Вычегды, которая возле Котласа впадает в Северную Двину. Мы и здесь были размещены в палатках несмотря на то, что стала чувствоваться осенняя стужа. Работать пришлось исключительно на погрузке. Чуть ближе середины Вычегды ставилась баржа, к ней с берега вел узкий трап. Внизу таились темные речные глубины, над ними по наклонной плоскости мы катили рвавшиеся из рук тачки с 50-килограммовыми мешками цемента, носили на спине 60-килограммовые мешки с мукой или крупами. В нашей бригаде работал среди других бывший редактор ереванской молодежной газеты Тигрен Харуни. Близко я познакомился с ним чуть позже, когда арестантский товарный поезд в течение восемнадцати суток вез нас в Сибирь. Тигран пересказал мне содержание книги о Манон Леско, потом с его помощью я возобновил свои занятия армянским языком, начатые в первой моей тюремной камере, в ленинградском Доме предварительного заключения. Мой новый знакомый пробыл в Сибири недолго, вскоре по прибытии его отправили в следующий этап. До меня дошла весть о том, что он вновь попал на Вычегду, опять грузил баржи и в один несчастный день сорвался с узкого трапа в реку. Как хотелось, чтобы это было не так! Но в рассказе о беде назвали Тиграна…
Однажды пришлось грузить 90-килограммовые мешки с сахарным песком на баржу, подошедшую от устья Вычегды. Тяжело осевшая баржа ушла к Архангельску, но, пройдя 160 километров, наткнулась на непробиваемый лед (был конец октября) и повернула обратно. Пришлось ее разгружать, но неимоверная тяжесть мешков, теперь уже выносимых вверх по трапу, облегчалась радостным сознанием того, что поскольку судоходство прекратилось, путь на Воркуту закрыт до поздней весны, а уж там посмотрим. Должно же все-таки возыметь какую-то силу мое заявление о пересмотре дела, поданное в кировской тюрьме!
И как раз вскоре я получил на него ответ. Извещение, врученное мне в приемной начальника лагеря, сообщало, что я «осужден правильно, оснований к пересмотру дела не имеется». Как хорошо, что во мне к тому времени была внутренняя жизнь. В памяти вставали пятистишия Аррани:
Поэмы Аррани – ты видишь – точно реки:
У каждой свой исток, свой путь и берега,
Их свежесть у людей приподнимает веки,
В них сердце отмывают – и навеки
Становится сердцам свобода дорога.
В оранжевом плаще задумчиво-усталый,
Устало-нежный сумеречный час!
Как осень поздняя, благоуханно-вялый
На вечера плечах покров прозрачно-алый
Чуть светится, почти совсем погас.
Текут мгновенья – и, как будто гнезда
В зеленой чаще вьет пернатых дочь,
Любви к птенцам не в силах превозмочь,
Серебряные трепетные звезды
На шелке неба вышивает ночь.
Я, в сумерки стиха рожденный светом,
Я до того полжизни брел во мгле,
Но с той поры на милой мне земле
Сквозь толщу бед я прорастал поэтом
С печатью мученика на челе…
Кончался второй месяц моей жизни в постоянном лагерном пункте. Едва оглядевшись на новом месте, в сентябре я отправил письмо Ире Серебряковой. Поведал ей о своих арестантских передвижениях по стране – она просила об этом еще в давнем, изорванном цензурой, а затем отправленном ко мне послании. Ей хотелось, писала она, всегда знать, где я нахожусь. Когда-то дойдет мое «заказное с уведомлением» до невских далей? Весь октябрь прошел в ожидании ответа, но его не было.
Пребывание на Вычегде кончилось 6 ноября. Под вечер нас уже вели через Котлас, красный от праздничных флагов, в знакомую «пересылку». Снова брезентовые палатки, но теперь посреди каждой дымится трудно растапливаемая печурка. Вокруг жалкого огонечка густо сидят люди в лагерных шапках-ушанках, телогрейках «второго срока», то есть ношеных до них другими, в заплатанных ватных брюках, грубой холодной обуви; ничего, потом выдадут фланелевые портянки, будет потепление. Когда это «потом»? – «Как только привезут в каптерку, сейчас нет и не спрашивайте, о портянках объявят по бригадам. Это если вдруг оставят здесь, а если угонят в этап – выдадут в том лагере севера, востока, юга страны, куда вас привезут вертухаи с автоматами и овчарками. Все понятно? А сейчас отворачивай, не болтайся у каптерки, тебе здесь делать нечего». Это речь заключенного каптера, то есть заведующего вещевым складом. Завтра начальство может его разжаловать в рабочие за зоной, но сегодня, став по должности чуть выше своих товарищей по несчастью, он их снисходительно получает и высокомерно им повелевает.
Заключенному «исправительно-трудовых» лагерей положено исправляться и трудиться. То есть исправляться, чтобы трудиться – и трудиться, чтобы исправляться. В котласском лагере, хотя он был пересыльным, а не постоянным – правда, и на «пересылках» бывали бригады длительного использования – начальство считало, что и временно пребывавшим там арестантам не надо сидеть без дела, и задача «руководства» – обязательно найти им хоть какое-нибудь «общественно-полезное» занятие. Так я вскоре после прибытия из Вычегды увидел себя на картофельном поле, выкапывающим сизые мерзлые клубни из-под снега. На осуществление этого «мероприятия» была «брошена» вся наша бригада.
13 ноября в палатку внезапно принесли почту. Вести с воли, пусть и запоздалые, особенно долгожданны в мире узников и по-особенному их волнуют. Вестями из родных мест обязательно делятся земляки, дорогие сердцу строки до получения новых известий помнят все. Свежая почта неизменно рядом с нетерпением, перечитыванием, но, прежде всего – с радостью получения, независимо от поступивших с этой почтой сообщений. Арабская поговорка гласит: «Свободный – раб, когда он жаждет: раб – свободен, когда он доволен». Те, кого изощренной ложью и открытым насилием пытались превратить в рабов, в отдельные мгновения испытывали на себе мудрость этого изречения.
Итак, пришла почта. Одной из первых назвали мою фамилию, выдали три письма. Я залез на свои верхние нары, огрубевшие пальцы стали бережно извлекать из вскрытых цензурой конвертов листок за листком. И уже не было ни промерзлой палатки, ни дымившейся печки, ни самих нар. Строки желанные, долгожданные нежно прижимались к первым тяжелым мозолям на ладонях, лились в глаза, входили в память.
…Неровный, нервный почерк Веры Моисеевны. «Была в прокуратуре. Обещали твое дело затребовать и проверить». Приятное сообщение. Проверяйте, пересматривайте, гражданин прокурор, давно пора. Для надзора за соблюдением справедливости вас и содержит народ или – для того, что вы давали ордера и ордера на его, народа, арест… «Мужайся, терпи. Постарайся сохранить свое здоровье и бодрый дух, они тебе пригодятся». Постараюсь, Вера Моисеевна, обязательно постараюсь. У вас, я знаю, свои невзгоды: благополучный муж, родственничек мой, став важной госперсоной, столпом государства, оставил вас, докучную свидетельницу его нищей внешности, ушел к другой женщине. Вам, конечно, очень горестно. Однако сейчас обращенные ко мне слова легче писать в Москве, нежели читать в Котласе. Я знаю, что вы всегда были добры ко мне, так не надо этих общих просьб о сохранении здоровья, лучше сообщите, что у вас как-то стала налаживаться личная жизнь, я буду так рад.
…Выработанный долгой бухгалтерской службой четкий, красивый почерк моего Иосифа, брата. «У нас все более или менее хорошо, не беспокойся… Иногда по вечерам, когда нет сверхурочной работы в банке или когда нечего ремонтировать, чтобы подработать – в такие вечера я беру свою скрипку, тихо, чтобы не мешать соседям, играю и вспоминаю наши с тобой скрипично-гитарные дуэты. Неужели это не вернется?» – «И даже непременно вернется, дорогой мой, единственный. Ни ты, ни я не должны в этом сомневаться. Беда не сломит меня, падение мое было бы слишком большой честью для палачей, я лишу их этого удовольствия».
…И – милый, округлый, чуть размашистый, чуть неровный почерк Иры. И – чуть слышный, почти угадываемый запах розовой юности, нежной свежести этого чистого полевого цветка.
27 ноября слухи, изо дня в день занимавшие лагерников, подтвердились. Из палатки в палатку стал переходить нарядчик:
– Этап! Всем приготовиться!
Поднялся переполох. Суета, шум до неба, как всегда в таких случаях. Вроде бы, и подготовили себя жители «пересылки» к очередному путешествию, ведя речи о нем каждый день, а все же надеялись: авось пронесет, удастся «перекантоваться», перебыть хоть одну из невольничьих зим на пусть и мало обустроенном, но уже немного насиженном месте. Не пронесло, не удалось перебыть.
И вдруг опять нарядчик:
– Алиев!
– Я! – отозвался рослый широкоплечий дагестанец с благообразным, чуть барственным лицом.
– На выход с вещами! В контору – оформляться на освобождение!
Люди в палатке застыли от изумления. Еще минуту назад бесправный этапник, дагестанец вдруг резко выделился, стал человеком другого мира. Он вышел с нарядчиком, а вскоре вернулся. За ним, неся полученные в каптерке его вещи, шел другой жилец нашей палатки, человек неопределенного возраста по имени Турдыахун. Это имя многие произносили как «Тудахун», и сам Алиев, бывало, обыгрывая это уродливое сокращение, звал шутливо и вместе с тем властно:
– Тудахун! Иди сюда-кун!
Теперь порозовевший от волнения Алиев быстро сбросил с себя лагерный наряд, переоделся в синий костюм, ладно сидевший на его статной моложавой фигуре, переобулся. Пошел к выходу, небрежно кивая в ответ на поздравления. Турды-ахун, провожая, потащил за ним большой чемодан.
Ушел человек, как и не было его.
– Везет же людям! – вздохнул кто-то.
– Наверное, хлопотали вовсю, пороги обивали, так просто не выпустят.
– Пороги оббивали! Не золотишком ли? У меня вон второй год хлопочут, ничего не могут сделать.
– Зачем уж так, «золотишком»! Может, просто разобрались и приказали освободить, за человека радоваться надо.
– Братцы, а может быть, это первая ласточка, а? Глядишь, и косяками на волю пойдем.
Всем хотелось в это верить. Обсуждение закончили, чтобы не спугнуть птицу надежды.
А вечером нас перегнали со всеми пожитками в большой барак, где три недели назад мы провели первые сутки по прибытии из Вычегды, По приказу хмурых конвоиров каждый раздевался донага, наклонялся, ему заглядывали в задний проход, потом ерошили волосы на голове: вдруг там и тут спрятано по ножу или бритвенному лезвию, которыми «враг народа» изрежет плотную и толстую стену вагона, после чего спрыгнет на ходу поезда и пустится в побег?! Затем перетряхивали, прощупывали, сминали каждую вещь. Проверив, бросали на пол: «Забирай, одевайся!» И в толпу ожидавших своей очереди: «Следующий!»
Пройдя весь круг, я оделся, схватил свои вещи и, поскольку еще не всех обыскали, залез на верхние нары. И там, отвернувшись от конвоиров и закрыв лицо руками, стал беззвучно смеяться: победа! Все дорогое, что я спрятал, – научные записи, письма – все осталось при мне. Все уцелело, слышите, гражданин начальник конвоя? Хорошо искали ваши служаки, но я еще лучше спрятал. Тюремная школа принесла ощутимую пользу. Кажется, впервые в неволе я смеялся так радостно, так упоенно. Ночью нас привели на станцию. По алфавиту фамилий разместили в товарных вагонах, с грохотом задвинули двери, заперли на замки.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































