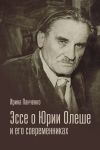Текст книги "Теория литературы. Введение"

Автор книги: Терри Иглтон
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Взгляд Элиота на то, что язык в индустриальном, не подходящем для поэзии обществе утратил новизну и форму, имеет сходство со взглядами русских формалистов, но он также разделялся Эзрой Паундом, Томасом Халмом[66]66
Английский литератор и критик (1883–1917), один из предтеч модернизма. – Прим. перев.
[Закрыть] и движением имажистов[67]67
Британо-американское литературное течение первой трети прошлого века, участники которого отдавали предпочтение возникающим зрительным образам в противовес мелодике стиха и делали упор на неожиданности сравнений. Паунд тоже числился среди имажистов. – Прим. перев.
[Закрыть]. Поэзия заразилась романтизмом, стала болезненным занятием, недостойным мужчины, полным сентиментальных излияний и изящных чувств. Язык стал изнеженным и потерял свое плодотворное начало: ему нужно было вновь придать жесткость, сделать его твердым как камень, вновь связать с миром души. Идеальным имажистским стихотворением были бы три лаконичные строчки, полные смелых образов, как крик отдающего команды армейского офицера. Эмоции беспорядочны и ожидаемы, они часть выдохшейся эпохи напыщенной либерально-индивидуалистической сентиментальности, которая должна теперь уступить место внеличностному механистическому миру современного общества. Для Дэвида Лоуренса эмоции, «личность» и «эго» были одинаково дискредитированы и должны уступить дорогу жестокой внеличностной силе стихийно-творческой Жизни. За критической установкой вновь стояла политика: либерализм среднего класса подошел к концу, он должен быть отодвинут со сцены некой версией жесткой, мужской дисциплины, которую Паунд обнаружил в фашизме.
В случае «Скрутини», по крайней мере поначалу, не была выбрана дорога крайне правой реакции. Напротив, она была лишь отражением отчаянного положения либерального гуманизма, связанного, в отличие от Элиота и Паунда, с однозначным осознанием ценности личности и созидательности межличностного взаимодействия. Эти ценности можно кратко обозначить словом «Жизнь», словом, которое «Скрутини» наделил положительным смыслом, не будучи в состоянии определить, что же это такое. Если вы спрашивали о мотивировке их теоретических положений, то этим вы демонстрировали глубокое невежество: вы или чувствуете Жизнь, или нет. Великая литература была литературой, почтительно открытой для Жизни, и то, что такое Жизнь, можно было показать при помощи великой литературы. Доказательство цикличное, интуитивное, защищенное от любого спора, отражающее мнение тесного круга самих сторонников Ливиса. Не было ясно, какой стороной Жизнь раскрывается во время всеобщей рабочей стачки 1926 года и совместимо ли поэтическое прославление ее полноты с одобрением массовой безработицы. Если жизнь созидательна в любом произведении, тогда она такова и в работах Дэвида Герберта Лоуренса, которого Ливис начал превозносить с первых шагов. «Стихийно-созидательная жизнь» Лоуренса вполне счастливо сосуществует с самым опасным сексизмом, расизмом и авторитаризмом, и, кажется, некоторых участников «Скрутини» чрезвычайно тревожило это противоречие. Крайне правые черты, которые Лоуренс разделял с Элиотом и Паундом – яростное презрение к либеральным и демократическим ценностям, рабское подчинение безликому авторитету, – в той или иной мере вычеркивались из его биографии: Лоуренс был перекрашен в либерального гуманиста и водружен на постамент как триумфальное завершение «великой традиции» в английской беллетристике от Джейн Остин до Джордж Элиот, Генри Джеймса и Джозефа Конрада.
Ливис правильно разглядел в приятном лице Дэвида Лоуренса мощного критика бесчеловечности индустриальной капиталистической Англии. Лоуренс, как и сам Ливис, был, помимо прочего, наследником романтического направления XIX века, протестовавшего против механистического наемного рабства капитализма, его уродующего общественного гнета и культурного опустошения. Но так как и Лоуренс, и Ливис избегали политического анализа той системы, которой они сопротивлялись, им не оставалось ничего иного, кроме разговоров о стихийно-созидательной жизни, которые становились тем более кричаще абстрактными, чем большей конкретики требовали. Так как становилось все менее и менее очевидным, как именно Марвелл, включенный в учебное расписание, мог изменить механический труд фабричных рабочих, либеральный гуманизм Ливиса превратился в оружие самой обычной политической реакции. «Скрутини» просуществовал до 1953 года, сам Ливис прожил до 1978, но в этот поздний период Жизнь явно испытывала сильную вражду к народному образованию, непримиримое противостояние транзисторному радио и мрачные подозрения, что между «зависимостью от телевизора» и требованиями участия студентов в собственном образовании много общего. Современное «технологически-утилитарное» общество должно быть безоговорочно осуждено как «тупеющее и отупляющее»: кажется, это было последним выводом сурового критического разбора. Поздний Ливис сожалел об исчезновении английского джентльмена; колесо сделало полный оборот.
Имя Ливиса тесно связано с «практической критикой» и «тщательным прочтением», и некоторые из его собственных работ стоят в ряду самых искусных, передовых сочинений английской критики XX века. Стоит задуматься над термином «практическая критика» несколько глубже. Он означает метод, с презрением отрицающий беллетристический вздор и осмеливающийся разобрать текст на части. Но он также допускает, что можно судить о «величии» или «центральном положении» литературы, сосредотачивая внимание на стихотворных или прозаических отрывках, изолированных от их культурных или исторических контекстов. С точки зрения «Скрутини», в этом не было никакой проблемы: если литература «благотворна», когда она провозглашает конкретное чувство, переживаемое непосредственным опытом, то вы можете судить о ней даже по обрывку прозы, так же как доктор может понять, больны ли вы, всего лишь прощупав пульс или посмотрев на цвет кожи. Нет нужды изучать произведение в его историческом контексте или даже обсуждать систему идей, в которой оно было создано. Это вопрос оценки стиля и эмоциональности конкретного отрывка, его точного размещения и затем его действия в тексте. Неясно, как могла эта процедура восприниматься как нечто большее, чем просто более изощренная дегустация вина, где все, что литературные импрессионисты могли бы назвать «молодым», у нас выглядело бы «зрелым и богатым». Если Жизнь кажется слишком широким и размытым термином, то критические техники для ее раскрытия кажутся, соответственно, слишком узкими. Поскольку сама по себе практическая критика угрожала стать чересчур прагматической в своем стремлении влиять на судьбу цивилизации – ни больше и не меньше, – сторонники Ливиса нуждались в ее «метафизическом» обосновании и находили его достаточным для того, чтобы обратиться к произведениям Дэвида Лоуренса. Так как Жизнь – это не теоретическая система, а вопрос конкретного интуитивного знания, всегда можно занять здесь положение для критики систем других людей. Но так как она – ценность настолько абсолютная, насколько это вообще возможно вообразить, также можно, благодаря этой ее особенности, ругать тех прагматиков и практиков, которые не видят дальше своего носа. Есть шанс потратить довольно много времени, меняя одну из этих позиций на другую, в зависимости от направления вражеского огня. Жизнь станет безжалостным и очевидно метафизическим в своей основе принципом, если вы пожелаете с евангельской уверенностью заняться отделением литературных агнцев от козлищ. Но так как она являет себя лишь в конкретных обстоятельствах, то никакой систематической теории не создается, и поэтому этот подход неуязвим для возражений.
«Тщательное прочтение» – словосочетание, смысл которого сложно объяснить. Как и «практическая критика», оно обозначает детальную аналитическую интерпретацию, предлагая тем самым ценное противоядие от пустой эстетической болтовни. Но, кажется, оно также предполагает, что любая предшествовавшая ему критическая школа прочла в среднем лишь три слова в строке. На самом деле, требовать тщательного прочтения – значит сделать больше, чем уделить надлежащее внимание тексту. Это неизбежно предполагает внимание именно к данному, нежели к чему-то еще: к «словам на странице» больше, чем к контекстам, которые их произвели и окружают. Да, подразумеваются и ограничения, и сосредоточение на предмете – вещи, которые явно не помешали бы тем литературным беседам, что плавно перетекают от характера языка Теннисона к длине его бороды. Но, рассеивая многие анекдотические неуместности, «тщательное прочтение» в то же время сохраняет многие из них: оно поддерживает иллюзию, что любой отрезок языка, «литературный» или нет, может быть адекватно изучен и даже понят в изоляции от контекста. Перед нами установка на «овеществление» литературного произведения, обращение с ним как с самостоятельным объектом, победоносно доведенное до крайности американской «новой критикой».
Главной связующей нитью между кембриджским изучением английской литературы и американской «новой критикой» являются работы кембриджского критика Айвора Армстронга Ричардса. Если Ливис стремился исправить критику через превращение ее в нечто равное религии, таким образом продолжая дело Мэтью Арнольда, то Ричардс в своих работах 20-х годов стремился дать прочное основание принципам сугубо практической «научной» психологии. Яркий бесстрастный стиль его прозы интересно контрастирует с изысканной насыщенностью стиля Ливиса. Ричардс полагает, что общество оказалось в кризисе, потому что исторические изменения, и научные открытия в частности, обнаружили и обесценили суть традиционной мифологии, в рамках которой существовали люди. Таким образом, тонкое равновесие человеческой психики было опасно нарушено, а так как религия больше не может служить его восстановлению, то поэзия должна сделать это за нее. Поэзия, с удивительной небрежностью замечает Ричардс, «способна спасти нас; она идеально подходит для победы над хаосом»[68]68
Richards I. A. Science and Poetry. London, 1926. P. 82–3.
[Закрыть]. Как и Арнольд, он выдвигает литературу вперед как осознанную идеологию для реконструирования общественного порядка и делает это в условиях общественной разрухи, экономического упадка, политической нестабильности лет, последовавших за мировой войной.
Современная наука, утверждает Ричардс, является моделью истинного знания, но в эмоциональном смысле оставляет желать лучшего. Она не может дать ответ на вопросы масс «что?» и «почему?», вместо этого довольствуясь ответом на вопрос «как?». Сам Ричардс не верит, что вопросы «что?» и «почему?» более правильны, но он допускает, что так кажется большинству людей. И если на такие псевдовопросы предлагаются некие псевдоответы, общество оказывается на грани распада. Роль поэзии состоит в том, чтобы давать такие псевдоответы. Поэзия являет собой скорее «аффективный», воздействующий на чувства, чем «референциальный»[69]69
To есть указывающий на реальность за пределами самого себя. – Прим. перев.
[Закрыть] язык, это разновидность «псевдоутверждения», которое, казалось бы, описывает мир, но на самом деле просто организует наши ощущения окружающего мира так, что нас это удовлетворяет. Самая действенная разновидность поэзии – та, которая организует максимальное количество импульсов при помощи минимального количества конфликтов или с минимальным чувством неудовлетворенности. Без такой психической терапии мерило ценностей рискует обрушиться ниже «самых мрачных возможностей кинематографа и радио»[70]70
Richards I. A. Principles of Literary Criticism. London, 1963. P. 32.
[Закрыть].
Количественная, бихевиористская модель сознания, созданная Ричардсом, была фактически частью социальной проблемы, решение которой он предлагал. Совершенно не ставя под сомнение отчужденный взгляд науки как позицию чисто инструментальную и нейтрально «референциальную», он вполне принимает эту позитивистскую фантазию и затем натужно пытается добавить к ней нечто утешающее. Если Ливис вел войну с технологическими утилитаристами, то Ричардс пытался победить таковых их собственным оружием. Соединяя дефективную утилитаристскую теорию ценностей с фундаментальным эстетическим взглядом на человеческий опыт (искусство, полагает Ричардс, характеризует самые превосходные виды опыта), он возносит поэзию в качестве «наиболее изящного примирения» с анархией современного существования. Если исторические противоречия не могут быть разрешены в реальности, они могут гармонично примириться как отдельные психологические «влечения» в умозрительном мышлении. Действие не обязательно требуется, так как оно склонно препятствовать устойчивому равновесию влечений. «Никакая жизнь, – замечает Ричардс, – не может быть превосходной, если ее элементарные реакции неорганизованны и спутаны»[71]71
Ibid. P. 62.
[Закрыть]. Организация непокорных низких импульсов будет более эффектно гарантировать выживание высших и лучших; это недалеко от викторианского убеждения, что организация низших слоев будет гарантировать выживание высших, – и они действительно в значительной степени связаны.
Американская «новая критика», расцвет которой пришелся на период с конца 1930-х по 1950-е годы, испытала сильное влияние этих теорий. Термин «новая критика» применяют к работам Элиота, Ричардса, возможно, к Ливису и Уильяму Эмпсону, так же как и к ведущим американским литературным критикам, среди которых можно назвать имена Джона Кроу Рэнсома, В. К. Уимсетта, Клинта Брукса, Аллена Тейта, Монро Бердсли и Р. П. Блекмура. Важно отметить, что это американское движение имеет корни в экономически отсталом Юге, в регионе, где сильны были традиции крови и породы, где юный Томас Элиот получил свои первые представления о естественном обществе. В период американской «новой критики» Юг подвергался быстрой индустриализации под влиянием северных капиталистических монополий. Но «традиционные» (из поколения в поколения) южные интеллектуалы, такие как Джон Кроу Рэнсом, который дал «новой критике» ее имя, все еще могли найти в нем «эстетическую» альтернативу стерильному научному рационализму индустриального Севера. Испытавший, как и Томас Элиот, духовную травму из-за индустриального вторжения, Рэнсом сначала нашел убежище в литературном движении так называемых беглецов[72]72
«Беглецы» (или «фьюджитивисты») – литературно-поэтическая группа в штате Теннеси, кузница кадров «новой критики». – Прим. перев.
[Закрыть] 1920-х годов, а затем в правом политическом популизме 1930-х. Идеология «новой критики» начала выкристаллизовываться: научный рационализм разрушал «эстетическую жизнь» старого Юга, человеческий опыт был обнажен в его чувственно-эмоциональных деталях, и поэзия была возможным выходом из этой ситуации. Поэтический отклик, в отличие от научного, почтительно относился к чувственно целостному восприятию объекта: это не вопрос рационального познания, но нечто эмоциональное, что соединяет нас с «жизнью тела» религиозной в сущности связью. Через искусство отчужденный мир может быть возвращен нам во всех своих многочисленных вариациях. Поэзия, как созерцательный по своей сути метод, побудит нас не изменить мир, но уважать его таким, какой он есть, учила бы подходить к нему с незаинтересованным смирением.
Иными словами, как и взгляды «Скрутини», «новая критика» была идеологией утратившей корни, занявшей оборонительную позицию интеллигенции, которая заново нашла в литературе то, что не могла удержать в жизни. Поэзия стала новой религией, ностальгическим убежищем от отчужденности индустриального капитализма. Стихотворение было так же непроницаемо для рационального подхода, как и сам Всевышний: оно существует как замкнутый на себе объект, таинственно цельный в собственном уникальном существовании. Стихотворение было тем, что невозможно передать своими словами, нельзя выразить на любом другом языке, кроме его собственного: каждая из его частей была соединена с другими в общее органическое единство, осквернить которое было бы богохульством. Литературный текст для американской «новой критики», как и для Айвора Ричардса, определялся терминами, которые можно назвать «функционалистскими»: как американская функционалистская социология развивала «бесконфликтную» модель общества, в котором каждый элемент «приспособлен» к любому другому, так и стихотворение виделось стирающим разногласия и противоречия в симметричном объединении своих различных сторон. «Связь» и «объединение» были ключевыми словами, но если стихотворение при этом склоняло читателя к определенной идеологической позиции по отношению к миру – грубо говоря, умозрительно принимаемой, – эта установка на внутреннюю связность не могла быть доведена до точки, где стихотворение становилось совершенно отрезанным от реальности, прекрасно поддерживающим собственное автономное существование. Поэтому было необходимо соединить этот упор на внутреннем единстве текста с положением о том, что благодаря этому единству произведение в некотором смысле «согласуется» с самой реальностью. Иными словами, «новая критика» исключала чистокровный формализм, неуклюже смягчая его разновидностью эмпиризма – убеждения, что поэтический дискурс неким образом включает в себя реальность.
Так как «новая критика» рассматривала стихотворение как объект, ей приходилось отделять его одновременно и от автора, и от читателя. Айвор Ричардс наивно полагал, что стихотворение было лишь прозрачным проводником, через который мы можем видеть психологические процессы, происходящие в голове поэта: чтение просто раскрывало нашему собственному сознанию внутреннее состояние автора. И большинство представителей традиционной литературной критики поддерживали этот взгляд в той или иной форме. Великая Литература создается Великим Человеком, и ее ценность заключается главным образом в том, что она дает нам возможность вплотную приблизиться к его душе. При такой позиции мы сталкиваемся с несколькими проблемами. Для начала, она сводит всю литературу к завуалированной форме автобиографии: мы читаем литературные произведения не как литературные произведения, а просто как опосредованный способ узнать кого-то. Во-вторых, из такого мнения следует, что литературные произведения действительно «выражают» авторское сознание, что, кажется, не поможет нам в обсуждении «Красной Шапочки» или крайне стилизованной куртуазной любовной лирики. Положим, читая «Гамлета», я буду знать, что происходило в сознании Шекспира. Но в чем смысл этого моего знания, если все это сознание, которое мне доступно, и без того дано в тексте «Гамлета»? Почему бы просто не сказать вместо этого, что я читаю «Гамлета», если не осталось никаких свидетельств о сознании Шекспира, кроме самой пьесы?
Отличалось ли то, что было в его сознании, от того, что он написал, и как мы можем об этом узнать? Знал ли он сам, что было у него в сознании? Всегда ли писатели полностью владели собственными замыслами?
«Новая критика» смело порвала с литературной теорией Великого Человека, настаивая на том, что намерения автора, даже если бы мы могли их узнать, несущественны для интерпретации его текста. Запрещалось путать со смыслом стихотворения и эмоциональные реакции конкретных читателей: стихотворение значит то, что оно значит, безотносительно к интенции автора или субъективным ощущениям читателя, вызванным этих стихотворением[73]73
См.: The Intentional Fallacy and The Affective Fallacy // Wimsatt W. K., Beardsley M. The Verbal Icon. New York, 1958.
[Закрыть]. Смысл был общим и объективным, зашифрованным в самом языке литературного текста, а не скрытым в некоем предполагаемом душевном импульсе в голове давно умершего автора; не сводился смысл и к произвольным частным значениям, которые конкретный читатель мог приписать тем или иным словам произведения. Мы обсудим все «за» и «против» этой точки зрения во второй главе. Между тем необходимо осознать, что отношение «новой критики» к этим вопросам тесно связано с ее побуждением превратить стихотворение в самодостаточный объект, такой же цельный и материальный, как гробница или икона. Стихотворение стало скорее пространственной фигурой, чем процессом, разворачивающимся во времени. Освобождение текста от автора и читателя шло рука об руку с его избавлением от любого социального или исторического контекста. Конечно, нужно знать, что конкретно слова стихотворения значили для его первых читателей, но только эта довольно техническая разновидность исторического знания и была теперь дозволена. Литература есть решение социальных проблем, а не их часть; стихи должны оставаться свободными от обломков истории и быть подняты в сферу возвышенного.
Сделанное «новой критикой» было фактически превращением стихотворения в фетиш. Если Айвор Ричардс «дематериализовал» текст, сведя его к открытому окну в душу писателя, американская «новая критика», взяв реванш, вновь его материализовала, сделав его похожим не на процесс порождения значения, а на нечто с четырьмя углами и отштукатуренным фасадом. Весьма иронично, что весь социальный порядок, против которого протестовала такого рода поэзия, изобилует этими «овеществлениями», преобразованиями людей, процессов и институтов в «вещи». С точки зрения «новой критики», стихи, как и романтический символ, были, таким образом, вдохновлены абсолютно мистической властью, которая не терпит ни одного рационального аргумента. Как и большинство других рассмотренных нами литературных теорий, «новая критика» была изначально полнокровным иррационализмом, тесно связанным с религиозным вероучением (несколько возглавляющих течение критиков были христианами) и с правыми американскими аграрными популистами с их идеологией «крови и почвы». Этим я не хочу сказать, что «новая критика» была враждебна критическому анализу более, чем «Скрутини». Если некоторые ранние романтики в почтительном молчании склонялись перед непроницаемой тайной текста, «новая критика» сознательно развивала самые твердые и последовательные приемы критического разбора. Тот же импульс, что заставил их настаивать на «объективном» характере сочинений, позволил им утверждать и беспощадную «объективность» метода их анализа. Типичный для «новой критики» разбор стихотворения предлагал строгое постижение различных его «внутренних конфликтов», «парадоксов» и «амбивалентностей», демонстрацию того, как все они разрешились и встроились в цельную структуру. Если сама поэзия была новым естественным обществом в себе, последним выходом из тупика для науки, материализма и находившегося в упадке эстетизма рабовладельческого Юга, вряд ли ей нужно было поддаваться критическому импрессионизму и вялому субъективизму.
Кроме того, «новая критика» развивалась в те годы, когда литературная критика в Северной Америке боролась за то, чтобы стать «профессиональной» сферой деятельности, приемлемой в качестве респектабельной академической дисциплины. Весь арсенал её критического инструментария был призван поставить ее на один уровень с точной наукой, в которой общество видело модель знания вообще. Возникнув как гуманистическая подпорка или альтернатива технократическому обществу, движение тем самым нашло себя, воспроизводя такого рода технократию в собственных методах. Бунтарь слился с образом своего хозяина и, как показали 40-е и 50-е годы, был довольно легко поглощен академической элитой. Поначалу «новая критика» казалась самой естественной вещью в мире литературной критики. Действительно, было сложно представить, что когда-то было по-другому. Длинное путешествие из Нэшвилла, штат Теннесси, родины «беглецов», до университетов «Лиги плюща» с восточного побережья[74]74
Восемь частных высших учебных заведений в северо-восточных штатах США, объединенных в ассоциацию: Корнельский университет в Итаке, университет Брауна в Провиденс, Колумбийский университет в Нью-Йорке, Дартмутский колледж в Ганновере, Гарвардский университет в Кембридже, Принстонский университет в Принстоне, Пенсильванский университет в Филадельфии, Йельский университет в Нью-Хейвене. – Прим. перев.
[Закрыть] было завершено.
Есть, по меньшей мере, две причины, по которым «новая критика» хорошо прижилась в академической среде. Во-первых, она подготовила удобный педагогический метод управления возрастающим числом студентов[75]75
См.: Ohmann R. English in America. New York, 1976. Ch. 4.
[Закрыть]. Знакомить студентов с короткими стихами, чтобы обучить их восприятию, было менее обременительно, чем энергично браться за Великие Романы курса всемирной литературы. Во-вторых, взгляд «новой критики» на стихи как на тонкое равновесие противоборствующих позиций, объективное примирение противоположных влечений был глубоко симпатичен скептическим либеральным интеллектуалам, дезориентированным столкновением догм во время «холодной войны». Читать поэзию так, как это предлагала «новая критика», означало ни к чему себя не обязывать: поэзия учила лишь «незаинтересованности», безмятежной созерцательности, полной беспристрастности, неприятию ничего конкретного. Это вряд ли подтолкнет вас к противостоянию маккартизму или к развитию гражданских прав, скорее заставит пережить политическое давление как нечто частичное и несомненно гармонически сбалансированное в масштабах всего мира дополняющими его оппозициями. Иными словами, это был рецепт политической инертности и, соответственно, подчинения политическому статус-кво. Как и следовало ожидать, все это не пересекало границ безопасного плюрализма: стихи, по словам Клинта Брукса, стали «объединением позиций в иерархически организованное и тотальное в своей управляемости отношение»[76]76
Brooks C. The Well Wrought Urn. London, 1949. P. 189.
[Закрыть]. Плюрализм был очень хорош, если иметь в виду, что он не нарушал иерархического порядка; различные непредвиденные обстоятельства в ткани стихотворения могли приятно смаковаться, поскольку его управляющая структура оставалась нетронутой. Противоположности должны быть разрешены, а в конечном счете и слиться в гармонии. Пределы «новой критики» были, по сути, границами либеральной демократии: стихи, как написал Джон Кроу Рэнсом, «были, так сказать, словно демократическое государство, которое выполняет государственные цели, не жертвуя личностями своих граждан»[77]77
The New Criticism. Norfolk, Conn. 1941. P. 54.
[Закрыть]. Интересно узнать, как рабы с южных плантаций поступили бы с этим утверждением.
Читатель мог заметить, что «литература» в произведениях нескольких последних критиков, которых я рассмотрел, незаметно соскользнула в «поэзию». «Новая критика» и Айвор Ричардс касаются почти исключительно поэзии. Томас Элиот исследовал драму, но не роман, Ливис имел дело с романом, но проводил его под рубрикой «драматическая поэма»: как видим, что угодно, но не роман. Большинство литературных теорий, в самом деле, невольно отдают предпочтение конкретному литературному жанру, из которого и выводят свои главные утверждения. Было бы интересно проследить этот процесс через историю теории литературы, определяя конкретную литературную форму, взятую в качестве парадигмы. В случае современной литературной теории сдвиг в поэзию является особенно важным. Из всех родов литературы лирика наиболее очевидно изолирована от истории, это тот самый род, где «чувственность» может выступать в чистейшей форме, наименее запятнанной обществом. Сложно рассматривать «Тристрама Шенди» или «Войну и мир» как целостно организованную структуру символической амбивалентности. Однако даже в поэзии критики, о которых я только что еще раз говорил, поразительно оставляют вне рассмотрения то, что может быть довольно упрощенно названо «мыслью». Критика Элиота показывает исключительное отсутствие интереса к тому, что действительно говорит литературное произведение: его внимание практически полностью сконцентрировано на особенностях языка, манере чувств, структуре образов и опыте. «Классическим» для Элиота является произведение, которое берет начало в системе коллективных верований, но убеждения тут менее важны, чем самый факт коллективности. Для Ричардса хлопоты с убеждениями являются несомненной преградой для правильного восприятия литературы: сильные эмоции, испытываемые нами при чтении стихотворения, могут ощущаться как убеждение, но это всего лишь еще одно псевдосостояние. Только Ливис освобождается от этого формализма, считая, что комплекс формального единства произведения и его «трепетная открытость жизни» являются гранями одного процесса. Однако на практике его работы стремятся провести разделение между «формальной» критикой поэзии и «нравственной» критикой прозы.
Я упомянул, что английского критика Уильяма Эмпсона иногда относят к «новой критике», но фактически он с большим интересом прочитывается как безжалостный оппонент ее основных теоретических взглядов. С «новой критикой» Эмпсона сближает его сжатая манера анализа, захватывающая дух изобретательность, с которой он обнаруживает каждый тонкий нюанс литературного смысла, но все это находится на службе старомодного либерального рационализма, глубоко расходящегося с символической эзотеричностью Элиота или Брукса. В своих главных работах «Семь разновидностей неоднозначного» (1930), «Некоторые варианты пасторали» (1935), «Структура сложных слов» (1951) и «Бог Мильтона» (1961) Эмпсон выливает ушат английского здравого смысла на их страстное благочестие, что особенно очевидно в его нарочито упрощенной, сдержанной, свободно разговорной манере письма. В то время как «новая критика» отделяет текст от мыслительного дискурса и социального контекста, Эмпсон дерзко настаивает на рассмотрении поэзии как разновидности «обычного» языка, поддающейся рациональному пересказу своими словами, как вида выражения последовательности действий с помощью обычной речи. Он беззастенчивый «интенционалист»[78]78
См. вторую главу. – Прим. перев.
[Закрыть], размышляющий над тем, что, вероятнее всего, имел в виду автор, и интерпретирующий это самым благородным, сдержанным, истинно английским способом. Отнюдь не существуя в виде герменевтичного замкнутого объекта, литературное произведение для Эмпсона не является открытым для любых толкований: его понимание включает в себя понимание общего контекста, в котором слова употребляются социально, а не просто как шаблонные схемы внутренней словесной последовательности, и такие контексты всегда остаются не до конца определенными. Интересно сопоставить знаменитую эмпсоновскую «неоднозначность» с «парадоксом», «иронией» и «амбивалентностью» «новой критики». Амбивалентность подразумевает целесообразное слияние двух противоположных, но взаимодополняющих смыслов: для «новой критики» стихи – это напряженная система таких оппозиций, но они никогда реально не угрожают нашей потребности в объединении, потому что всегда разрешаются в тесное единство. Эмпсоновская «неоднозначность», с другой стороны, никогда не может быть окончательно определена: она обращает внимание на точки, где язык стихотворения спотыкается, замирает или указывает на что-то вне себя, многозначительно намекая на некий потенциально неисчерпаемый контекст смысла. Если читатель отгорожен герметичной структурой амбивалентности, сведенной к пассивному восхищению, «неоднозначность» добивается его участия. Она, как формулирует Эмпсон, является «любым словесным оттенком значения, однако неглубоким, оставляющим возможность для любых альтернативных реакций на один и тот же фрагмент языка»[79]79
Empson W. Seven Types of Ambiguity. Harmondsworth, 1965. P. 1.
[Закрыть]. Именно реакция читателя способствует неопределенности, и эта реакция обусловлена не только лишь самими стихами. Для Айвора Ричардса и «новой критики» смысл поэтического слова является крайне «контекстуальным» как функция внутренней словесной организации стихов. Согласно Эмпсону, читатель неизбежно привносит в произведение все социальные контексты дискурса, молчаливые предположения, которые текст может оспаривать, но которые в любом случае последовательно с ним связаны. Поэтика Эмпсона либеральна, общественна и демократична, обращаясь, при всем ослепительном великолепии особенностей ее стиля, скорее к вероятным симпатиям и ожиданиям обычного читателя, чем к техническим приемам профессионального критика.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?