Текст книги "Вдали от обезумевшей толпы. В краю лесов"
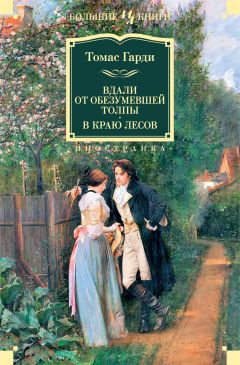
Автор книги: Томас Гарди
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 55 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Поэтому она никак не могла решить, следует ли ей считать себя оскорбленной или нет.
– Вот уж поистине необыкновенное происшествие, – наконец воскликнула она после долгого раздумья у себя в комнате. – И как я могла так глупо поступить – скрыться, не сказав ни слова человеку, который проявил по отношению ко мне только учтивость и внимание. – Ясно, она уже не считала оскорблением его бесцеремонное восхваление ее внешности.
Вот это-то и было роковым упущением со стороны Болдвуда – он ни разу не сказал ей, что она красива.
Глава XXV
Описывается новый знакомый
Некоторые свойства натуры и плюс к этому превратности судьбы сделали сержанта Троя существом не совсем обычного склада.
Это был человек, для которого вспоминать о прошлом казалось обременительным, а задумываться о будущем – излишним. Живя непосредственно ощущением, он устремлял свои помыслы и желания на то, что было у него перед глазами. Чувства его откликались только на настоящее. Время для него было чем-то таким мимолетным, что, не успеешь и оглянуться, оно уже мелькнуло и прошло. Мысленно переноситься в прошлое или заглядывать в будущее, эта игра воображенья, в которой слово «жаль» становится синонимом минувшего, а «осмотрительность» знаменует будущее, была чужда Трою. Для него прошлое – это было вчера, будущее – завтра, а никак не послезавтра.
В силу этого он в некотором отношении мог бы считаться счастливейшим из смертных. Ибо можно весьма убедительно доказать, что предаваться воспоминаниям – это не столько дар, сколько болезнь, а единственное отрадное чаяние, то, что зиждется на слепой вере, это нечто нереальное, тогда как ожидание, вскормленное надеждой или какими-то другими смешанными чувствами – терпением, нетерпением, решимостью, любопытством, – сводится к непрестанному колебанию между радостью и мучением.
Сержант Трой, которому были совершенно неведомы такого рода чаяния, никогда не испытывал разочарования. Этому отрицательному выигрышу, пожалуй, можно было бы противопоставить некий неизбежно связанный с ним положительный урон – утрату некоторых тонких восприятий и ощущений. Но для человека, лишенного их, отсутствие этих свойств отнюдь не представляется лишением: в этой категории моральное или эстетическое убожество резко отличается от материального, ибо люди, страдающие им, не замечают этого, а те, кто замечает, вскоре перестают страдать. Нельзя считать лишением способность обходиться без того, чем ты никогда не обладал, и Трой вовсе не чувствовал лишения в том, чего не испытывал, зато он отлично сознавал, что испытывает многое такое, чего недостает людям умеренного склада, поэтому его способность чувствовать, на самом деле более ограниченная, казалась ему гораздо более богатой.
В своих отношениях с мужчинами он был более или менее честен, но с женщинами лжив, как критянин, – правило этики, рассчитанное главным образом на то, чтобы завоевать расположение милых дам с первого же момента, а то, что успех мог оказаться преходящим – это его не беспокоило, ибо относилось к будущему.
Он никогда не переступал черты, за которой веселое беспутство переходит в безобразный порок, и хотя нравственные его качества вряд ли удостаивались одобрения, их порицание нередко сопровождалось смягчающей улыбкой. Это отношение подстрекало его к бахвальству, он частенько приписывал себе чужие похождения, разумеется, не для того, чтобы воздать должное нравственному превосходству своих слушателей, но чтобы повысить свою репутацию беспутника.
Его ум и склонности, давным-давно размежевавшись по обоюдному согласию, редко влияли друг на друга; поэтому если у него иной раз и бывали благие намерения, его поступки не только не вязались с ними, но резко оттеняли их своим неожиданным контрастом. В своем беспутном поведении сержант Трой подчинялся импульсу, а в добродетелях – трезвому размышлению, причем добродетельность его отличалась такой скромностью, что о ней чаще доводилось слышать и редко кому случалось ее наблюдать.
Трой был полон энергии, но энергия его была не столько движущего, сколько дремлющего свойства. Лишенная какой-либо самостоятельно выбранной побудительной основы, ничем не направленная, она растрачивалась на то, с чем сталкивал ее случай. Так, он иногда блистал в разговоре, – ибо это получалось непроизвольно, само собой, и оказывался далеко не на высоте в действии из-за неспособности направить и сосредоточить свои усилия. У него был живой ум и достаточно силы воли, но он был неспособен согласовать их, поэтому ум его цеплялся за пустяки, тщетно дожидаясь приказа воли, а воля, пренебрегающая умом, растрачивалась впустую. Он был хорошо образован для человека среднего класса, а для простого солдата – исключительно хорошо. Он умел поговорить и мог говорить сколько угодно. И в разговоре умел казаться таким, каким ему хотелось, а не таким, каким он был на самом деле. Так, например, он мог говорить о любви, а думать об обеде; прийти навестить мужа, чтобы повидать жену; делать вид, что хочет вернуть долг, а намереваться занять еще.
Неотразимое действие лести, когда добиваешься успеха у женщин, это настолько распространенное мнение, что оно чуть ли не вошло в поговорку, которую произносят машинально, нимало не задумываясь над тем, какие чудовищные выводы напрашиваются из подобного утверждения. Уж не говоря о том, что, поступая согласно ему, действуют отнюдь не на пользу и не на благо объекту лести. Большинство людей держит в памяти подобные поговорки с разными другими затасканными изречениями, и только когда какая-нибудь катастрофа вдруг неожиданно вскроет их страшный смысл, тут он впервые по-настоящему доходит до их сознания. Когда такое мнение высказывают более или менее всерьез, то в подкрепление ему добавляют, что льстить надо с умом, чтобы достичь цели. К чести мужчин можно сказать – мало кому из них удавалось проверить это на опыте, и, должно быть, их счастье, что им не приходилось за это расплачиваться.
Тем не менее искусный притворщик способен вскружить голову женщине немыслимым враньем и обрести над ней такую власть, которая может даже и погубить ее, – эту истину случалось постигнуть многим в самых непредвиденных, мучительных обстоятельствах.
И есть люди, которые хвастают тем, что они почерпнули из своего опыта и беспечно продолжают эти опыты, – иной раз с чудовищными результатами. Сержант Трой принадлежал к числу этих людей. Рассказывали, что он как-то обронил словцо насчет того, как надо обращаться с женщинами; с ними можно управиться двумя способами – либо лестью, либо руганью, говорил он. Третьего способа нет. Стоит подойти к ним по-хорошему – и ты пропащий человек.
Сей философ, прибыв в Уэзербери, не замедлил появиться на людях. Как-то недели через две после стрижки овец Батшеба, чувствуя неизъяснимое облегчение оттого, что Болдвуд уехал, пошла на сенокос и остановилась у плетня посмотреть, как работают косцы. Они двигались рядами, состоящими примерно из равного числа угловатых и округлых фигур; первые принадлежали мужчинам, вторые – женщинам в надвинутых на лоб чепцах, покрытых сверху косынками, спускавшимися им на плечи. Когген и Марк Кларк косили на ближнем лугу, и Кларк, махая косой, что-то напевал в такт, а Джан даже и не пытался поспевать за ним. На первом лугу сено уже начали грузить. Женщины сгребали его и складывали в стоги, а мужчины подхватывали и бросали в фургон.
Внезапно за фургоном выросла какая-то ярко-алая фигура и тоже стала деловито грузить вместе с другими. Это был бравый сержант, который для собственного удовольствия пришел поработать на сенокосе; и нельзя было отрицать, что в такое страдное время он своим добровольным трудом оказывал хозяйке фермы поистине рыцарскую услугу.
Едва только Батшеба вышла на луг, Трой тотчас же увидел ее; он воткнул вилы в землю и, подхватив свой стек, пошел к ней навстречу. Батшеба вспыхнула то ли от смущения, то ли от досады, но не опустила глаз и продолжала идти прямо на него.
Глава XXVI
Сцена на краю скошенного луга
– Ах, мисс Эвердин, – сказал сержант, прикладывая руку к козырьку. – Как это так я не сообразил, что это вы, когда говорил с вами в тот вечер. А ведь если бы я только подумал, то должен бы догадаться, что Королева Хлебной биржи (правда – она ведь правда в любой час дня или ночи, а я только вчера в Кэстербридже слышал, что вас так называют!) – это вы, и не может быть никто иной. Я поспешил вам навстречу и приношу вам тысячу извинений за то, что, поддавшись своим чувствам, осмелился так откровенно выразить вам свое восхищение, не будучи с вами знаком. Но, правда, я в здешних краях не чужой, – я сержант Трой, как я вам уже говорил, на этих самых лугах я всегда, еще мальчишкой, помогал вашему дядюшке. И вот сегодня пришел поработать для вас.
– Полагаю, я должна поблагодарить вас за это, сержант Трой, – холодным топом промолвила Королева Хлебной биржи.
Сержант явно обиделся и огорчился.
– Да нет, мисс Эвердин. Зачем же думать, что это уж так обязательно.
– Очень рада, что это не так.
– А почему, если не сочтете за дерзость, позвольте спросить?
– Потому что я не хочу быть вам обязанной ни в чем.
– Боюсь, что я так навредил себе своим языком, что теперь мне уже ничто не поможет, и я обречен вечно каяться. Подумать, в какое ужасное время мы живем, – что` только не обрушивается на человека, который от чистого сердца осмелился сказать женщине, что она красива. Ведь это самое большее, что я посмел, – это вы не можете не признать, скромнее я не мог выразиться, в этом я сам признаюсь.
– Все это болтовня, без которой я отлично могла бы обойтись.
– Так, так. А по-моему, вы просто уклоняетесь от темы.
– Нет. Я только хочу сказать, что место, на котором вы стоите, для меня было бы гораздо приятнее без вас.
– А для меня ваши проклятья приятнее поцелуев любой женщины в мире, поэтому я не сдвинусь с места.
Батшеба на секунду опешила. И в то же время она чувствовала, что не может обрезать его, ведь как-никак он действительно пришел помочь на сенокосе.
– Ну хорошо, – продолжал Трой. – Я готов допустить, бывает похвала, которая граничит с дерзостью, и, может быть, в этом и есть моя вина. Но бывает обхожденье, которое явно несправедливо, и уж в этом, безусловно, повинны вы. Подумать только, простой, прямодушный человек, которого никогда не учили притворяться, высказал напрямик то, что он думает, и, может, у него вырвалось это нечаянно, а его за это карают, как нечестивца.
– Это совсем непохоже на наш с вами случай, – сказала Батшеба, поворачиваясь, чтобы уйти. – Я не позволяю незнакомым людям никакой развязности и бесцеремонности по отношению ко мне, даже если они восхваляют меня.
– А, так, значит, вас оскорбляет не самый факт, а, так сказать, форма выражения, – спокойно сказал он. – Ну что ж, мне остается с грустью удовлетвориться сознанием, что я сказал чистую правду, приятны или обидны показались вам мои слова. Или вы хотели бы, чтобы я, поглядев на вас, сказал бы своим знакомым, что вы дурнушка, чтобы вы при встрече с ними не боялись, что они будут глазеть на вас. Ну нет, я не способен так глупо оболгать красоту, и только затем, чтобы поощрить излишнюю скромность у такой единственной в своем роде женщины в Англии.
– Все это выдумки, то, что вы говорите, – невольно рассмеявшись его хитрой уловке, сказала Батшеба. – Вы просто на редкость изобретательны, сержант Трой. Почему вы не могли просто молча пойти своей дорогой в тот вечер – вот все, что я ставлю вам в вину.
– Потому что не мог. Половина удовольствия от любого ощущения состоит в том, что вам хочется тут же его высказать, я это и сделал. И то же самое было бы и в противном случае, – будь вы уродливой старухой, – наверно, у меня также вырвалось бы невольное восклицание.
– И давно вы страдаете такой чрезмерной впечатлительностью?
– О, с раннего детства, как только научился отличать красоту от уродства.
– Надо полагать, что это чувство различия, о котором вы говорите, не ограничивается только внешностью, а распространяется и на душевные качества?
– Ну, о душе или религии, своей или чьей бы то ни было, я не берусь говорить. Хотя я, пожалуй, был бы неплохим христианином, если бы вы, красивые женщины, не сделали меня идолопоклонником.
Батшеба прошла вперед, чтобы скрыть невольную улыбку и предательские ямочки на щеках. Трой, помахивая стеком, двинулся за ней.
– Мисс Эвердин, вы прощаете меня?
– Не совсем.
– Почему?
– Вы говорите такие вещи…
– Я сказал, что вы красивы, и повторю это и сейчас, потому что… ну, боже ты мой, ведь это же правда. Провалиться мне на этом месте, клянусь вам чем хотите, я в жизни своей не видывал женщины красивей.
– Перестаньте, перестаньте. Я не желаю этого слушать, что это еще за клятвы! – вскричала Батшеба в полном смятении чувств.
Возмущение тем, что она слышит, боролось в ней с неудержимым желанием слушать еще и еще.
– А я опять повторяю, что вы самая обворожительная женщина. И что удивительного в том, что я так говорю? Ведь это же само собой очевидная истина. Вам просто не нравится, что я так бурно выразил свое мнение, мисс Эвердин, и, конечно, оно малоубедительно для вас, потому что ничего не значит в ваших глазах, но оно совершенно искренне, почему же вы не можете меня простить?
– Потому что… это… это неверно, – как-то очень по-женски прошептала она.
– Ну-ну, не знаю уж, что хуже – грешить против третьей заповеди или против страшной девятой, как это делаете вы?
– Но мне кажется, это не совсем правильно, не такая уж я обворожительная, – уклончиво ответила она.
– Это вам кажется. Ну так позвольте мне, со всем уважением к вам, мисс Эвердин, сказать вам, что виной этому ваша излишняя скромность. Да не может быть, чтобы вам все этого не говорили, потому что все же это видят, другим-то вы можете поверить?
– Они так не говорят.
– Не могут не говорить.
– Во всяком случае, не говорят мне в лицо, как вы, – продолжала она, постепенно втягиваясь в разговор, который она сначала твердо намеревалась пресечь.
– Но вы знаете, что они так думают?
– Нет, то есть я слыхала, конечно, от Лидди, что обо мне говорят, но… – Она запнулась.
Сдалась… Вот что означал, в сущности, несмотря на всю его осторожность, этот наивный ответ, сдалась, сама того не подозревая, признала себя побежденной. И ничто не могло выразить это более красноречиво, чем ее беспомощная, неоконченная фраза. Легкомысленный сержант усмехнулся про себя, и, должно быть, дьявол тоже усмехнулся, высунувшись из преисподней, ибо в эту минуту решилась чья-то судьба. По лицу, по тону Батшебы можно было безошибочно сказать, что росток, который должен взломать фундамент, уже пустил корни в трещине: остальное было делом времени и естественного хода вещей.
– Вот когда правда вышла наружу! – воскликнул сержант. – Ну как может быть, чтобы молодая леди, которой все кругом восхищаются, так-таки ничего об этом не знала? Ах, мисс Эвердин, уж вы простите мою откровенность, но ведь вы, в сущности, несчастье рода человеческого!
– Как, почему? – спросила она, широко раскрывая глаза.
– Да вот так выходит. Знаете, есть такая старая народная поговорка, не бог весть какая мудрая, но для грубого солдата годится: «Коль петли не миновать – правду нечего скрывать»; вот я вам сейчас правду и выложу, не заботясь о том, понравится она вам или нет, и не надеясь получить ваше прощение. И вы сами поймете, мисс Эвердин, каким образом ваша красота может наделать больше бед на земле, чем принести добра. – Сержант задумчиво уставился вдаль глубокомысленно-критическим взором. – Ну вот, скажем, какой-нибудь мужчина влюбляется в обыкновенную женщину, женится на ней; он доволен, ведет полезную жизнь. А вот такую женщину, как вы, жаждут заполучить сотни мужчин, глаза ваши будут пленять все новых и новых, и сколько несчастных будет терзаться неутоленной любовью, – ведь вы можете выйти замуж только за одного. Ну, скажем, человек двадцать из этого множества будут пытаться заглушить вином горечь отвергнутой любви, другие двадцать будут влачить жизнь без всяких целей, не делая попыток добиться чего-либо, потому что, кроме привязанности к вам, у них нет ничего, никаких иных стремлений; и еще двадцать, и среди них, пожалуй, и моя уязвимая персона, вечно будут ходить за вами следом, вечно стараться быть там, где можно хотя бы поглядеть на вас, и ради этого совершать любые безумства. Мужчины ведь такие неисправимые глупцы! Ну а остальные, скажем, будут пытаться преодолеть свою страсть, кто с большим, кто с меньшим успехом. Но все это будут пришибленные люди. И не только эти девяносто девять мужчин, но и девяносто девять женщин, на которых они, может быть, женятся, тоже будут несчастны с ними. Вот вам моя притча. И вот почему я говорю, что такая очаровательная женщина, как вы, мисс Эвердин, вряд ли создана на благо рода человеческого.
Лицо красивого сержанта в то время, как он говорил, было сурово и непреклонно; он был похож на Джона Нокса, поучающего свою веселую молодую королеву. Видя, что она не отвечает, он спросил:
– Вы по-французски читаете?
– Нет. Я только начала заниматься, дошла до глаголов, и папа умер, – простодушно ответила Батшеба.
– А я почитываю, когда предоставляется возможность, что в последнее время бывает не так-то часто (у меня мать была парижанка). Так вот, есть у французов такая пословица: «Qui aime bien, châtie bien». Кто крепко любит, тот строго карает. Вы понимаете меня?
– Ах! – вырвалось у нее, и ее обычно спокойный голос чуть-чуть дрогнул. – Если вы умеете сражаться хотя бы наполовину так же увлекательно, как говорите, то вы способны доставить удовольствие штыковой раной. – И, тут же заметив, какую ошибку она допустила, сделав такое признание, бедняжка Батшеба поспешила исправить ее и только еще больше запуталась. – Не думайте, впрочем, что мне доставляет удовольствие то, что вы говорите.
– Я знаю, что нет, знаю прекрасно, – отозвался Трой, и на лице его выразилась проникновенная убежденность, которая тут же сменилась горькой иронией. – Если толпы мужчин всегда готовы расточать вам любезности и восторгаться вами так, как вы этого заслуживаете, не предостерегая вас при этом должным образом, то моя грубая, откровенная правда – хвала, смешанная с порицанием, – вряд ли может доставить вам удовольствие. Может быть, я и глупец, но не такой же я самоуверенный дурак, чтобы претендовать на это.
– А мне кажется – вы все-таки самоуверенный человек, – промолвила Батшеба, глядя вбок на стебель осоки и судорожно теребя его одной рукой.
Искусная тактика сержанта повергла ее в какое-то смятение – не потому, что она принимала за чистую монету его хитрые любезности, а потому, что она растерялась от такого решительного натиска.
– Я не признался бы в этом никому другому – да и вам, собственно, не совсем признаюсь. Но, возможно, в тот вечер в моем безумном самообольщении, пожалуй, и была какая-то доля самонадеянности. Я понимал, что, высказав вам невольно свое восхищение, я лишний раз заставил вас выслушать то, что вы слышите со всех сторон, и вам это уже надоело и, конечно, не доставляет удовольствия, но я все-таки надеялся, что вы добрая и не осудите меня слишком строго за нечаянно вырвавшиеся слова, а вы осудили; я надеялся, что вы не подумаете обо мне дурно, не будете бранить меня сегодня, увидев, как я работаю, не щадя себя, чтобы сберечь ваше сено.
– Ну, не будем об этом вспоминать, может быть, вы и правда не хотели быть дерзким, высказав то, что вы думали, я верю вам, – с истинным огорчением в простоте душевной оправдывалась жестокая женщина. – И я очень благодарна вам за то, что вы помогаете на сенокосе. Но только не надо говорить со мной так, чтобы больше этого не было, и вообще не надо заговаривать со мной, пока я сама не обращусь к вам.
– О мисс Батшеба! Это слишком жестоко!
– Нисколько! Что тут жестокого?
– Вы никогда сами не заговорите со мной; ведь я здесь недолго пробуду. Я скоро опять погружусь в унылую скуку казарменного ученья, и, возможно, наш полк отправят куда-нибудь дальше. А вы хотите лишить меня единственной невинной радости, какая только и есть в моем безотрадном существовании. Что ж, видно, великодушие нельзя считать отличительной чертой женщины.
– А когда вы уезжаете отсюда? – с интересом спросила она.
– Через месяц.
– А почему для вас такое удовольствие разговаривать со мной?
– Как вы можете спрашивать, мисс Эвердин, кому как не вам знать, что мне вменяется в вину.
– Ну, если такой пустяк для вас так много значит, то я не против, – как-то нерешительно и с сомнением в голосе ответила она. – Но как это может быть, чтобы для вас столь много значило перекинуться со мной хотя бы словом; вы только говорите так, я уверена, что вы только так говорите.
– Вы несправедливы, но не будем об этом. Вы так осчастливили меня этим знаком вашего дружеского расположения, что я готов заплатить за него любой ценой, и уж не стану обижаться на тон. Да, для меня это много значит, мисс Эвердин. Вам кажется, только глупец может дорожить тем, что ему мимоходом обронят словечко, хотя бы «здравствуйте» скажут. Возможно, я глупец. Но ведь вы никогда не были на месте мужчины, который смотрит на женщину, и эта женщина вы, мисс Эвердин.
– Ну и что же?
– А то, что вы понятия не имеете, что он испытывает, и не дай вам бог это испытать!
– Вот глупости, ну и льстец! А что же он испытывает, интересно узнать.
– Ну, коротко говоря, для него мученье думать о чем бы то ни было, видеть и слышать кого-нибудь, кроме нее, а на нее глядеть и слушать ее – тоже пытка.
– Ну, этому уж никак нельзя поверить, сержант, вы притворяетесь! – сказала Батшеба, качая головой. – Когда говорят такие красивые слова, это не может быть правдой.
– Нет, не притворяюсь, честное слово солдата.
– Но как же так может быть, почему?
– Потому что вы сводите человека с ума – вот я и лишился ума.
– Похоже на то.
– Да, так оно и есть.
– Да ведь вы видели меня всего только один раз, в тот вечер.
– Не все ли равно. Молния разит мгновенно. Я в вас влюбился сразу и сейчас влюблен.
Батшеба с любопытством смерила его взглядом с ног до головы, но не решилась поднять глаза еще, чуть-чуть выше, на уровень его глаз.
– Вы не могли в меня влюбиться и не влюблены, – холодно сказала она. – Не бывает такого внезапного чувства. И я не хочу вас больше слушать. Боже мой, который сейчас может быть час, хотела бы я знать, – мне пора идти, я и так уж сколько времени потратила с вами попусту…
Сержант взглянул на свои часы и сказал ей время.
– Как же это у вас нет часов, мисс? – спросил он.
– Сейчас при мне нет – я собираюсь купить новые.
– Нет! Они вам будут поднесены в дар. Да, да, вы должны принять их в дар, мисс Эвердин. В дар!
И прежде чем она поняла, что он собирается сделать, тяжелые золотые часы очутились в ее руке.
– Они чересчур хороши для человека моего положения, – невозмутимо сказал он. – Эти часы имеют свою историю. Нажмите пружинку и откройте заднюю крышку.
Она сделала, как он сказал.
– Что вы видите?
– Герб и надпись под ним.
– Корону с пятью зубцами, а внизу: «Cedit amor rebus» – «Любовь подчиняется обстоятельствам». Это девиз графов Северн. Эти часы принадлежали последнему лорду и были даны мужу моей матери, доктору, чтобы он носил их до моего совершеннолетия и тогда вручил мне. Это все, что досталось мне в наследство. Когда-то по этим часам вершили государственные дела – устраивались торжественные церемонии, аудиенции, пышные выезды, соблюдался сон и покой графа. Теперь – они ваши.
– Ну что вы, сержант Трой, я не могу это принять, не могу! – вскричала она, глядя на него круглыми от изумления глазами. – Золотые часы! Что вы делаете? Нельзя же быть таким выдумщиком!
– Оставьте их себе, прошу вас, оставьте, мисс Эвердин, – умолял ее молодой сумасброд. – Они станут для меня много дороже, когда будут принадлежать вам. А для моих нужд какие-нибудь простые, плебейские, будут служить не хуже. А как я подумаю, рядом с чьим сердцем будут постукивать мои старые часы, – это такое счастье! Нет, лучше не говорить. Никогда еще они не были в более достойных руках.
– Нет, правда же, я не могу их взять! – твердила Батшеба, чуть ли не плача. – Да как же можно так поступать, если вы это действительно всерьез? Отдать мне часы вашего покойного отца, да еще такие ценные часы! Нельзя быть столь безрассудным, сержант Трой!
– Я любил отца, ну и что же, а вас я люблю больше – вот потому я так и поступаю, – ответил сержант таким искренним, убежденным тоном, что вряд ли его сейчас можно было обвинить в притворстве. Он начал с шутки, но красота Батшебы, которую он сначала, пока она была спокойна, превозносил шутливо, незаметно оказывала свое действие, и, чем больше она оживлялась, тем он увлекался сильнее. И хотя это было не настолько серьезно, как казалось Батшебе, все же это было серьезнее, чем казалось ему самому.
Батшеба была так потрясена и растеряна, что, когда она заговорила, в голосе ее слышалось не только сомнение, но и обуревавшие ее чувства.
– Может ли это быть? Ну как это может быть, чтобы вы полюбили меня, и так внезапно. Вы так мало меня знаете, может быть, я на самом деле совсем не так… не так хороша, как вам кажется. Пожалуйста, возьмите их, прошу вас! Я не могу их себе оставить и не оставлю. Поверьте мне, ваша щедрость переходит всякую меру. Я никогда не сделала вам ничего доброго, зачем же вам по отношению ко мне проявлять такую доброту?
И опять – он уже совсем готов был ответить какой-то галантной фразой, но не произнес ни слова и смотрел на нее как завороженный. Сейчас, когда она стояла перед ним взволнованная, потрясенная, без тени лукавства, прелестная, как день, ее красота так точно отвечала всем тем эпитетам, которые он ей расточал по привычке, что он и сам был потрясен своей дерзостью, – как же он мог считать, что все это он просто выдумывает?
Он повторил за ней машинально «зачем?» и продолжал смотреть на нее, не сводя глаз.
– И все мои люди на поле смотрят и удивляются, что я не отхожу от вас. Нет, это ужас что такое! – продолжала она, не замечая свершившегося с ним превращения.
– Я даже не думал сначала всерьез уговаривать вас взять эти часы, – честно сознался он, – ведь это единственное жалкое доказательство моего благородного происхождения, но теперь, честное слово, я хочу, чтобы они были ваши. Без всякого притворства, прошу вас. Не лишайте меня радости, носите их на память обо мне. Но вы так прелестны, что даже и не стараетесь казаться доброй, как все другие.
– Нет, нет, не говорите так. У меня есть причины быть осмотрительной, но я не могу вам их открыть.
– Ну что ж, пусть будет так, – сказал он наконец, уступая, и взял часы. – Я должен теперь расстаться с вами. А вы обещаете говорить со мной эти несколько недель, что я пробуду здесь?
– Ну да, конечно; а впрочем, нет, не знаю. Ах, и зачем только вы появились здесь и доставили мне столько волнений!
– Боюсь, что, расставляя силки, я, кажется, попался в них сам. Бывают такие случаи. Но вы все-таки позволите мне работать у вас на сенокосе?
– Ну что ж, пожалуй, если это вам доставляет удовольствие.
– Благодарю вас, мисс Эвердин.
– Не за что, не за что.
– До свиданья.
Сержант поднес руку к своей сдвинутой на затылок шапке, откланялся и зашагал по полю к дальнему ряду косцов.
Батшеба была не в состоянии сейчас встретиться со своими работниками. Она сама не понимала, что с ней такое творится, – сердце ее неистово билось, лицо пылало, и она чуть ли не в слезах повернула обратно, к дому, шепча про себя:
– Ах, что я наделала! Что все это значит! Если бы только знать, есть ли хоть немножко правды в том, что он говорил.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































