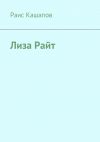Текст книги "Комната Вильхельма"

Автор книги: Тове Дитлевсен
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Том снова ехал домой: мать радовалась, радовалась и Кирстен – прислуга, взятая на лето. Они играли в карты и разгадывали кроссворды, и именно тогда всё и началось: имени Вильхельма не упоминали, но думали о нем. Вот что мы думали: «Господи, убереги нас от него подольше. Пусть всё закончится к его возвращению. Пусть он наслаждается „великолепным телосложением“ Милле (словно построенной на верфи, как подшучивала я вместе с Томом). Пусть довольствуется „энергичностью“ Милле, пусть продолжает восхищаться, что она „никогда не остается без дела“. (Она обладала располагающей способностью к одному из тех нескончаемых псевдопутёвых видов деятельности, что никогда не приводят к сколько-нибудь видимому результату.) Дай бедной отважной Милле, которая желает нам всего самого хорошего, сил терпеть эту смесь из виски и снотворного до тех пор, пока он снова не станет нашим великим отцом, пока не произнесет: „Женушка моя и единственный сын мой, отрада моя“. И прежде всего не допусти, чтобы он пришел на ужин с издателем. Иначе он только всё испортит и нас всех распугает. Сердце Тома снова заколотится так, что он подумает, будто умирает. И мне, Лизе, придется притворяться перед любезными, но незнакомыми людьми, будто у нас так принято. Что бы ни произошло, у нас постоянно возникают такие смешные и сумасшедшие ситуации, когда приходят гости. И в целом они всегда радуются, что такое не случается у них, и хотя у них всё по-другому, но далеко не лучше, чем у нас».
Но то, что его имя никто не произносил вслух, не помогало, и он вваливался сразу после гостей, после всех этих приготовлений, что наполняли Лизе предвкушением и радовали так, что ее движения сливались с ее мечтами. Она разливала по рюмкам шнапс и рассказывала что-нибудь, от чего издатель заливался хохотом. Смеялись все, и так, считал мальчик, и продолжалось бы, если бы только отец так ужасно не изменился, если бы только Милле не расстилалась перед ним, словно бегунья, стирающая самую ужасную грязь с ботинок, прежде чем они коснутся паркета. Боже милостивый – и отец неожиданно появлялся в дверном проеме в самой опасной стадии опьянения, с пеной у рта и с пронзительным безумием в покрасневших глазах. «Нет, до чего забавно», – произносил он негромко и потирал сухие ладони друг о друга. Звук напоминал о наждачной бумаге, и в тот момент никакого другого звука не существовало: мальчик едва успевал увидеть, как отец, пошатываясь, направлялся к столу, прежде чем с криком испуганной птахи проскочить мимо родителя и метнуться к своему мопеду, который простоял весь день на солнце, поэтому его сиденье обжигало сквозь штаны. Лишь через много километров его сердце снова успокаивалось, и с тех пор отца он больше не видел, мать же ничего не рассказывала о том, что происходило дальше в тот самый день. Он вовсе не был «чудесным мальчиком», он был эгоистичным болваном, которому нравилось чувствовать, как длинные прохладные пальцы Милле скользили по его волосам, когда она их мыла!
– Этого бы не случилось, если бы мальчик не уехал домой, – говорила Лизе, пока Грета энергично растирала ее волосы махровым полотенцем, не подозревая, что больше никогда не увидит подругу. Наделенная талантом искреннего лицемерия, Лизе пообещала заходить и писать и с особым тщанием вывела на обрывке бумаги адреса каменных лиц, что вырвались из ее рук и мыслей – так увядающие лепестки милых маковых барышень осыпались на половицы в комнате Вильхельма. Она уже даже не помнила, как Грета выглядит. Если бы ее труп через несколько часов привезли в Институт судебно-медицинской экспертизы, то Лизе не смогла бы опознать ее.
Заботы исчезли в раковине вместе с водой и слезами.
– Ему нужно начать жить собственной жизнью, – осторожно заметила Грета. – Не стоит забывать, что он теперь почти взрослый.
Но к Лизе снова вернулась способность слышать только то, что ей хотелось. Ее не было ни в настоящем, ни в будущем. Последнее, что она помнила из действительности, был день, который стал преждевременным концом ее жизни. В этом дне было что-то такое, чего она еще не могла разгадать. Мысли всё время проходились по всему произошедшему легко, словно лапы кошки по клавишам пианино, касаясь так слабо, что не издавали никакого звука. Милле не могла знать: Лизе приняла таблетки, чтобы скрыться от нарастающего невыносимого страха перед тем, что Вильхельм никогда не вернется. Это мрачным образом оправдывает Милле, которая меньше всего ожидала увидеть в своих объятиях Лизе без сознания. Последний человеческий голос, который ей довелось услышать, принадлежал мальчику – гордому, чувствительному и одинокому. Последняя мысль – удивление при взгляде снизу на дрожащие щеки и подбородок Милле: «Да ведь она вовсе не красива!»
6
Открытое письмо Вильхельму
Любимый мой, всё-таки сложно быть такой бесконечно одинокой и не видеть никого, кроме бюрократов с их холодной, как у рыб, чешуей, которые, несмотря на все мои усилия, всё-таки прикасаются ко мне, протягивая что-нибудь для подписи. Сложно не спать, уткнувшись лицом в твою теплую влажную подмышку, и не слышать такой знакомый звук твоих коротких жестких ресниц, царапающихся о подушку. Во мне же тебе не хватает других ощущений, о которых я даже не догадываюсь, потому что двум людям невозможно испытывать одно и то же одновременно. Может быть, мы, никак не связанные друг с другом, заперты в маленькой комнате и терпим это только потому, что не отдаем себе в том отчета. Стареть – значит бесстрашно рассматривать на свету все свои переживания, даже самые болезненные. В конце концов, понятно, что они не повторятся. На это нет времени, нет совершенно никакой возможности; бешеная страсть, однажды погнавшая нас через все возможные нормы, любые границы, установленные для развития влечения людьми, жившими до нашего появления на свет, – именно эта страсть потускнела и угасла как гордое и прекрасное напоминание о тех, кто больше не выносит чужих прикосновений. Я не знаю, где ты теперь, знаю лишь, что это место, обставленное другой по собственному или чьему-то еще вкусу. Потому что ты никогда не пытался создать очаг, и, в точности как у меня, у тебя нет никаких вещей, доставшихся по наследству. Мы часто вспоминали о том, как были счастливы тем летом в Хорнбеке, когда нашему мальчику исполнился всего год и он делал свои первые шаги. Но к тому времени несчастью уже было положено начало, так же незаметно, как внутри нас растут клетки. Ни один фотоаппарат не подмечает столь безжалостно, как взгляд человека, внутри которого схлынула первая слепая волна любви. Сердце ни в чем не разбирается. Но запечатленный образ никогда не стереть. Прежде чем он появится вновь, может, пройдут года, а может, и считаные дни.
Мы лежали на пляже в Хорнбеке, всего в нескольких минутах ходьбы от снятого домика. У нас обгорели плечи: мы заснули под палящим солнцем. День клонился к вечеру. Мы уже искупались несколько раз, и больше я не хотела. После сна я немного мерзла. Вокруг нас было множество людей, и мы наблюдали за ними, словно через прутья клетки. И так уже три года подряд, совсем не задумываясь. Мы были за пределами клетки и могли подходить к ним, когда пожелаем, они же наружу выбраться не могли. Я не захотела, и ты пошел купаться один, я, прикрыв глаза от солнца рукой, рассматривала тебя: ты осторожно шел по мелководью, стараясь не порезать босые ноги о камень или что-нибудь острое. Неожиданно меня поразила мысль: он уже вовсе не молод! В твоей позе и нерешительных движениях было что-то – легкий намек на разрушение, почти незаметный, но он присутствовал, и мне удалось его разглядеть. С этого момента оно медленно пойдет на спад, и в этом было что-то ужасно грустное – настолько, что мне пришлось моргать на солнце, чтобы сдержать слезы.
В это мгновение к моей страсти впервые примешалась нежность, и, когда это происходит, начинаешь любить по-другому – еще сильнее, но точно менее чувственно. Тебе было тридцать пять, а мне на два года больше. До знакомства у каждого из нас было длинное прошлое в роли взрослых. Сейчас у меня три ребенка от трех разных мужчин. У тебя – дочь, которую ты никогда не видел. Ты уже сирота, мои родители еще живы. Но в нашем нынешнем существовании не было ничего похожего на жизнь, которую мы до этого вели порознь. Это всё теснилось за решеткой, за которую нам нравилось заглядывать, но, Вильхельм, мы начали использовать других людей, ни на секунду не задумываясь, что и у них есть своя жизнь, а мы врываемся в нее, возможно, иногда меняя ее траекторию. Я считала опасным воплощать в реальность свои самые сокровенные мечты. От подробных рассказов о твоих связях с другими девушками я страдала, хотя одновременно это меня возбуждало, поэтому, когда ты долгое время оставался верен, брак казался мне немного скучным. К этому моменту я изменила тебе один-единственный раз, отчасти по ошибке – полное безумие: старый художник застал меня врасплох в спальне, где объяснял моим родителям, которых я пригласила на обед, что там свет лучше, чем в столовой. Я рассказала тебе об этом (по неясным причинам, которые осознала только позже), ты долго бушевал в бессмысленной ревности, после чего мне приходилось снова и снова подробно пересказывать тебе все подробности; старый ловелас был бы одновременно польщен и поражен, если бы ему довелось услышать эти лживые и яркие преувеличения о нашей крошечной интрижке. Было ясно, что супа из этого уже не сварить, и совершенно ясно, что друг для друга нас теперь недостаточно. Интересно, смотрел ли ты на меня в моменты, когда я считала, что за мной никто не наблюдает? И, возможно, думал: заметно ли по ней, что она родила троих? Но потом ты прочитал мои стихи. Осенью у меня выходил сборник, и некоторые стихотворения из него были вдохновлены моей любовью к тебе. Удивительно, как много это значило даже для такого одаренного человека, как ты. Это были далеко не лучшие стихи сборника. Но твое восхищение всё равно начало окаймляться желтой, обтрепавшейся кромкой злобы и зависти. Я показала тебе свое любимое стихотворение, ты же, к моему разочарованию, всего лишь пожал плечами и произнес: «Если бы я не открыл для тебя лирику Рильке, ты бы ни за что в жизни не написала этого». Это было правдой, и стихотворение перестало мне нравиться.
В тот ясный день я даже не знала, где именно ты работаешь. И уж тем более, чем ты занимаешься. Ты постоянно жаловался, что у тебя нет серьезных задач, жаловался, что не хватает вызовов. Вечерами ты в сомнении и беспокойстве ходил кругами по гостиной, бил ладонью по лбу и восклицал: «Как я мог стать таким неудачником?» Я недоумевала, отчего начальник отдела министерства может считаться неудачником, и особенно не понимала, почему брак со мной – это недостаточное доказательство осмысленности твоего существования! Но вслух этого не произносила. В такие моменты ни я, ни дети не решались тревожить тебя. Ты настойчиво просил моего совета, вступать ли в партию, но я не понимала, о какой партии идет речь, поэтому отговаривала тебя. В моей новой нежности к тебе появился оттенок триумфа, словно я одержала над тобой тайную победу. Когда больше не любишь человека, сложно представить, что кто-то другой может его любить. И скользишь с облегчением и чувством безопасности, такой хрупкой и обманчивой, как и катание на коньках по тающему льду. Интересно, ощущает ли Милле сейчас эту безопасность? Она не пьет, в отличие от меня, никогда не была наркоманкой и, без сомнения, верна тебе так же, как газовый манометр или каток для отжима белья. Нарезая огурцы, она всегда протирает лицо последним ломтиком: это полезно, хотя кожа у нее ухоженная и чистая. Иногда семечки огурца застревают в ее черных ресницах, и ты со смехом стряхиваешь их. Какое-то время ты и в самом деле был в нее влюблен. У меня же с ней нет ничего общего. Она даже не курит. Настолько здоровая, что просто тошнит. Милый мой, дорогой Вильхельм, есть одна вещь, к которой тебе никогда не склонить ее: спать с незнакомым мужчиной ради твоего удовольствия! Хелене была на это готова, и поэтому ей удавалось удерживать тебя целых пять лет, но так жить невозможно. Вернувшись от нее через полгода совместной жизни, ты напоминал старого раненого кота, который приплелся домой лишь затем, чтобы умереть. Алисе, моя одноклассница, узнав меня в Биркерёде, прежде чем дать о себе знать, наблюдала, как мы шли с вокзала домой, полностью поглощенные друг другом, и однажды сказала: «Он не тот человек, с которым стоит встретить старость!» Казалось, своего мужа она выбрала исключительно по этому критерию, но всё равно была права. Стареть нам с тобой стоило порознь. И только у меня еще какое-то время хватало смелости оставаться в одиночестве.
Ничто в этой комнате не выдавало, кто здесь живет. Позади меня на одеяле спал кот. Он тоже старел. Иногда по его лопаткам, ставшим в последнее время такими острыми, пробегала дрожь. Он негромко и бессильно шипел от каждого моего прикосновения, и одним утром я обнаружила его обмякшим и холодным, с расплывшимся под ним пятном. Большие голубые глаза уже затянула пелена, предвещающая скорую и легкую смерть. Кот часто и пристально смотрел на меня с выражением враждебного удивления, будто я могла помешать этой незнакомке поселиться в нем. Это напоминало взгляд, который старый вдовец за спиной бесперебойно трещавшего переговорщика отправил в мою сторону, когда мы вошли в комнату, где его жена мирно скончалась во сне. «После более чем пятидесяти лет счастливого брака», – упорно, словно ожидая возражений, говорил он. Вероятно, он знал лишь маленькую часть ее. За помпезными красными гардинами пряталась белоснежная прозрачная рулонная штора из нежной ткани, которая всё еще пахла свежестью, как свертки ткани в маленьких старых мануфактурных магазинах, которые того и гляди исчезнут. Эта рулонная штора никогда не скрывала темноту с улицы, но приходилось, как объяснял извиняющимся тоном старик, исполнять последние желания умирающей. Должно быть, мы много раз проходили мимо этих двух людей, не обращая на них внимания: мы замечали только ту часть мира, которая была нам нужна, так же как не замечали ничего прочего друг в друге. Милле нашла в тебе что хотела, и при одной мысли о ней во мне просыпался и выпускал когти разъяренный брошенный зверек. Я знаю, что мы долгое время обнимали ее с теми же чувствами, что и ее предшественниц, со своего рода привязанностью, основанной на осознании нашей сокрушительной силы – чувстве, таком теплом из-за подмешанного к нему презрения. Я не знаю, как этой пышущей здоровьем изготовительнице печеночных паштетов удалось оттолкнуть мою руку от горячего, пульсирующего центра твоего существования, в то время как ее рот тянулся к моему и затуманивал мои чувства дыханием, прохладным и чистым, как вода, вытекающая из горной расщелины. Действительность одновременно лишена фантазии и неправдоподобна. В какую ужасную игру она втянула нас? Когда она начала одерживать верх? Может быть, она ничего не замышляла, всё просто произошло само по себе.
Не я писала ей эти наивные умоляющие письма. Это делала Грета, моя соседка по палате в Сант-Хансе. Я даже не читала их: подпись под ними требовала от меня больших усилий. Грета злилась на Милле за то, что она увела тебя у нас с Томом из-под носа. Грета мыслила такими традиционными категориями, но и это не придавало больше безопасности. Неважно. Ответ от Милле пришел лишь три недели спустя. Три сумасшедшие недели, когда каждое прикосновение к постельному белью отдавалось во мне физической болью, словно острые иглы беспрерывно вонзались в кожу. Мне не удавалось побыть наедине с собой, но я представляла, что меня нигде нет и что в этом страдающем теле заключена безрассудная душа, для которой простейшим и горьким облегчением было анализировать последствия жестоких мучений, когда они наконец лишались оттенка добровольного удовольствия. Я рассказала Грете, которая предпочла бы сама испытать подобные страдания (знаешь, иные из этих смиренных, неизвестных девушек – они такие), что Милле на пятнадцать лет младше меня, разведена и бездетна. Ответ Милле был совершенно безумным, и Грета недоумевала, почему он вызвал во мне смех, похожий на хриплый, злобный птичий крик. Я осознала, что смеюсь впервые с того ужина в летнем домике, до твоего прихода. Я помнила только первое и последнее предложение: «Я могу обрадовать тебя тем, что Вильхельму лучше» (какому Вильхельму?) и «А в остальном – ничего нового».
Странно, что люди не опасаются друг друга сильнее, когда для этого есть все основания. Это чудовищное расстояние даже до ближайшего из людей – уже весомая причина; возможно, большинство его не ощущает. Всё еще смеясь, я достала из ящика прикроватной ночной тумбочки и протянула Грете безумное объявление, которое я всё никак не решалась разместить в газете. «Подавай, – сказала я. – Худшее уже всё равно позади». В моей голове полегчало, словно от сквозняка пустоты, словно массивная метла очистила ее ото всех запутанных и безысходных мыслей, и я, напуганная и одновременно готовая к бою, больше не хотела отталкивать ее от себя. Разрушению было положено начало, и переговорщики проснулись среди ночи, сами не понимая отчего. В комнате усопшей сидел врач и измерял пульс старушки. В поезде сидел мальчик с запиской из школы, которую нужно было подписать. Речь шла о родительском разрешении не пить молоко. Он не хотел спрашивать об этом тебя. Неожиданно всё вокруг пришло в движение и без видимой на то причины приняло определенное направление, побуждаемое причудливой силой абсолютной безнадежности отчаяния с налетом зла: оно требовало либо преобразования, либо разрушения.
7
Несмотря на ряд мучительных фактов, фру Андерсен всегда удавалось сохранять иллюзию службы в уважаемом доме. Сюда же относилось понятие – как бы сильно оно ни истрепалось за последующие годы – нерасторжимости брака. Узнав о случившемся после возвращения с отдыха в своем обычном летнем пансионе, она заперла дверь в комнату Вильхельма, и ее крепкая нога больше туда не ступала, пока Лизе не позвонила из больницы и тонким вежливым голосом, так похожим на голос сына, не попросила немного подготовить комнату к приезду Курта. Фру ограничилась тем, что опорожнила вонючую вазу, помыла пол и постелила чистую постель – уже гораздо больше того, к чему привык так называемый квартирант в доме фру Томсен. Уже целый месяц, как несчастная домработница не появлялась у Лизе. Приближалось Рождество, и на свитере, который фру Андерсен вязала для мальчика, не хватало только одного рукава.
– Я уверена, что про объявление скоро позабудут, – не подняв взгляда, произнесла она.
Ее муж не счел необходимым ответить. Подобные фразы вырывались из уст его жены, словно бурлящая вода из перекипающей кастрюли с картофелем, забытой на включенной плите. И он был слишком любопытным, чтобы ее выключить – например, отвлекшись на телевизор, – или шутливо поинтересоваться, приготовится ли вечерний кофе сам собой. В кресле-качалке (подарке от хозяев на его шестидесятилетие) он курил трубку с тем же выражением лукавого простодушия, с каким допрашивал подозреваемого в участке. Он был детективом. И мудро держал при себе свое мнение о спившихся шеф-редакторах, сбежавших от детей и жен, и ненормальных писательницах, портивших имя и репутацию объявлениями сомнительного характера.
Фру Андерсен выпустила еще немного пара.
– Курт на самом деле очень образован, – произнесла она, энергично орудуя спицами, из чего муж понял, что пришло время для небольшого дружелюбного отвлекающего маневра.
– В любом случае хорошо, что он нравится мальчику, – ответил он.
И, словно по команде невидимого режиссера, оба посмотрели на цветную фотографию «принца с ледяным сердцем»: мальчик стоял в окружении множества племянников и племянниц, настоящих детей из плоти и крови. Никто из них не обладал сказочной красотой этого хрупкого мальчика или выражением горделивой надменности, которую требовала от него роль, – наверное, только потому она ему и досталась. Фру Андерсен была на представлении и вместе с другими зрителями веселилась над тем, как принц закрывал губы рукой, когда приходилось целовать принцессу.
По пустым улицам прокрадывалась неспешная жизнерадостность, пока искусственный свет опережал звезды. Холодный дождь сменился туманом, напоминавшим паутину; он размывал любые четкие контуры, как чашеобразные светильники размывали отражение обнаженной Веры Линдблом, которая нежным движением прикрывала руками небольшие смуглые груди. Вера любила свое тело и полагала, что остальным людям оно тоже нравится. Если мужчина вдруг не поддавался ее эротическому сиянию, она считала его гомосексуалом или импотентом, а что касалось женщин, она всегда делала всё возможное, чтобы подавить их небольшую понятную ей зависть. В остальном она не проявляла никакого интереса к своему полу, за исключением определенной лояльности к тем, кто работал в той же сфере, что и она. Лизе Мундус представлялась ей в особенном сиянии, только набравшем силу с помощью этого чудесного объявления, – в нем Вера увидела злобную месть Вильхельму. Вера первой из всех ищеек провела интервью с Лизе и намеревалась использовать его, чтобы уничтожить Вильхельма – лишить звания «печатного короля Дании». С кокетливым и взволнованным движением руки она оторвалась от собственного отражения в зеркале и произнесла:
– Это главная задача моей жизни. Подай мне зеленый брючный костюм.
С такими словами она обратилась к мужчине, который для нее уже готов стать тенью – точь-в-точь как дома в тумане. Вера предпочитала женатых любовников, потому что от них проще всего избавиться.
– За что ты ненавидишь Вильхельма? – спросила тень, перебирая ее гардероб, занимавший целую стену.
– Он не принимает свою работу всерьез, – ответила Вера, придирчиво выискивая сине-серые тени для век среди множества баночек и коробочек пастельных тонов на туалетном столике. Правда, ненависть, по ее мнению, была слишком сильным чувством и мешала карьере так же, как и любовь. В ней было так много мужского, что привычная рутина быстро погасила похоть. Всё еще занятая макияжем, она ласково произнесла, не поворачивая головы:
– Думаю, тебе лучше вернуться к жене и детям. Не стоит связываться с девушкой, которая ставит работу превыше всего на свете.
Тень пришла в движение, и зеркало на миг запотело, словно от слез, – вот и всё. Вере показалось, что из ее головы выпустили бархатистую летучую мышь, которая слишком долго пробыла взаперти. Раздался хлопок дверью, и она залилась смехом, совершенно безобидным. Весь город смеялся вместе с ней и издавал мелодию, которой удавалось заглушить тихий плач ее сердца. Всё уже пришло в движение, и остановить это было невозможно. Из телефонной трубки до херре Андерсена донесся сиплый голос фру Томсен. Она шипела о последнем чудовищном преступлении, в котором был уличен ее бывший квартирант Курт Лоренцен. Хотя детектив и привык к ее сбивающим с толку обвинениям, он всё же не отложил, как обычно, трубку, чтобы заняться чем-нибудь еще, пока старуха не закончит. Он знал, что это всё вранье и вымыслы, но в его жизни Курт начал играть определенную роль с тех пор, как просочился сквозь потолок, словно чешуйница, от которой никак не избавиться – даже с помощью пылесоса. Может, в откровениях старухи и была доля правды? Она лепетала о каком-то чемодане, в котором находились улики, и херре Андерсену пришло на ум, что его жена собиралась забрать сумку Курта, которую «старая бедняжка» сверху не хотела добровольно отдавать. Что-то неладное творилось в этой квартире, и херре Андерсену это не нравилось. Когда голос умолк и с телефонным разговором наконец-то было покончено, он раскурил трубку. Херре Андерсен вбил себе в голову, что похож на Мегрэ из книг Сименона, которые проглатывал стопками. Вдруг удастся напасть на след по-настоящему крупного дела? Талант фру Томсен указывать на самые ужасные интриги, не называя их, навел этого поддельного Мегрэ на мысли о кое-каких эпизодах из детства, о чем он обычно никогда не вспоминал.
Тем временем Том валялся в постели в своей комнате и слушал то, что его мать называла «жестяночной музыкой». Музыка успокаивала его, тишина же казалась угрожающей. Он читал один из номеров журнала «Викенд секс». Больше всего его интересовали объявления. Там было что-то про кроссовки и спортивные штаны и многозначительный совет: «половой акт нежелателен». Бездомные на валу Кристиансхавн теперь его не забавляли. Они были обычными пьяницами, осенью ночующими в «Химмельэкспрессен», и ему казалось, его обманули, заставив поверить, что взросление означало долгожданное посвящение в волшебные тайны, выманить или подслушать которые нужно было раньше. Он прижал к себе кота и под его мурлыканье заснул.
В комнате Вильхельма Курт читал его дневники, охваченный своеобразным отстраненным любопытством, будто оказался в поезде, не зная конечной станции. На одной из последних датированных страниц было написано: «Я ненавижу ее, поэтому боюсь катастрофы, если в ближайшее время не удастся от нее вырваться. Сегодня я плюнул ей в лицо и разорвал на себе рубашку в приступе бессильной ярости. Реакции никакой. Она прекрасно знает, что агрессор всегда в проигравших».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?