Текст книги "Дикие пальмы"
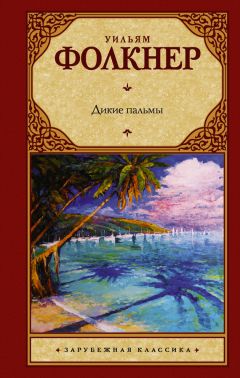
Автор книги: Уильям Фолкнер
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
«Что гласит обвинительное заключение?» – спросил он. Клерк зачитал его, голос клерка звучал утомительно, нагоняя сон своим цветущим многословием: «…против мира и достоинства штата Миссисипи… приведшее к смерти…» На дальнем углу стола поднялся человек. На нем был мятый, изношенный чуть не до дыр костюм из дешевой полосатой материи. Он был толст, и его лицо было типичным лицом юриста, красивое, почти благородное, точеное лицо, предназначенное для сцены, судебной деятельности, проницательное и живое: окружной прокурор.
– Мы считаем, что можем доказать, что это было убийство, ваша честь.
– Этому человеку не инкриминируется убийство, мистер Гоуэр. Вам это должно быть известно. Предъявите обвинение подсудимому.
Теперь поднялся полный молодой адвокат. У него не было ни живота его старшего коллеги, ни лица юриста, по крайней мере пока.
– Виновен, ваша честь, – сказал адвокат. И Уилбурн услышал идущий сзади выдох – всеобщее напряжение.
– Подсудимый пытается отдать себя на милость настоящего суда? – спросил судья.
– Просто я признаю себя виновным, ваша честь, – сказал Уилбурн. И снова он услышал это сзади, теперь громче, но судья уже резко стучал своим детским молотком, похожим на крикетный.
– Требую тишины в зале! – сказал он. – Подсудимый хочет отдать себя на милость суда?
– Да, ваша честь, – ответил молодой адвокат.
– Тогда вам не нужно предъявлять обвинение, мистер Гоуэр. Я проинструктирую присяжных… – На сей раз вздоха не было. Уилбурн услышал задержанное дыхание, потом раздался почти рев, конечно, пока еще не такой громкий, маленький жесткий деревянный молоток яростно застучал по дереву, и бейлиф тоже прокричал что-то, потом какое-то движение, а в нем и нарастающий стук ног по полу; кто-то крикнул: «Вот это дело! Давайте! Убейте его!» – и тут Уилбурн увидел серый, застегнутый на все пуговицы плащ (тот же самый), который упорно пробирался к судейскому креслу, лицо, безумное лицо человека, которому вдруг пришлось перенести абсолютно неприемлемый вид страданий, тот, к которому он не был приспособлен, человека, который даже теперь, вероятно, говорил себе: Но почему я? Почему? За что? Что я такого сделал в своей жизни? Он упорно пробирался все дальше, потом остановился и начал говорить, как только он открыл рот, рев сразу же прекратился:
– Ваша честь… Если суд позволит…
– Кто это? – спросил судья.
– Меня зовут Фрэнсис Риттенмейер, – сказал он. Снова поднялся рев, снова застучал молоток, теперь закричал и сам судья, пресекая рев:
– Порядок! Порядок! Еще раз, и я прикажу очистить зал! Разоружите этого человека!
– Я не вооружен, – сказал Риттенмейер. – Я только хочу… – Но на него уже набросились бейлиф и двое других, – отутюженные серые рукава заломлены назад, – они прощупали его карманы и бока.
– Он не вооружен, ваша честь, – сказал бейлиф. Судья повернулся к окружному прокурору, он дрожал, складный, аккуратный человек, к тому же слишком старый для всего этого.
– Что это за клоунада, мистер Гоуэр?
– Я не знаю, ваша честь. Я не…
– Вы не вызывали его?
– Не считал это необходимым. Из соображений его…
– Если суд позволит, – сказал Риттенмейер, – я хочу сделать… – Судья поднял руку; Риттенмейер замолчал. Он стоял неподвижно, его лицо было спокойным и чем-то напоминало резное лицо статуи на готических соборах, в блеклых глазах было что-то от пустых глаз мраморных истуканов. Судья уставился на окружного прокурора. Его (окружного прокурора) лицо было теперь лицом настоящего юриста, абсолютная собранность, абсолютное внимание, а под этим лицом быстро сменяли одна другую тайные мысли. Судья посмотрел на молодого полного юриста, посмотрел жестко. Потом перевел взгляд на Риттенмейера.
– Это дело закрыто, – сказал он. – Но если тем не менее вы хотите сделать заявление, то я вам разрешаю. – Теперь вообще не раздалось ни единого звука, даже дыхания, которое мог бы услышать Уилбурн, кроме его собственного и молодого адвоката рядом с ним, а Риттенмейер направился к свидетельскому месту.
– Дело закрыто, – сказал судья. – Обвиняемый ждет приговора. Сделайте ваше заявление оттуда. – Риттенмейер остановился. Он не смотрел на судью, он не смотрел ни на кого, его лицо было спокойным, непроницаемым, безумным.
– Я хочу сделать оправдательное заявление, – сказал он. Мгновение судья оставался неподвижным, молоток, словно сабля, был все еще зажат в его кулаке, потом он медленно наклонился вперед, вперив взгляд в Риттенмейера, и тут Уилбурн услышал, как это началось – длинный протяжный вдох, в зале начало копиться изумление и недоумение.
– Что вы хотите? – спросил судья. – Что? Какое заявление? Для этого человека? Человека, который по собственной воле и преднамеренно сделал вашей жене операцию, которая, как он знал, может привести к се смерти и которая привела к ее смерти? – И теперь все взорвалось ревом, волнообразным, с новой силой; он слышал в этом реве и стук ног по полу, и отдельные резкие выкрики; судебные чиновники ринулись в эту волну, точно футбольная команда; водоворот ярости и суматохи вокруг спокойного, неподвижного, безумного лица над отутюженным, отлично скроенным плащом: «Повесить их! Обоих!», «Посадите их в одну камеру. Пусть теперь этот сукин сын потыркает в него ножичком!» – рев висел над топотом и воплями, потом стал замирать, но не прекратился, а приглушенно отдавался какое-то время за закрытыми дверями, затем снова набрал высоту с улицы; судья стоял, опершись руками о судейский стол, по-прежнему сжимая молоток, его голова подергивалась и тряслась, теперь это и в самом деле была голова старика. Потом он медленно опустился на стул. Но голос его был вполне спокоен, холоден:
– Обеспечьте этому человеку защиту при выезде из города. Пусть он уезжает немедленно.
– Не думаю, что ему сейчас стоит покидать здание суда, судья, – сказал бейлиф. – Вы послушайте их. – Но никому теперь не нужно было слушать, слышать это, уже утратившее истеричность, просто взбешенное и разгневанное. – Сумасшедших они не вешают, сумасшедших они смолой и перьями. Но все равно…
– Ладно, – сказал судья. – Отведите его в мою камеру. Пусть сидит там, пока не стемнеет. А потом вывезите его из города. Господа присяжные, вы должны признать обвиняемого виновным в предъявленном обвинении и вынести в соответствии с этим свой вердикт, который подразумевает каторжные работы в тюрьме Парчмана на срок не менее пятидесяти лет. Вы можете удалиться на совещание.
– Пожалуй, в этом нет нужды, судья, – сказал старшина присяжных. – Пожалуй, мы все… – Судья повернулся к нему и обрушился на него с немощной и дрожащей стариковской яростью:
– Нет, вы проведете совещание! Или вы хотите, чтобы вас арестовали за неуважение к суду? – Они отсутствовали меньше двух минут, бейлиф едва успел закрыть за ними дверь, как тут же пришлось снова открывать ее. С улицы по-прежнему несся шум, то набирая силу, то затихая.
В тот день тоже шел дождь, яркий серебряный занавес обрушился из ниоткуда, еще прежде, чем небо затянуло тучами, как бездомный бродяга и с жеребячьей прытью понесся он в никуда, а потом тридцать минут спустя с шумом вернулся обратно, яркий и безобидный, вернулся по собственным просыхающим следам. Но когда, вскоре после наступления темноты, его вернули в его камеру, небо было ясным и бесцветным над последней зеленью сумерек, вставшей аркой над ночной звездой, пальма тихонько приборматывала под решеткой, а прутья все еще были холодны в его руках, хотя вода – дождь – давно испарилась. Итак, он понял, что имел в виду Риттенмейер. И теперь он понял почему. Он снова услышал шаги двух пар ног, но не отвернулся от окна, пока дверь не открылась, потом закрылась и лязгнул засов, вошел Риттенмейер и замер на секунду, глядя на него. Потом Риттенмейер вытащил что-то из кармана и пересек камеру, протянув к нему руку. – Возьмите, – сказал он. В руке у него была маленькая коробочка из-под лекарства, без этикетки. В ней лежала всего одна белая таблетка. Мгновение Уилбурн с недоумением смотрел на нее, но только мгновение. Потом он тихо сказал:
– Цианид.
– Да, – сказал Риттенмейер. Он повернулся, собираясь уйти, – спокойное лицо, безумное и сосредоточенное, лицо человека, который всегда был прав и не нашел в этом мира.
– Но я не… – проговорил Уилбурн. – Как может моя смерть помочь… – Но тут ему показалось, что он понял. Он сказал: – Постойте. – Риттенмейер дошел до двери и положил на нее руку. И все же он помедлил и оглянулся. – Это все оттого, что у меня мозги заржавели. Я теперь плохо соображаю. Медленно. – Тот смотрел на него в ожидании. – Благодарю вас. Я вам очень признателен. Жаль, что я не могу сделать того же для вас. – И тогда Риттенмейер стукнул один раз в дверь и снова оглянулся на Уилбурна – сосредоточенное и правое лицо и навсегда проклятое. Появился надзиратель и открыл дверь.
– Я делаю это не ради вас, – сказал Риттенмейер. – Выкиньте это из вашей чертовой головы. – Он вышел, дверь захлопнулась; и это не было озарением, потому что пришло слишком спокойно, – просто решением несложной логической задачи. Ну конечно же, подумал Уилбурн. Тот последний день в Новом Орлеане. Он обещал ей. Она сказала: «Не этот же проклятый неумеха Уилбурн», и он обещал ей. И это было все. Это было все. Звено легло в спокойную логическую цепочку и оставалось там достаточно долго, чтобы он мог все увидеть, а потом выпало, исчезло, навсегда ушло из воспоминаний, и осталась только память, вечная и неизбежная, живая, пока жива плоть, приводящая ее в действие. И вот теперь он был близок к тому, чтобы воплотить это в слова, а значит, можно было не торопиться, и он повернулся к окну и, осторожно держа открытую коробочку, вывалил из нее таблетку в папиросную бумагу и, зажав ее между большим и указательным пальцами, тщательно растер в порошок на одном из нижних прутьев решетки, подставив под последние крошки коробочку, потом протер решетку папиросной бумагой, высыпал содержимое коробочки на пол и каблуком втер его в грязь, в засохшие плевки и корку креозота, пока порошок полностью не исчез, потом сжег папиросную бумажку и вернулся к окну. Оно было здесь, ждало его, все было верно, оно само придет к нему в руки, когда наступит время. Теперь ему был виден свет в бетонном корпусе судна, в кормовом иллюминаторе, помещение за которым он уже не первую неделю называл кухней, словно сам жил там, и теперь, следом за бормотанием пальмы, подул легкий бриз, принося с собой запах болот и дикого жасмина, он дул под угасающим на западе небом и яркой звездой; наступила ночь. Значит, дело было не только в памяти. Память составляла только половину всего, ее еще было недостаточно. Но должно же оно быть где-то, подумал он. Ведь такая бездарная трата. Не только для меня. По крайней мере, я имею в виду не только себя. Надеюсь, что не только себя. Пусть это будет кто угодно, и подумал, вспомнил о теле, о широких бедрах, о руках, о нескромных руках, которые любили всякое бесстыдство. Казалось, что это совсем немного, так мало она хотела, просила от жизни. Ох уж эта пресловутая безвозвратная прогулка в сторону кладбища, пресловутое сморщенное, увядшее, обреченное на поражение цепляние даже не за поражение, а просто за старую привычку; согласие даже на то, чтобы поражение цеплялось за привычку – страдающие одышкой легкие, выходящий из строя кишечник, уже не способный чувствовать удовольствие. Но ведь, в конце концов, память может жить и в изношенной, страдающей одышкой оболочке; и вот теперь оно далось ему в руки, неопровержимое, ясное и очевидное, пальма трепетала и приборматывала с сухим, резким, слабым, ночным отзвуком, но он мог без содрогания принять это и думал: Не могу, а приму. Хочу принять. Значит, в конечном счете все дело все же в пресловутой плоти, какой бы старой она ни была. Потому что, если память существует вне плоти, она перестает быть памятью, потому что она не будет знать, что же она помнит, а потому, когда ее не стало, то не стало и половины памяти, и если не станет меня, то кончится и вся память… Да, подумал он, если выбирать между горем и ничем, то я выбираю горе.
Старик
На следующее утро в тюрьму прибыл один из молодых людей губернатора. То есть он был достаточно молод (свое тридцатилетие он отпраздновал, но не жалел об ушедшей юности; было что-то в его облике, указывавшее на характер, который никогда не хотел и не захочет того, что он не мог или не планировал получить), со значком Фи Бета Каппа[16]16
Привилегированное студенческое общество.
[Закрыть] одного из восточных университетов, он служил полковником в штате губернатора, и эта должность досталась ему не в заслугу за его вклад в избирательную кампанию; в небрежной скроенной по моде восточного побережья одежде, с крючковатым носом и ленивыми презрительными глазами, он объездил бессчетное число маленьких потерянных среди чащоб лавчонок, где, стоя на крыльце, рассказывал свои истории, получая в ответ грубоватые взрывы хохота своих одетых в комбинезоны и плюющих слушателей, и с тем же выражением в глазах он поглаживал головки детей, называемых по именам деятелей предыдущей администрации и в честь (или надежду) следующих, и (так о нем говорили, но это несомненно было ложью), по ленивой случайности, попки некоторых, что уже перестали быть детьми, но еще были слишком молоды, чтобы голосовать. Он с портфелем пришел в кабинет директора тюрьмы, и вскоре туда же прибыл заместитель директора, ответственный за работы на дамбе. За ним бы все равно тут же послали, хотя еще и не успели, он пришел сам, без стука вошел, не сняв шляпы, громко назвал молодого человека губернатора по прозвищу, ударил его ладонью по спине и водрузил ягодицу на стол директора, между директором и посетителем, эмиссаром. Или визирем, облеченным полномочиями, веревкой с узелком на память, как тут же стало выясняться.
– Ну что, – спросил молодой человек, – наломали вы здесь дров, да? – Директор курил сигару. Он предложил сигару и посетителю. Но услышал отказ, хотя тут же – директор в это время тяжелым, неподвижным, даже мрачноватым взглядом рассматривал его затылок – заместитель перегнулся через стол, вытянул руку, выдвинул ящик и вытащил сигару для себя.
– Мне это дело представляется совершенно очевидным, – сказал директор. – Его унесло против его воли. А как только у него появилась возможность, он пришел и сдался.
– Он даже притащил с собой эту чертову лодку, – сказал заместитель. – Если бы он бросил лодку, то мог бы вернуться за три дня. Но нет, сэр. Он должен был притащить назад и лодку. «Вот ваша лодка, а вот женщина, а того ублюдка на сарае я так и не нашел». – Он хлопнул себя по колену и расхохотался. – Ох уж эти заключенные. У мула здравого смысла и то больше.
– У мула здравого смысла больше, чем у кого угодно, если не считать крысу, – сказал эмиссар своим приятым голосом. – Но беда не в этом.
– В чем же беда? – спросил директор.
– Этот человек мертв.
– Черта с два, ничего он не мертв, – сказал заместитель. – Сейчас он у себя в бараке, верно, врет там почем зря. Я вас отведу туда, сами убедитесь.
Директор смотрел на заместителя.
– Послушайте, – сказал он. – Бледсоу пытался мне что-то объяснить про ногу этого мула. Вам бы лучше сходить в конюшню и…
– Да я уже осмотрел мула, – сказал заместитель. Он даже не взглянул на директора. Он говорил с эмиссаром. – Нет, сэр. Он не…
– Но он официально вычеркнут из списков как умерший. Не помилован, не выпущен на поруки: вычеркнут из списков. Он либо мертв, либо свободен. В любом случае здесь ему не место. – Теперь оба, директор и заместитель, смотрели на эмиссара, рот у заместителя был чуть приоткрыт, сигара с так и не откушенным концом замерла в его руке. Эмиссар говорил приятным голосом, очень отчетливо: – Ни на основании рапорта о смерти, направленного губернатору директором этой тюрьмы. – Заместитель закрыл рот, но это было единственное движение, которое он сделал. – Ни на основании официального свидетельства чиновника, направленного в тот момент осуществлять руководство, ни на основании возвращения тела заключенного в тюрьму. – Теперь заместитель засунул сигару в рот и медленно слез со стола, сигара запрыгала в его губах, когда он заговорил:
– Вот оно. Я должен это сделать, верно? – Он коротко рассмеялся, сценический смех, две ноты. – Значит, я не зря три раза избирался с тремя разными администрациями? Это где-то зарегистрировано. Кто-нибудь в Джексоне вам покажет. А если не найдут, то я сам покажу…
– Три администрации? – спросил эмиссар. – Ну-ну. Неплохо.
– Вы чертовски правы, это неплохо, – сказал заместитель. – В лесах полно людей, которые не избирались ни разу. – Директор снова разглядывал затылок заместителя.
– Послушайте, – сказал он. – Почему бы вам не заглянуть ко мне попозже и не прихватить с собой ту бутылку виски из буфета?
– Отлично, – сказал заместитель. – Но давайте сначала уладим это дело. Я вам скажу, что мы сделаем…
– Мы уладим это после одной-двух рюмок, – сказал директор. – Вы лучше зайдите к себе, наденьте плащ, чтобы бутылка…
– Нет, это слишком долго, – сказал заместитель. – Не нужно мне никакого плаща. – Он подошел к двери, потом остановился и развернулся. – Я вам скажу, что нужно делать. Вызовите сюда двенадцать человек и скажите ему, что это жюри присяжных, – он только раз прежде видел жюри, так что ничего не заподозрит – и осудите его за ограбление того поезда. А Хэмп может занять место судьи.
– Нельзя судить человека дважды за одно и то же преступление, – сказал эмиссар. – Это он может знать, даже если и не в состоянии отличить настоящих присяжных от липовых.
– Послушайте, – сказал директор.
– Ну и что? Назовите это новым ограблением поезда. Скажите ему, что это случилось вчера, скажите ему, что он ограбил другой поезд, пока отсутствовал, и просто забыл об этом. Он просто не мог удержаться. И потом ему будет все равно. Ему что здесь, что на свободе – никакой разницы. Если его выпустить, то ему и пойти-то будет некуда. Им всем некуда пойти. Выпустите кого-нибудь из них, и можете не сомневаться – к Рождеству он снова окажется здесь, это как воссоединение семьи, его застукали на месте точно такого же преступления. – Он снова расхохотался. – Ох уж эти заключенные.
– Послушайте, – сказал директор. – Когда будете там, откройте бутылку и проверьте ее содержимое. Выпейте глоток-другой. И не спешите, хорошенько прочувствуйте вкус. Если там дрянь, то не имеет смысла приносить ее с собой.
– О’кей, – сказал заместитель. На сей раз он вышел.
– Не могли бы вы закрыть дверь, – сказал эмиссар. Директор шевельнулся. То есть изменил свою позу на стуле.
– В конечном счете он прав, – сказал он. – Он три раза поставил на верную карту. И он в родстве со всеми в округе Питтман, исключая ниггеров.
– Может быть, мы тогда закруглим это поскорее. – Эмиссар открыл портфель и вытащил пачку бумаг. – Ну, вот вам, – сказал он.
– Вот вам что?
– Он бежал.
– Но он добровольно вернулся и сдался.
– Но он бежал.
– Ну хорошо, – сказал директор. – Он бежал. И что с того? – И теперь эмиссар сказал «послушайте». Он сказал:
– Постойте. Я на оплате per diem.[17]17
Поденной (лат.).
[Закрыть] Это налогоплательщики, голоса. И если есть хоть малейший шанс, что кому-нибудь придет в голову провести расследование этого случая, то сюда на специальном поезде могут притащиться десять сенаторов и двадцать пять из палаты представителей. На per diem. И будет чертовски трудно не дать кому-нибудь из них вернуться в Джексон через Мемфис или Новый Орлеан… на per diem.
– Ну хорошо, – сказал директор. – Что же, он говорит, нужно делать?
– Вот что. Этот человек был оставлен здесь под ответственность одного конкретного должностного лица. Но доставило его обратно другое должностное лицо.
– Но он же сдал… – На этот раз директор замолчал по своему собственному разумению. Он посмотрел, уставился на эмиссара. – Ну хорошо. Продолжайте.
– Под особую ответственность назначенного для этого и наделенного полномочиями должностного лица, которое вернулось сюда и доложило, что тело заключенного более не находится в его распоряжении, иными словами, что он не знает, где находится заключенный. Все верно, не так ли? – Директор ничего не сказал. – Я все верно изложил, да? – спросил эмиссар своим приятным, настойчивым голосом.
– Но с ним это может не пройти. Я ж вам говорю, он в родстве с половиной…
– Об этом уже позаботились. Шеф нашел для него место в дорожной полиции.
– Черт, – сказал директор. – Он и на мотоцикле-то не умеет ездить. Я бы даже и грузовика ему не доверил.
– Ему не придется водить. Благодарный и изумленный штат может предоставить человеку, который верно угадал на трех всеобщих выборах в Миссисипи, машину и при необходимости кого-нибудь, кто будет водить ее. Ему даже не придется находиться в ней все время. Пусть хоть спит где-нибудь поблизости, чтобы, когда инспектор увидит машину, остановится и посигналит, он мог услышать и подойти.
– И все же мне это не нравится, – сказал директор.
– И мне тоже. Ваш заключенный мог бы избавить нас всех от этих хлопот, если бы утонул, ведь он и так всех заставил поверить в это. Но он не утонул. И шеф говорит, делайте, что сказано. Вы можете придумать что-нибудь получше?
Директор вздохнул.
– Нет, – сказал он.
– Отлично. – Эмиссар раскрыл бумаги, снял колпачок с ручки и начал писать. – За попытку побега из мест заключения десятилетняя прибавка к сроку, – сказал он. – Помощник директора Бук заслуживает перевода в дорожную полицию. Можете даже, если хотите, добавить «за безупречную службу». Теперь это не имеет значения. Решено?
– Решено, – сказал помощник.
– Тогда, может быть, вы пошлете за ним? Давайте покончим с этим.
И тогда директор послал за высоким заключенным, и тот вскоре прибыл, молчаливый и угрюмый, в новой полосатой одежде, с синими и худыми под загаром щеками, недавно подстриженный, волосы аккуратно расчесаны и слабо пахнут бриолином тюремного парикмахера (парикмахер получил пожизненное заключение за убийство жены, но так и остался парикмахером). Директор назвал его по имени.
– Тебе не повезло, верно? – Заключенный ничего не ответил. – Похоже, им придется прибавить еще десятку к твоему сроку.
– Хорошо, – сказал заключенный.
– Тебе не повезло. Мне жаль.
– Хорошо, – сказал заключенный. – Если таковы правила.
И ему дали еще десять лет, а директор дал ему сигару, и теперь он сидел, скрючившись в пространстве между нижней и верхней койками, держа в руке незажженную сигару, а толстый заключенный и четверо других слушали его. Или задавали ему вопросы, поскольку все уже было позади, кончено, и теперь он снова был в безопасности, а потому, может быть, и говорить об этом больше не стоило.
– Ну, хорошо, – сказал толстый. – Значит, ты снова оказался на Реке. И что потом?
– Ничего. Греб.
– Трудно, наверно, было грести назад?
– Вода все еще стояла высоко. Она все еще здорово неслась. Первую неделю или две я плыл еле-еле.
Потом уже пошло лучше. – И тут, внезапно и спокойно, что-то – невыразимость, внутреннее и врожденное нерасположение к речи – исчезло, и он обнаружил, что слушает сам себя, спокойно рассказывает об этом, слова рождаются не быстро, но легко, и именно те, которые нужны ему: как он греб (попробовав, он обнаружил, что может развить большую скорость, если это можно было назвать скоростью, рядом с берегом, это случилось, когда его внезапно и резко унесло на самую середину, прежде чем он успел помешать этому, и он вдруг понял, что его несет назад в те места, откуда он недавно вырвался, и большую часть того утра он потратил на то, чтобы вернуться назад к берегу и войти в канал, из которого он вышел на рассвете), пока не наступила ночь, и тогда они причалили к берегу и поели немного из тех припасов, что он припрятал у себя в джемпере, прежде чем покинуть склад в Новом Орлеане, и женщина с ребенком спали как обычно в лодке, а когда наступило утро, они поплыли дальше, ночь снова провели на берегу, а на следующий день припасы кончились и он высадился на берег в маленьком городке, названия его он не заметил, и там подрядился на работу. На тростниковой ферме…
– Тростниковой? – сказал один из заключенных. – Зачем это кому-то понадобилось выращивать тростник? Тростник срезают. В тех местах, где я родился, с ним приходится бороться. Чтобы от него избавиться, его поджигают.
– Это было сорго, – сказал высокий заключенный.
– Сорго? – спросил другой. – Целая ферма для выращивания сорго? Сорго? Что они с ним делают? – Высокий не знал этого. Он не спрашивал, он просто поднялся по насыпи и увидел там стоящий грузовик, полный ниггеров, а белый сказал ему: «Эй, ты. С плугом умеешь работать?», и заключенный сказал «Да», и человек сказал: «Тогда давай, залезай», и заключенный сказал: «Только вместе со мной…»
– Да, – сказал толстый. – Вот об этом-то я и хотел спросить. Что…
Лицо высокого заключенного было мрачным, его голос – спокоен, разве что резковат:
– У них там были палатки, чтобы люди могли жить.
Они стояли сзади.
Толстый подмигнул ему:
– Они думали, что она твоя жена?
– Не знаю. Наверно. Толстый подмигнул ему:
– А она не была твоей женой? Ну, как бы женой, время от времени, а? – Высокий на это вообще не ответил. Мгновение спустя он поднял сигару и, казалось, принялся рассматривать, плотно ли прилегает оберточный лист, потому что еще мгновение спустя он осторожно лизнул сигару у самого конца. – Ну, ладно, – сказал толстый. – А что потом? – Он работал там четыре дня. Работа ему не понравилась. Может быть, вот почему: он не испытывал особого доверия к тому, что он называл сорго. А потому, когда ему сказали, что пришла суббота, и дали денег, а белый сказал ему о ком-то, кто на следующий день в моторке собирается в Батон Руж, он отправился на поиски этого человека и прихватил с собой шесть долларов, которые заработал, и купил на них еду, и привязал свою лодчонку к моторке, и отправился в Батон Руж. На это не ушло много времени, и после того как они оставили моторку в Батон Руж и он снова начал грести, заключенному показалось, что вода в Реке (Потоке) стала ниже, а течение не таким быстрым, сильным, а потому они шли с хорошей скоростью, причаливая по ночам к берегу в ивовые заросли, и женщина с ребенком, как и в прежние дни, спала в лодке. А потом припасы снова кончились. На сей раз он высадился на лесосплавной станции, лес там был сложен в штабеля и ждал своего часа, а бригада рабочих разгружала еще одну платформу. Они сказали ему о лесопилке и помогли затащить лодку на насыпь; они хотели оставить ее там, но он воспротивился, а потому они погрузили лодку, он с женщиной тоже залез на платформу, и они отправились на лесопилку. Им дали комнату в доме. Ему платили два доллара в день плюс стол. Работа была тяжелой. Она нравилась ему. Он оставался там восемь дней.
– Если тебе там так нравилось, что же ты ушел? – спросил толстый. Высокий снова принялся рассматривать сигару, держа ее так, чтобы на толстый шоколадного цвета конец падал свет.
– Я там попал в историю, – сказал он.
– Какую историю?
– Женщины. Она была женой одного парня.
– Ты хочешь сказать, что день за днем больше месяца таскал за собой по всей стране одну бабу, а как только у тебя появилась возможность остановиться и перевести дыхание, ты попал в историю из-за другой? – Высокий уже думал об этом. Он помнил, как вначале бывали минуты, мгновения, когда, если бы не ребенок, он, может быть, и попытался бы. Но это были только мгновения, потому что уже в следующую секунду все его существо в каком-то диком и охваченном ужасом отвращении со страхом бежало от самой этой мысли; он ловил себя на том, что смотрит с расстояния на этот камень, который силой и властью слепого и насмешливого Движения был привязан ему на шею, он думал, даже говорил это вслух с грубым и неистовым бешенством, хотя уже два года прошло с тех пор, как у него была женщина, да и та безымянная и немолодая негритянка, совершенно случайная, потерявшая дорогу, которую он поймал более или менее нечаянно в один из дней для посетителей по пятым воскресеньям, ее мужчина – муж или любовник, – на свидание к которому она и пришла, был застрелен охранником приблизительно за неделю до того, но она не знала об этом: «Нет, она мне для этих дел не годилась».
– Зато та, другая, тебе сгодилась, верно? – спросил толстый заключенный.
– Да, – сказал высокий. Толстый подмигнул ему:
– И как, хороша была бабенка?
– Все бабенки хороши, – сказал один из заключенных. – Ну? Рассказывай дальше. Скольких тебе еще удалось уговорить по дороге назад? Иногда бывает, если уж у парня пошла такая полоса, то он ни одну юбку не пропустит, даже если она… – Но заключенный сказал, что больше ничего не было. Они быстро уехали с лесопилки, у него даже не было времени купить еды, пока они не добрались до следующей стоянки. Там он потратил все шестнадцать долларов, что заработал, и они отправились дальше. Вода в Реке (Потоке) теперь стояла ниже, в этом не было никаких сомнений, припасы, купленные на шестнадцать долларов, выглядели солидно, и он думал, что их, может быть, и хватит на всю обратную дорогу. Но, может быть, в Реке еще осталось больше подводных течений, чем казалось. Но теперь это был штат Миссисипи, это был хлопок, он снова держался за ручки плуга, напряжение и изгиб гладких ягодиц мула, который тащил врезавшийся лемехом в землю плуг, вот в чем была его жизнь, пусть ему и платили здесь всего доллар в день. Но этого хватило. Он рассказал, как все было: ему снова сообщили, что наступила суббота, и дали деньги, и он рассказал об этом – ночь, коптящий фонарь на диске вытоптанной и голой земли, ровной, как серебро, кружок сидящих на корточках фигур, назойливое бормотание и восклицания, тощие стопки потертых зелененьких под коленями, кубики с точечками, подпрыгивающие и крутящиеся в пыли; вот чего хватило.
– И сколько же ты выиграл? – спросил второй заключенный.
– Достаточно, – сказал высокий.
– Но сколько?
– Достаточно, – сказал высокий. Этого было вполне достаточно: все деньги он отдал человеку, у которого была еще одна моторка (еда ему теперь не понадобится), он с женщиной теперь сидел в моторке, а его лодка была привязана сзади, женщина, ребенок и завернутый в газету сверток под его покойной рукой у него на коленях; и почти сразу же он узнал, не Виксберг, потому что он никогда не видел Виксберга, а мостик, под которым пролетел он на своей ревущей волне деревьев и домов и мертвых животных, сопровождаемый громом и молниями, месяц и три недели назад, он посмотрел на него без волнения, даже без интереса, а моторка плыла дальше. Но теперь он стал смотреть на берег, на насыпь. Он не знал, как узнает, но знал, что узнает, а потом, это было вскоре после полудня, – несомненно, время пришло – он сказал владельцу моторки: – Пожалуй, дальше не надо.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































