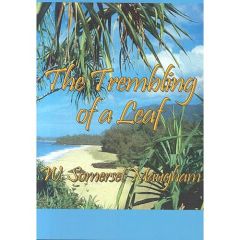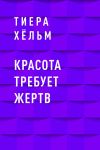Читать книгу "Трепет листа"
Макинтош, содрогнувшись, подумал, что, может быть, старик уже умер. Но так или иначе, его необходимо снять с двуколки, а это из-за его толщины оказалось делом нелегким. Потребовались усилия четырех мужчин. Они неловко подхватили его, и он глухо застонал. Значит, пока жив. Его внесли в дом, подняли по лестнице и уложили на кровать. Тут только Макинтош его разглядел, потому что во дворе, при тусклом свете переносных фонарей, ничего не было видно. Белые парусиновые брюки Уокера запятнала кровь, и люди, которые внесли его в спальню, тоже вытирали о свои набедренные повязки липкие окровавленные ладони. Макинтош поднял лампу. Он никак не ждал, что старик мог так побледнеть. Глаза его были закрыты. Он еще дышал, и слабый пульс прощупывался, но он, несомненно, умирал. Неожиданно для себя Макинтош ощутил, как судорога ужаса передернула его с ног до головы. Он заметил в углу туземца-клерка и хриплым от страха голосом приказал ему бежать в аптеку и принести все необходимое для инъекции. Один полицейский принес виски, и Макинтошу удалось влить несколько капель в рот старика. В спальню набились туземцы. Они сидели на полу, храня от испуга молчание, и лишь изредка прерывали его причитаниями. Было нестерпимо жарко, но Макинтоша пробирал холодный озноб, руки и ноги у него оледенели, и он с большим трудом сдерживал дрожь во всем теле. Он не знал, что делать. Он не знал, продолжается ли кровотечение, и да, то как его остановить.
Вернулся клерк со шприцем.
– Сделайте вы, – сказал Макинтош. – Вам это привычнее, чем мне.
Голова у него разламывалась от боли. В мозгу словно бились какие-то злобные существа и старались вырваться наружу. Теперь надо было ждать, подействует ли инъекция. Вскоре Уокер медленно открыл глаза. Возможно, с понимал, где находится.
– Вам не следует шевелиться, – сказал Макинтлш. – Вы дома. В полной безопасности.
Губы Уокера дрогнули в легком подобии улыбки.
– Они таки меня прикончили, – прошептал он.
– Я распоряжусь, чтобы Джарвис немедленно послал свой катер в Апию, и завтра после обеда врач будет здесь.
Старик долго молчал, а потом произнес:
– Я к тому времени уже умру.
Бледное лицо Макинтоша мучительно исказилось. Он заставил себя рассмеяться.
– Ерунда! Только лежите смирно, и все будет в порядке.
– Дайте мне выпить, – сказал Уокер. – Покрепче.
Трясущейся рукой Макинтош налил виски, разбавил наполовину водой и придерживал стакан, пока Уокер жадно пил. Ему словно сразу полегчало. Из груди вырвался глубокий вздох, крупное мясистое лицо немного порозовело. Макинтоша давило ощущение полной беспомощности. Он стоял и смотрел на старика.
– Скажите, что надо сделать, и я сделаю, – пробормотал он.
– Делать-то нечего. Оставьте меня лежать, и все. Со мной кончено.
Этот толстый, оплывший старик на огромной кровати выглядел необыкновенно жалким. Он был так слаб, так беззащитен, что прямо сердце сжималось. После передышки сознание у него немного прояснилось.
– Вы были правы, Мак, – проговорил он, помолчав. – Вы ведь меня предупреждали.
– Надо было мне с вами поехать!
– Хороший вы парень, Мак. Только вот не пьете.
Снова оба помолчали, было очевидно, что Уокер быстро слабеет. Внутреннее кровотечение продолжалось, и даже Макинтош, при всем своем невежестве, понимал, что его начальнику остается жить какой-то час или два. Он неподвижно стоял у кровати. Уокер около получаса пролежал с закрытыми глазами, потом поднял веки.
– На мое место они вас назначат, – медленно проговорил он. – Когда я последний раз был в Апии, я там сказал, что вы годитесь. Достройте мою дорогу. Мне хочется знать, что она будет доделана. Вокруг всего острова.
– Мне ваше место не нужно. И вы обязательно поправитесь.
Уокер слабо покачал головой.
– Я свое отжил. Обходитесь с ними по-честному, это главное. Они же как дети. Всегда про это помните. С ними надо быть твердым, но и добрым тоже. И обязательно справедливым. Я на них ни единого шиллинга не нажил. За двадцать лет не скопил и ста фунтов. Дорога – вот что важно. Достройте дорогу.
У Макинтоша вырвалось что-то вроде рыдания.
– Хороший вы человек, Мак. Вы мне всегда нравились.
Он закрыл глаза, и Макинтош подумал, что больше он их уже, наверно, не откроет. Ужасно хотелось пить, во рту пересохло. Повар-китаец безмолвно подставил ему стул. Он сел рядом с кроватью. Сколько времени так прошло, он не знал. Ночь тянулась нескончаемо. Кто-то из сидевших на полу вдруг по-детски, в голос заплакал, и Макинтош, оглянувшись, увидел, что спальня полна туземцев. Они сидели на корточках, бок о бок, мужчины и женщины, не сводя глаз с кровати.
– Зачем они здесь? – проговорил Макинтош. – У них нет никакого права тут быть. Выгоните их, выгоните их всех до единого.
Его распоряжение, как видно, разбудило Уокера – он снова открыл глаза, теперь совсем мутные, и попытался заговорить. Но сил у него уже почти не было, Макинтош с трудом разбирал слова.
– Пусть останутся. Они мои дети. Их место тут.
Макинтош обернулся к туземцам.
– Останьтесь. Он хочет, чтобы вы были тут. Но молчите.
Бескровное лицо старика тронула легкая улыбка.
– Поближе, – позвал он.
Макинтош нагнулся к нему. Его глаза были закрыты, слова прошелестели, как ветер в листьях кокосовой пальмы.
– Дайте мне еще выпить. Мне надо сказать.
На этот раз Макинтош не стал разбавлять виски водой.
Уокер последним напряжением воли собрался с силами.
– Не устраивайте шума. В девяносто пятом во время волнений убили белых, и военные корабли обстреляли деревни. Погибло много ни в чем не повинных людей. В Апии они все дураки. Если поднять шум, наказание понесут не те. Я хочу, чтобы никого не наказывали.
Он умолк, переводя дух.
– Вы скажете, что это был несчастный случай. И никто не виноват. Обещайте.
– Я сделаю все, как вы хотите, – прошептал Макинтош.
– Молодчина. Такого второго поискать. Они же дети. Я их отец. А отец никогда не даст своих детей в обиду.
Он издал что-то вроде слабого призрачного смешка.
– Вы ведь верующий, Мак. Как там сказано насчет прощения? Ну, вы знаете.
Макинтош ответил не сразу. У него дрожали губы.
– «Прости им, ибо не ведают, что творят»?
– Вот-вот. Прости им. Я же их любил, вы знаете. Всегда любил.
Он вздохнул. Его губы еле шевелились, и Макинтошу пришлось почти прижаться к ним ухом, чтобы расслышать.
– Возьмите меня за руку, – попросил Уокер.
Макинтош охнул. Сердце у него невыносимо сжалось. Он взял руку старика, такую холодную и слабую – грубую, мозолистую руку, и так сидел и держал ее, покуда вдруг тишину не нарушил протяжный клокочущий хрип. Жуткий, пугающий. Уокер умер. Туземцы разразились причитаниями. По щекам у них бежали слезы, они рыдали и били себя в грудь.
Макинтош высвободил руку из пальцев мертвеца и пошатываясь вышел, как человек, одурманенный сном. Он добрел до своего бюро, достал из ящика револьвер, спустился к лагуне и вошел в воду. Он брел осторожно, чтобы не споткнуться о коралловый выступ, пока не погрузился по плечи. Тогда он выстрелил себе в висок.
Час спустя на том месте, где он упал, плескались и пенили воду гибкие коричневые акулы.
Падение Эдварда Барнарда
Перевод Р. Облонская.
Бэйтману Хантеру не спалось. Две недели, пока он плыл от Таити до Сан-Франциско, он обдумывал то, что ему предстояло рассказать, а потом три дня в поезде подыскивал для этого слова. До Чикаго уже остались считанные часы, а его все еще одолевали сомнения. Его совесть, и всегда очень чувствительная, была неспокойна. Он не был уверен, что сделал все возможное; а честь требовала сделать и невозможное. И его мучила мысль, что когда оказались затронуты его собственные интересы, он позволил им одержать верх над рыцарскими чувствами. Уже совсем было приготовясь пожертвовать собой, он теперь испытывал настоящее разочарование. Он был подобен филантропу, который из самых бескорыстных побуждений строит образцовые жилища для бедняков и потом обнаруживает, что выгодно поместил свой капитал. Невольно радуется десяти процентам, вознаграждающим его за «хлеб, отпущенный по водам», но ощущает и некоторую неловкость, ибо уже не может полностью насладиться собственным благородством. Бэйтмен Хантер знал, что в сердце своем он чист, но не был уверен, сумеет ли, рассказывая все это Изабелле Лонгстаф, спокойно выдержать испытующий взгляд ее невозмутимых серых глаз. Глаза у нее проницательные и умные. Она всех судит с высоты собственной непогрешимости, и нет ничего страшнее ледяного молчания, каким она встречает любой поступок, несогласный с требованиями ее суровой морали. Нечего и думать переубедить ее, она никогда не меняет своих мнений. Но Бэйтмен и не желал, чтобы она была иной. Он любил ее не только за то, что она красива – гибкая, стройная, с гордой посадкой головы, – еще дороже ему была красота ее души. Правдивая, с непреклонным чувством чести, открыто и безбоязненно глядящая на жизнь, она казалась ему воплощением всего самого прекрасного, что свойственно его соотечественницам. Он видел в ней идеальную молодую американку, больше того, чувствовал, что ее совершенство в какой-то мере рождено ее окружением, и убежден был, что такая девушка могла появиться только в Чикаго. Ему было нестерпимо больно думать о том, какой удар он должен нанести ее гордости, и в сердце его вспыхивал гнев при одном воспоминании об Эдварде Барнарде.
Но вот наконец и Чикаго. Бэйтмен с радостью увидел знакомые длинные вереницы серых домов. Ему не терпелось поскорее очутиться на Уобаш-авеню, увидеть толпы на тротуарах, машины, снующие по мостовой, услышать привычный шум. Он дома. И он счастлив, что родился в самом замечательном городе Соединенных Штатов. Сан-Франциско – это провинция, Нью-Йорк уже изжил себя, будущее Америки – в развитии ее экономических возможностей, а Чикаго так удобно расположен, и жители его исполнены такой энергией, что, конечно, ему суждено стать подлинной столицей страны.
«Пожалуй, я доживу до тех дней, когда Чикаго станет величайшим городом мира», – сказал себе Хантер, выходя из вагона.
Его встретил отец, и, обменявшись крепким рукопожатием, они зашагали по платформе, очень похожие друг на друга, высокие, худощавые, с суховатыми красивыми чертами лица и тонкими губами. Автомобиль мистера Хантера ждал их у вокзала. Мистер Хантер перехватил гордый счастливый взгляд, которым его сын оглядывал улицы.
– Рад, что вернулся? – спросил он.
– Еще бы! – ответил Бэйтмен.
Он пожирал глазами неугомонный город.
– Тут, пожалуй, движение немного оживленнее, чем на твоем острове, а? – засмеялся мистер Хантер. – Понравилось тебе там?
– Чикаго мне больше по вкусу, отец, – ответил Бэйтмен.
– Эдварда Барнарда ты не привез с собой?
– Нет.
– Как он там живет?
Бэйтмен помедлил, его красивое, тонкое лицо омрачилось.
– Я бы не хотел о нем говорить, – сказал он наконец.
– Хорошо, мой друг, не надо. У твоей матери сегодня счастливый день.
Они миновали самые людные улицы и теперь ехали берегом озера к внушительному зданию, точной копии одного старинного замка на Луаре, которое мистер Хантер построил несколько лет назад. Едва Бэйтмен оказался один в своей комнате, он поднял телефонную трубку и назвал номер. Ответил знакомый голос, и сердце его забилось.
– Добрый день, Изабелла, – весело сказал он.
– Добрый день, Бэйтмен.
– Как это вы узнали мой голос?
– Я не так уж давно его слышал. И потом я ждала вас.
– Когда можно вас увидеть?
– Если у вас нет ничего более интересного на сегодняшний вечер, приходите к нам обедать.
– Вы прекрасно знаете, что для меня не может быть ничего интереснее.
– Вам, наверно, есть о чем порассказать?
Ему почудилось в ее голосе нотка настороженности.
– Да, – ответил он.
– Хорошо, вечером вы мне все расскажете. До свидания.
Она положила трубку. Это так похоже на нее – ждать долгие часы, хотя можно было бы и раньше узнать о том, что так близко ее касается. В ее сдержанности Бэйтмен видел замечательную силу духа.
Обедали только вчетвером: Изабелла, ее родители и Бэйтмен. Он наблюдал, как она все время направляет разговор, не давая ему выйти за рамки легкой светской болтовни, и ему пришло в голову, что точно так же какая-нибудь маркиза, над которой уже нависла тень гильотины, болтала о всяких пустяках, не желая думать о неумолимом завтра. Тонкое лицо, аристократически короткая верхняя губка и пышные белокурые волосы тоже придавали ей сходство с маркизой, и, даже не будь это всем известно, вы угадали бы, что в ее жилах течет кровь лучших семей Чикаго. Столовая была подходящей оправой для ее хрупкой красоты, ибо по желанию Изабеллы этот дом – точь-в-точь один из дворцов на Большом канале в Венеции – был обставлен знатоком англичанином в стиле Людовика XV; изящество обстановки, связанное для нас с именем этого любвеобильного монарха, оттеняло прелесть Изабеллы и в то же время казалось в ее присутствии не столь легкомысленным. Ведь Изабелла была очень начитанна, и беседа ее, хоть и светски легкая, никогда не была пустой. Сейчас она рассказывала о концерте, на котором была днем с матерью, о лекциях, которые читал в Аудиториуме заезжий английский поэт, о политических новостях, о картине старого мастера, которую отец недавно купил в Нью-Йорке за пятьдесят тысяч долларов. И, слушая ее, Бэйтмен отдыхал душою. Он снова в цивилизованном мире, в самом средоточии культуры, среди избранных мира сего, и голоса, которые помимо его воли тревожили его и не желали стихать, наконец-то умолкли.
– До чего приятно оказаться снова в Чикаго, – сказал он.
Когда обед кончился, Изабелла, выходя из столовой, сказала матери:
– Я уведу Бэйтмена к себе. Нам надо поговорить.
– Хорошо, дорогая, – сказала миссис Лонгстаф. – А потом приходите в «комнату мадам Дюбарри». Мы с папой будем там.
Изабелла и Бэйтмен отправились наверх, и она ввела его в гостиную, с которой у него было связано столько милых воспоминаний. Он так хорошо знал комнату и все же, как всегда, не мог удержать восторженного восклицания. Изабелла с улыбкой огляделась по сторонам.
– По-моему, очень удачно, – сказала она. – Главное, все, как должно быть. Даже пепельницы и те не нарушают стиля.
– Вот в этом-то вся прелесть. Здесь все в точности так, как должно быть, вы и тут верны себе.
Они сели перед камином, и Изабелла подняла на него спокойные серые глаза.
– Так что же вы мне хотели рассказать? – спросила она.
– Просто не знаю, как начать.
– Эдвард Барнард думает вернуться?
– Нет.
Оба замолчали надолго, и каждый немало передумал, прежде чем Бэйтмен заговорил снова. Перед ним была трудная задача: ведь в его рассказе многое будет нестерпимо оскорбительно для ее чуткого слуха, и, однако, из уважения к ней, да и к самому себе, он должен рассказать всю правду.
Все это началось очень давно, когда они с Эдвардом Барнардом, еще студентами, встретили Изабеллу Лонгстаф на званом вечере – то был ее первый выезд в свет. Они знали ее, когда она была еще девочкой, а они голенастыми подростками, но потом она на два года уехала в Европу, чтобы закончить свое образование, и вернулась совершенно очаровательной девушкой, с которой они рады были возобновить знакомство. Оба отчаянно влюбились в нее, но Бэйтмен скоро понял, что она замечает одного лишь Эдварда, и, как верный друг, обрек себя на роль наперсника. Он пережил немало горьких минут, но не мог не признать, что Эдвард достоин своего счастья, и, опасаясь как бы что-нибудь не разрушило дружбу, которой он так дорожил, старался ни единым намеком не выдать своих чувств. Через полгода Изабелла и Эдвард обручились. Но они были слишком молоды, и отец Изабеллы решил, что им следует подождать со свадьбой, по крайней мере до тех пор, пока Эдвард не окончит университет. Им предстояло ждать год. Бэйтмен хорошо помнил ту зиму, в конце которой Изабелла и Эдвард должны были обвенчаться, зиму, заполненную танцами, театром, бесконечными развлечениями, и всюду неизменно он был с ними третьим. Она вскоре должна была стать женой его друга, но от этого он любил ее ничуть не меньше; ее улыбка, брошенная мимоходом шутка, ее доверчивая привязанность не переставали радовать его; и он не без самодовольства поздравлял себя с тем, что не завидует их счастью. А потом случилась беда. Один из крупных банков потерпел крах, на бирже разразилась паника, и отец Эдварда Барнарда потерял все, что имел. В тот вечер он вернулся домой, сказал жене, что разорен, а после обеда ушел к себе в кабинет и застрелился.
Неделю спустя Эдвард Барнард, измученный и осунувшийся, пришел к Изабелле и просил ее вернуть ему слово. Вместо ответа она обвила руками его шею и расплакалась.
– Мне ведь и так трудно, любимая, – сказал он.
– Неужели ты думаешь, что я могу с тобой расстаться? Я люблю тебя.
– Разве ты теперь можешь стать моей женой? Нет, это безнадежно. Твой отец никогда этого не допустит. У меня нет ни гроша.
– А мне все равно. Я люблю тебя.
Он посвятил ее в свои планы. Ему надо немедленно найти какой-то заработок, и Джордж Брауншмидт, старый друг их семьи, предложил ему место в своей торговой фирме. Он ведет дела в южных морях, и у него есть конторы на многих островах Полинезии. Он предложил Эдварду на год-другой поехать на Таити, где под руководством одного из лучших управляющих он сумеет изучить все тонкости этого многообразного дела, а потом вернуться в Чикаго, где ему будет обеспечено приличное положение. Что может быть лучше? Когда Эдвард все это рассказал Изабелле, она просияла.
– Глупенький, зачем же ты понапрасну меня огорчал?
При этих словах лицо его осветилось радостью, глаза вспыхнули.
– Изабелла, неужели ты готова меня ждать?
– А по-твоему, ты этого не стоишь? – улыбнулась она.
– Нет, нет, не смейся надо мной сейчас. Умоляю тебя, будь серьезна. Ведь это может быть целых два года.
– Ну и пусть. Я люблю тебя, Эдвард. Когда ты вернешься, мы поженимся.
Джордж Брауншмидт не любил откладывать дело в долгий ящик, он сказал Эдварду, что если тот согласен занять предложенное ему место, ему следует отплыть из Сан-Франциско не позднее чем через неделю. Последний вечер Эдвард провел с Изабеллой. После обеда мистер Лонгстаф сказал, что хочет побеседовать с Эдвардом, и увел его в курительную. Когда Изабелла рассказала отцу о своем решении, он отнесся к этому вполне благосклонно, и теперь Эдвард просто не мог представить себе, о чем, собственно, будет разговор. Хозяин был явно смущен, и это озадачило Эдварда. Мистер Лонгстаф запинался. Говорил о каких-то пустяках. И наконец решился:
– Вы, надо полагать, слышали об Арнольде Джексоне? – спросил он, нахмурившись.
Эдвард колебался. Врожденное прямодушие обязывало его признаться в том, о чем он куда охотнее умолчал бы.
– Да, слышал. Но очень давно. По правде говоря, я не придал этому особого значения.
– Мало кто в Чикаго не слыхал об Арнольде Джексоне, – с горечью сказал мистер Лонгстаф. – А если такой и найдется, ему тут же с радостью выложат эту историю. Вам известно, что он брат миссис Лонгстаф?
– Да, я знаю.
– Мы, разумеется, уже долгие годы не поддерживаем с ним никаких отношений. Он уехал из Америки весьма скоропалительно, и, я думаю, Америка рассталась с ним без особого сожаления. Как мы слышали, он живет на Таити. Мой совет вам держаться от него подальше, но, если что-нибудь узнаете о нем, не сочтите за труд написать – мы с миссис Лонгстаф будем вам очень признательны.
– Непременно напишу.
– Вот и все, что я хотел вам сказать. А теперь вы, наверно, хотите присоединиться к дамам.
В редкой семье нет человека, самое имя которого все прочие члены этой семьи охотно забыли бы, если бы только им позволили их ближние, и хорошо еще, когда от этого человека их отделяет поколение или два и время уже успело окружить его грехи романтическим ореолом. Но если блудный сын жив и если он не просто любитель выпить или поволочиться, если его странности не из тех, которые можно извинить спасительной фразой «в конце концов он этим вредит только себе самому», тогда остается одно – молчать. Так и поступали Лонгстафы в случае с Арнольдом Джексоном. Они никогда не заговаривали о нем. Они даже не ходили по той улице, на которой он когда-то жил. Как люди великодушные, они не могли допустить, чтобы жена и дети Арнольда Джексона страдали за его преступления, и долгие годы поддерживали их при условии, что те будут жить в Европе. Они всячески старались заставить общество забыть об Арнольде Джексоне и, однако, знали, что злополучная история так же свежа у всех в памяти, как в тот день, когда на удивление всему свету разразился громкий скандал. Арнольд Джексон был самой что ни на есть паршивой овцой. Богатый банкир, почтенный прихожанин, филантроп, человек, уважаемый всеми не только за происхождение (в его жилах текла кровь лучших семей Чикаго), но и за безупречную честность, он в один прекрасный день был арестован по обвинению в мошенничестве; и обман, вскрывшийся на суде, был не из тех, который можно объяснить внезапным соблазном: он был преднамеренным и длился не один год. Арнольд Джексон оказался отъявленным жуликом. Его присудили к семи годам исправительной тюрьмы, и, по общему мнению, он еще легко отделался.
На прощание Изабелла и Эдвард обменялись клятвами в верности. Изабелла заливалась слезами, и лишь мысль о страстной любви Эдварда несколько утешала ее. Странное у нее было чувство. Несмотря на боль разлуки, она была счастлива сознанием, что он боготворит ее.
С тех пор прошло больше двух лет.
Эдвард писал Изабелле с каждой почтой, она получила от него двадцать четыре письма, ибо почта оттуда отправлялась всего раз в месяц, и письма его были такие, какими и должны быть письма влюбленного. Задушевные и милые, порою с юмором – особенно в последнее время – и нежные. Сперва чувствовалось, что он тоскует по дому, мечтает вернуться в Чикаго, к Изабелле, и, слегка встревоженная, она умоляла его быть стойким. Она боялась, как бы он не упустил такой счастливый случай и не примчался домой. Ей хотелось, чтобы у ее любимого хватило выдержки, и она написала ему словами поэта:
Я не любил бы так тебя,
Не будь мне честь дороже.
Но постепенно он, казалось, успокоился, и Изабелла радовалась, видя, с каким воодушевлением он старался расшевелить этот забытый богом уголок, ежечасно показывая, что такое американская деловая хватка. Но она знала Эдварда, и, когда первый год, минимальный срок его пребывания на Таити, подошел к концу, она приготовилась употребить все свое влияние, чтобы удержать его там. Пусть он до тонкостей изучит дело, ведь смогли же они ждать год, почему не подождать еще один. Она посоветовалась с Бэйтменом Хантером, великодушнейшим из друзей (что бы она делала без него первые дни после отъезда Эдварда!), и они решили, что будущее Эдварда превыше всего. Время шло, и она с облегчением убедилась, что он совсем не рвется домой.
– Он просто великолепен, правда? – воскликнула она однажды.
– Он молодец, – ответил Бэйтмен.
– Ему там трудно приходится, это можно прочесть между строк, но он все терпит, потому что…
Щеки ее чуть порозовели, и Бэйтмен с серьезной улыбкой, которая так красила его, закончил:
– Потому что он любит вас.
– Я его не стою, – смиренно сказала она.
– Вы удивительная, Изабелла, просто удивительная.
Но прошел еще год, по-прежнему Изабелла каждый месяц получала письма от Эдварда, и в конце концов ее стало удивлять, что он ни словом не упоминает о возвращении. Он писал так, словно навсегда обосновался на Таити и больше того – очень этим доволен. Это ее озадачило. Она несколько раз перечитала все его письма, одно за другим, и, теперь в самом деле читая между строк, поразилась перемене, которой прежде не замечала. Последние письма были так же нежны и милы, как и первые, но тон их стал иной. Еще прежде она со смутной подозрительностью относилась к юмору Эдварда и питала чисто женское недоверие к этому непонятному свойству, а теперь почувствовала в нем легкомыслие, которое ставило ее в тупик. Казалось, это пишет новый Эдвард, не тот, которого она знала прежде.
Однажды, на другой день после того, как пришла почта с Таити, она ехала в автомобиле с Бэйтменом, и он спросил:
– Эдвард написал вам, когда он отплывает?
– Нет. Я думала, он что-нибудь написал вам.
– Ни слова.
– Вы же знаете Эдварда, – засмеялась Изабелла. – У него нет чувства времени. Если придется к слову, спросите его в следующем письме, когда он думает приехать.
Она говорила так беззаботно, что лишь обостренная чуткость помогла Бэйтмену понять, как ей хочется, чтобы он это сделал.
– Конечно. Непременно спрошу. И о чем только он думает! – ответил он с улыбкой.
Через несколько дней, снова встретившись с Бэйтменом, Изабелла заметила, что он чем-то взволнован. С тех пор как Эдвард уехал, они часто бывали вместе: обоим он был дорог, и, заговаривая о нем, каждый находил в другом благодарного слушателя. Не удивительно, что Изабелла читала в лице Бэйтмена, как в раскрытой книге. Что-то подсказало ей, что его тревога связана с Эдвардом, и она не отступилась, пока не заставила его признаться.
– Видите ли, – сказал он наконец, – до меня дошли слухи, будто Эдвард уже не работает в той фирме, и вчера мне представился случай спросить самого мистера Брауншмидта.
– И что же?
– Уже почти год, как Эдвард там больше не служит.
– Как странно, что он ничего не писал об этом!
Бэйтмен замялся, но он зашел уже так далеко, что просто не мог не договорить до конца. Ему было мучительно неловко.
– Его уволили.
– Боже правый, за что?
– Они, кажется, предупредили его, и не раз, и в конце концов предложили уйти. Говорят, он был нерадив и плохо знал дело.
– Эдвард?!
Наступило молчание, и вдруг Бэйтмен увидел, что Изабелла плачет. Он невольно схватил ее за руку.
– Дорогая, не надо, не надо, – взмолился он. – Я не могу видеть ваши слезы.
Самообладание настолько ей изменило, что она даже не отняла руки. Он пытался ее утешить:
– Непостижимо, правда? Это так не похоже на Эдварда. Нет, здесь, наверно, какое-то недоразумение.
Некоторое время она молчала, а когда заговорила, голос ее звучал неуверенно.
– Вам не кажется, что в его последних письмах есть что-то странное? – спросила она, отводя в сторону полные слез глаза.
Бэйтмен ответил не сразу.
– Я заметил в них перемену, – признался он наконец. – Мне кажется, Эдвард утратил ту вдумчивость и серьезность, которые меня так в нем восхищали. Можно подумать, что самые важные вещи… что они уже не важны для него.
Изабелла молчала. Смутно и тревожно было у нее на душе.
– Может быть, он ответит вам, когда думает вернуться. Нам остается только ждать этого ответа.
Снова оба они получили по письму от Эдварда, но и на этот раз он ни словом не обмолвился о возвращении; правда, когда он писал, он еще не мог получить последнего письма Бэйтмена. Ответа можно ждать лишь со следующей почтой. Пришла и она, и Бэйтмен принес Изабелле только что полученное письмо; но ей довольно было взглянуть на его лицо, чтобы понять, что он смущен и расстроен. Изабелла внимательно прочла письмо от начала до конца, потом, слегка поджав губы, перечитала.
– Очень странное письмо, – сказала она. – Я не совсем понимаю.
– Можно подумать, что он смеется надо мной, – вспыхнув, сказал Бэйтмен.
– Да, в самом деле, но это, разумеется, не нарочно. Это так не похоже на Эдварда.
– И он ни слова не пишет о возвращении.
– Не будь я так уверена, что он меня любит, я бы подумала… Даже не знаю, что бы я подумала.
Вот тогда-то Бэйтмен и раскрыл перед нею план, который сложился у него за этот день. Фирма его отца, компаньоном которой он теперь стал, производила все виды автомобилей и как раз намеревалась открыть отделения в Гонолулу, Сиднее и Веллингтоне; и, вместо того чтобы послать туда управляющего, Бэйтмен надумал поехать сам. На обратном пути он остановится на Таити – едучи из Веллингтона, его все равно не минуешь, и тогда повидает Эдварда.
– Тут какая-то загадка, и я непременно ее разгадаю. Это единственный выход.
– Как вы добры, Бэйтмен! – воскликнула Изабелла. – Как великодушны!
– Вы же знаете, Изабелла, больше всего на свете я хочу, чтобы вы были счастливы.
Она посмотрела на него и протянула ему обе руки.
– Вы удивительный, Бэйтмен. Другого такого нет на свете. Как мне вас благодарить?
– Никак не благодарите. Только позвольте помочь вам.
Она опустила глаза и слегка покраснела. Она до того привыкла к нему, что уже забыла, как он хорош собой. Он был высокий, одного роста с Эдвардом, и тоже прекрасно сложен, но волосы у него были темные, а лицо не румяное, как у Эдварда, а матово-бледное. Она, конечно, знала, что он любит ее. Это было трогательно. Она питала к нему самые нежные чувства.
Вот из этого-то путешествия и вернулся теперь Бэйтмен Хантер.
Дела задержали его несколько дольше, чем он рассчитывал, и у него было вдоволь времени, чтобы поразмыслить о двух своих друзьях. Он пришел к выводу, что у Эдварда не может быть никакой серьезной причины, которая помешала бы ему вернуться домой, разве что гордость не позволяет ему заявить права на обожаемую невесту, пока он не преуспел; но, если так, надо его урезонить. Изабелла несчастлива. Эдвард должен вместе с ним вернуться в Чикаго и обвенчаться с нею, не откладывая. На заводах автомобильной компании Хантера для него найдется подходящая должность. Сердце Бэйтмена обливалось кровью, но он ликовал, думая о том, как ценою собственного счастья устроит счастье двух самых дорогих ему людей. Он никогда не женится. Он будет крестным отцом их детям, и через много лет, когда Изабеллы и Эдварда уже не будет в живых, он расскажет их дочери, что в давние-давние времена любил ее мать. Бэйтмен рисовал себе эту сцену, и глаза его затуманивались слезами.
Он хотел захватить Эдварда врасплох и потому не телеграфировал о своем прибытии, а, сойдя с парохода, отправился прямо в «Отель де ля флер», куда его взялся проводить какой-то юноша, назвавшийся сыном хозяина. Он посмеивался, представляя себе, как изумится его друг, когда в контору войдет столь нежданный посетитель.
– Кстати, – спросил он дорогой, – не скажете ли мне, где можно найти мистера Эдварда Барнарда?
– Барнарда? – переспросил его спутник. – Я как будто слыхал это имя.
– Он американец. Высокий, светло-каштановые волосы, голубые глаза. Он здесь уже третий год.
– Ну да. Теперь я знаю, кто вам нужен. Племянник мистера Джексона.
– Чей племянник?
– Мистера Арнольда Джексона.
– Нет, мы, видимо, говорим о разных людях, – холодно ответил Бэйтмен.
Он был испуган. Как странно, Арнольд Джексон, очевидно, известен здесь всем и каждому, и он даже не потрудился переменить свое опозоренное имя. Но кого же это он выдает за своего племянника? Миссис Лонгстаф – его единственная сестра, а братьев у него никогда не было. Проводник оказался очень словоохотливым, но говорил с каким-то странным акцентом, и, поглядев на него искоса, Бэйтмен заметил то, что раньше ускользнуло от него: в жилах этого юноши течет немало туземной крови. И невольно Бэйтмен стал смотреть на него несколько свысока. Они вошли в гостиницу. Сняв номер, Бэйтмен попросил объяснить ему, где помещается контора Брауншмидта. Оказалось, на берегу, у самой лагуны. И, с удовольствием ощущая после недельного плавания твердую почву под ногами, он неторопливо зашагал к берегу по залитой солнцем дороге. Отыскав нужный ему дом, Бэйтмен отослал управляющему свою визитную карточку, и через очень высокую, похожую на сарай комнату – не то лавку, не то склад – его провели в контору, где сидел полный лысый человек в очках.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!