Текст книги "Выбор Софи"
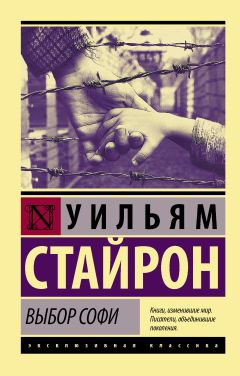
Автор книги: Уильям Стайрон
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
– Ах ты, мерзкий маленький поц[87]87
Говнюк (идиш).
[Закрыть], – продолжал голос, исполненный брезгливости и презрения, – да глядя на тебя, кого угодно вырвет!
Тут Софи, должно быть, снова потеряла сознание, ибо дальше помнила уже лишь то, как ласковые, сильные и удивительно заботливые пальцы Натана, перепачканные, к ее великому смущению, ее блевотиной, однако бесконечно утешительные и успокаивающие, легонько прикладывали ей ко лбу что-то влажное и прохладное.
– Все в порядке, детка, – шептал он, – вы будете в полном порядке. Только не надо ни о чем беспокоиться. Ах, какая же вы красавица, и как это вы умудрились родиться такой красивой? Лежите не двигаясь – вы в полном порядке, просто у вас был небольшой обморок. Лежите спокойно, предоставьте доктору позаботиться обо всем. Вот так, а теперь как мы себя чувствуем? Не хотите ли глотнуть водички? Нет-нет, ничего не говорите, лежите спокойно, через минуту почувствуете себя совсем хорошо. – Голос звучал и звучал, тихий монолог, убаюкивающий, умиротворяющий, наполнявший ее чувством покоя, – мягкий рефрен, снявший напряжение, так что Софи скоро даже перестала стыдиться того, что руки незнакомца перепачканы ее зеленоватой желчью, и лишь почему-то пожалела, что, едва открыв глаза, сказала ему первую пришедшую в голову фразу, невероятную глупость: «Ох, по-моему, я умираю».
– Нет, вы не умрете, – твердо и бесконечно терпеливо повторил он сейчас, в то время как его прохладные пальцы освежали ее лоб, – вы не умрете, проживете до ста лет. Как зовут вас, милочка? Нет, не говорите сейчас – лежите спокойно, красотка. Пульс у вас хороший, ровный. Вот так, а теперь глотните немножко воды…
Пятое
Недели, должно быть, через две после того, как я удобно обосновался в своем розовом обиталище, я получил новое послание от отца. Письмо это уже самим своим содержанием привело меня в восторг, хотя в тот момент я едва ли мог представить себе, как оно со временем повлияет на мои отношения с Софи и с Натаном и на те разнообразные события, которые тем летом произойдут. Как и последнее письмо отца, которое я здесь приводил – то, где он писал про Марию Хант, – это послание тоже было связано со смертью, и в нем, как и в более раннем письме об Артисте, тоже сообщалось о наследстве или о доле в нем. Я привожу здесь письмо почти целиком:
Сынок, десять дней тому назад мой близкий друг и политический, а также идейный противник Фрэнк Хоббс скоропостижно скончался у себя в конторе на верфи. Смерть была быстрой, можно сказать – мгновенной, от тромба в мозгу. Ему было всего 60 лет – я в этом возрасте вдруг со всею силой почувствовал, что вступил буквально в весеннюю пору своей жизни. Смерть Хоббса явилась для меня большим ударом, и я глубоко переживаю эту утрату. Его политические взгляды были, конечно, весьма прискорбны; я бы сказал, он стоял на 10 миль правее Муссолини, но в общем и целом это был «славный старик», как принято говорить среди уроженцев нашего края, и мне будет сильно не хватать этого крупного, щедрого человека, хоть и расиста по убеждениям, с которым мы вместе ездили на работу. Человек он был трагической во многих отношениях судьбы, одинокий вдовец, продолжавший оплакивать смерть своего единственного сына Фрэнка-младшего, который – возможно, ты помнишь – двадцати с небольшим лет (не так давно) утонул во время рыбной ловли в Албемар-Саунде. После Фрэнка-старшего никого не осталось; это обстоятельство и побудило меня написать тебе, оно же объясняет, почему письмо такое длинное.
Несколько дней тому назад мне позвонил адвокат Фрэнка и, к моему величайшему изумлению, сообщил, что я – главный наследник его достояния. У Фрэнка оказалось мало сбережений и не было никаких ценных бумаг – ведь он, как и я, был всего лишь первоклассным профессионалом, трудившимся в чреве или, пожалуй, вернее сказать, на ненадежной спине чудовищного левиафана, именуемого американским бизнесом. Поэтому, к сожалению, я не несу доброй вести о том, что тебе предстоит получить чек на солидную сумму, которая облегчила бы твою жизнь, пока ты возделываешь свой литературный виноградник. Однако Фрэнк на протяжении многих лет был владельцем и хозяином – хоть он там и не жил – небольшой фермы и плантации земляных орехов в округе Саутхемптон – место это принадлежало семейству Хоббсов с Гражданской войны. Эту-то ферму Фрэнк и оставил мне, указав в завещании, что я могу распоряжаться ею как хочу, однако он горячо надеется, что я, как и он, буду возделывать землю, получая не только скромный доход от продажи земляных орехов с плантации в 60 акров, но и удовольствие от жизни в приятном зеленом краю, где находится ферма, равно как и кишащей рыбой прелестной речушки. Он, должно быть, знал, как мне нравилось это место, где за эти годы я не раз бывал.
Однако поразительный и трогательный жест Фрэнка, боюсь, поставил меня в несколько затруднительное положение. Мне хотелось бы сделать все, что в моих силах, чтобы выполнить желание Фрэнка и не продавать фермы, но я не уверен, что у меня хватит духу – даже если я, как и Фрэнк, не буду там все время жить – снова, после стольких лет, взяться за сельское хозяйство (правда, мальчишкой в Северной Каролине я отлично владел мотыгой и киркой). Все-таки земля требует большого внимания и труда, и, хотя Фрэнк очень эту ферму любил, моя стезя – работать здесь, на верфи. Конечно, это во многих отношениях соблазнительное предложение. Там живут два очень толковых и надежных арендатора-негра, и все орудия производства в достаточно приличном состоянии. Основной дом отлично отремонтирован, и там можно прекрасно проводить субботы и воскресенья, особенно учитывая близость речушки, полной чудесной рыбы. Земляной орех сулит хорошие доходы – особенно с тех пор, как после войны обнаружилось столько возможностей для его использования. Фрэнк, помнится, продавал большую часть своего урожая в Саффолк, компании «Плантерс», которая, стремясь удовлетворить неиссякаемую потребность Америки в ореховом масле, поставляет нам его под названием «Скиппи». Есть там у Фрэнка и свиньи, которые, само собой, дают лучшую ветчину во всем христианском мире. Есть и несколько акров под соевыми бобами и хлопком – и то и другое все еще приносит доход, так что, как видишь, помимо соображений эстетических и связанных с отдыхом есть тут и чисто коммерческая сторона, подталкивающая меня – после того как я 40 с лишним лет не бывал ни на гумне, ни в поле – приложить руку к сельским занятиям. Я, безусловно, не разбогатею, хотя, думается, смог бы немного увеличить свой бюджет, серьезно подорванный необходимостью помогать твоим бедным тетушкам в Северной Каролине. Но меня все же останавливают вышеперечисленные серьезные сомнения и оговорки. И тут я подхожу, Стинго, к той роли, которую ты можешь – или потенциально способен – сыграть в этой пока что неразрешенной дилемме.
Вот что я предлагаю: поезжай-ка на ферму и поживи там, будь хозяином в мое отсутствие. Я прямо чувствую, как ты огорчаешься, читая это, и вижу в твоих глазах «да я же понятия не имею, как выращивать земляные орехи». Я отлично понимаю, что это может тебя совсем не устраивать, тем более что ты решил стать литератором среди янки. Но я советую тебе подумать о моем предложении – не потому, что я посягаю на твою независимость и самостоятельную жизнь на этом варварском (в моем понимании) Севере, а потому, что меня по-честному беспокоит неудовлетворенность, сквозящая в твоих последних письмах, ощущение, что ты отнюдь не процветаешь – ни духовно, ни (конечно же) финансово. Но одно могу сказать: обязанности твои будут минимальными, поскольку Хьюго и Льюис, два негра, которые живут там вместе с семьями уже много лет, отлично справляются со всеми практическими делами, так что ты станешь своего рода джентльменом-фермером и будешь заниматься — я уверен – главным образом своим романом, который, по твоим словам, ты уже начал писать. При этом тебе не придется платить за жилье, а я, наверно, смогу выплачивать тебе небольшое дополнительное пособие за те немногочисленные обязанности, которые лягут на тебя. Кроме того (и это я припас напоследок), прошу тебя учесть еще один соблазнительный момент – близость фермы к бывшему обиталищу Старого Пророка Ната, этого непонятного негра, который много лет тому назад нагнал такого страху на злополучную рабовладельческую Виргинию, что она наделала в штаны, или (ты уж меня извини, но есть более точное выражение) обос…лась. Никто лучше меня не знает о твоем увлечении Старым Пророком, а я не могу забыть, как еще школьником ты возился с картами и планами, собирая все скудные сведения, какие только можно найти об этой удивительной личности. Ферма Хоббса всего в трех шагах от тех мест, где Пророк собирал силы, чтобы двинуться для выполнения своей страшной, кровавой миссии, и я думаю, если бы ты поселился там, то в полной мере проникся бы атмосферой и получил бы богатую информацию, необходимую для книги, которую, я уверен, ты со временем напишешь. Пожалуйста, хорошенько обдумай мое предложение, сынок. Нечего и говорить – да и скрывать ни к чему, – я предлагаю тебе это не бескорыстно. Если я намерен оставить за собой ферму, мне необходим там управляющий. Но хотя это так, я не могу скрыть от тебя и той все искупающей радости, какую доставляет мне мысль, что тебе, как будущему писателю, каким я так хотел, но не смог стать, представляется великолепная возможность пожить на земле, которая произвела на свет этого смутно нами представимого, удивительного черного человека, – почувствовать эту землю, увидеть ее, ощутить ее аромат…
В известном смысле предложение отца было очень заманчиво – этого я не мог отрицать. К письму он приложил несколько цветных снимков фермы: вытянутый в длину старый дом середины девятнадцатого века, окруженный раскидистыми тенистыми буками, казалось, вполне мог стать – при условии покраски – уютным пристанищем для того, кто, следуя великой южной традиции, легко мог превратиться в писателя-фермера. Сладкий, как сорго, покой этого места (гуси бродят по летней, проросшей сорняками траве; сонное крыльцо с качалкой; старик Хьюго или Льюис, широко осклабясь, так что видны все белоснежные зубы и розовые десны, смотрит в объектив поверх руля заляпанного грязью трактора) на секунду пронзил меня острием ностальгии по сельскому Югу. Искушение было душераздирающе сильное, и оно длилось, пока я еще и еще раз перечитывал письмо и потом долго размышлял, снова глядя на дом с его простой, безыскусственной лужайкой, окутанной идиллическим молочным туманом, который, правда, мог быть следствием слегка засвеченной пленки. Но хотя письмо проникло мне в душу, а изложенные в нем доводы с практической точки зрения были вполне логичны, я понимал, что вынужден отклонить предложение отца. Приди письмо всего на несколько недель раньше, когда меня только что уволили из «Макгроу-Хилл» и я находился в весьма затруднительном положении, я, наверно, ухватился бы за этот шанс. Но теперь обстоятельства в корне изменились, я устроился и был вполне доволен своей средой обитания. Так что я вынужден был ответить отцу: к сожалению, нет. И сейчас, оглядываясь на ту полную надежд пору, я понимаю, что три фактора повинны в родившемся у меня тогда непостижимом чувстве ублаготворенности. Это были – отнюдь не в порядке значимости: 1) неожиданное озарение по поводу того, о чем писать роман, который до тех пор никак не шел и представлялся мне весьма туманно; 2) мое открытие Софи и Натана и 3) предвкушение бесспорных плотских радостей в моей дотоле лишенной таких радостей жизни.
Для начала – несколько слов о книге, к которой я все пытался приступить. Как писателя, меня всегда привлекали мрачные темы: самоубийство, изнасилование, убийство, армейская жизнь, брак, рабство. Уже в ту раннюю пору я знал, что мое первое произведение будет достаточно мрачным – это глубоко сидело во мне и, видимо, может быть названо «тягой к трагическому», – но, честно говоря, я лишь весьма смутно представлял себе, о чем так лихорадочно собираюсь писать. Правда, в моем мозгу уже засел чрезвычайно важный компонент художественного произведения – место действия. Пейзажи, звуки, запахи, свет и тени, прозрачные глубины и отмели моего родного тайдуотерского побережья настоятельно требовали, чтобы я запечатлел их на бумаге, и я еле сдерживал владевшее мною – поистине яростное – желание все это описать. А вот характеры и сюжет, правдоподобная история, в которую я мог бы вплести эти живые картины моего недавнего прошлого, у меня не вытанцовывались. В двадцать два года я был всего лишь тощим парнем шести футов роста и ста пятидесяти фунтов весом, этаким оголенным нервом, которому было еще почти нечего сказать. Мой первоначальный замысел был патетически вторичен: ни плана, ни логического развития сюжета – было лишь аморфное желание прославить маленький южный городок, как это сделал Джеймс Джойс, создав свой поразительный микрокосм. Для молодого человека моего возраста это была вполне достойная цель, беда состояла лишь в том, что даже на скромном уровне, который я для себя наметил, уже не придумать было диксилендовского двойника Стивена Дидалуса и бессмертного Блума[88]88
Стивен Дидалус и Леопольд Блум – герои романа ирландского писателя Джеймса Джойса (1882–1941) «Улисс» (1914–1921). Блум символически связан с такими фигурами, как пророк Моисей и Христос.
[Закрыть].
Но тут – ох, как же это верно, что большинство писателей рано или поздно начинают использовать чужие трагедии, – появилась (а вернее, ушла из жизни) Мария Хант. Она умерла в тот самый момент, когда мне была особенно необходима чудотворная психическая искра, именуемая вдохновением. И вот через несколько дней после того, как я узнал о смерти Марии и ощущение шока стало проходить, я смог, так сказать, с профессиональной точки зрения посмотреть на ее нелепый конец, и меня вдруг осенило. Я снова и снова сосредоточенно изучал газетную вырезку, присланную отцом, и во мне разгоралось убеждение, что Мария и ее семья могут послужить прототипами героев моего романа. Отчаявшийся неудачник отец, хронический алкоголик и в известной мере бабник; мать – недалекая женщина из сельской глуши, жаждущая занять место в обществе, не слишком уравновешенная, истово верующая, на которую в гостиных средней буржуазии, в загородных клубах и в высших епископальных кругах города все смотрят как на мученицу, терпеливо мирящуюся с тем, что у мужа есть любовница; и, наконец, дочь, покойная бедняжка Мария, с самого начала обреченная на смерть, жертва недоразумений, мелкой ненависти и мстительных обид, из которых складывается жизнь буржуазной семьи и которые способны превратить ее в сущий ад… «Бог ты мой, – подумал я, – это же просто потрясающе, само небо посылает мне подарок!» И, к своему восторгу, я понял, что ненароком уже положил начало конструкции, в которую будет вписана эта трагическая история: мое затрепанное описание поездки в поезде, этот кусок, который был мне так дорог и который я, точно ненормальный, сосредоточенно читал и перечитывал, теперь пойдет в рассказ о том, как в родной город привозят в багажном вагоне тело нашей героини, выкопанное из общей могилы в Нью-Йорке. Просто не верилось – так здорово все получилось. Ох, какими же вурдалаками способны стать писатели!
Еще не успев в последний раз отложить в сторону письмо отца, я со вздохом облегчения почувствовал, что у меня вырисовывается и следующая сцена – казалось, достаточно протянуть руку, и я почувствую на ладони это большущее золотое яйцо, снесенное моим мозгом. Я придвинул к себе мои желтые блокноты, взял со стола карандаш. Поезд прибывает на вокзал, что у реки, – жуткий перрон, жаркий, тесный, пыльный. Его прибытия ждут сраженный горем отец, назойливая любовница, катафалк, угодливый гробовщик, быть может, кто-нибудь еще… Верный слуга, какая-то женщина. Старик негр? Скрип, скрип — издавал новенький карандаш «Бархатная Венера».
Те первые недели у Етты я помню удивительно отчетливо. Во-первых, там произошла дивная вспышка творческой энергии, когда я со всею наивностью молодости всецело погрузился в работу и за короткое время написал первые пятьдесят или шестьдесят страниц. Я никогда не писал быстро и легко, и данный случай не был исключением, ибо я и тогда старался – пусть неумело – найти нужное слово и потел, стремясь добиться нужного ритма и использовать все тонкости нашего великолепного, но отнюдь не милостивого и не гибкого языка; тем не менее мною владела непостижимая, бесстрашная уверенность в себе, и карандаш мой весело строчил, мои герои, казалось, начинали жить собственной жизнью, и влажный воздух тайдуотерского лета слепил глаза, обретая почти осязаемую реальность, словно передо мной разматывалась пленка с цветными трехмерными снимками. Как бережно я храню в памяти воспоминания о тех первых днях, когда я сидел в ярко-розовой комнате, согнувшись над ученическим столиком, шепотом произнося нараспев (как я до сих пор делаю) придуманные мною выражения и фразы, опробуя их на губах, точно какой-нибудь одержимый виршеплет, и все время испытывая величайшее удовлетворение от сознания, что в результате моих радостных трудов – каковы бы ни были их недостатки – на свет появится самый удивительный и значительный из плодов человеческого воображения: Роман. Благословенный Роман. Божественный Роман. Всемогущий Роман. Ох, Язвина, до чего же я завидую тебе той далекой поры, когда ты писал свой Первый Роман (задолго до наступления зрелости, когда сонной волною захлестывает усталость, а необходимость придумывать вызывает мрачную тоску, всплески эгоизма и честолюбия), когда каждое твое тире, каждая точка с запятой были продиктованы стремлением обессмертить себя, и ты, как ребенок, верил, что тебе предначертано нести людям красоту.
Еще одно я хорошо помню в связи с этим ранним периодом моего пребывания у Етты: мною владело неведомое прежде чувство раскованности и уверенности в себе, что наверняка тоже было следствием моей дружбы с Софи и Натаном. Это чувство впервые посетило меня в то воскресенье, в комнате Софи. Пока я крутился в улье «Макгроу-Хилл», в моем стремлении уйти от людей в мир вымысла и одиночества было что-то болезненное, схожее с самоистязанием, ведь это было для меня глубоко противоестественно, ибо в общем-то я человек компанейский, искренне склонный к дружбе и испытывающий ужас перед одиночеством, что обычно побуждает людей либо жениться, либо вступить в клуб «Ротари». Там, в Бруклине, я тогда дошел до точки – я остро нуждался в друзьях, и я их нашел; мои подспудные тревоги таким образом улеглись, и я смог засесть за работу. Безусловно, только человек больной или отшельник может без страха думать о том, что он будет изо дня в день трудиться как каторжник, не выходя из своей комнаты, этого вместилища тишины, окруженного четырьмя пустыми стенами. Запечатлев на бумаге картину горестных похорон, исполненных тоски и отчаяния, я счел, что вполне заслужил несколько стаканов пива и право на общество Софи и Натана.
Прошло довольно много времени – по крайней мере несколько недель, – и мне суждено было вместе с моими новыми друзьями вновь попасть в водоворот страстей такого накала, что они грозили всех нас поглотить – как и в тот раз, когда я впервые столкнулся с ними. Разразившаяся буря была ужасна – намного страшнее описанных мною мелких стычек и мрачных минут, – и ее взрывная сила поистине ошарашила меня. Но это было потом. А пока, подобно цветку, проросшему из моей розовой комнаты, этакому пышному пиону, распустившему все лепестки, я цвел, наслаждаясь своими творческими достижениями. Еще одно: я мог теперь жить спокойно, не ожидая, что сверху вот-вот донесутся звуки любовных утех. Тот год с небольшим Софи и Натан прожили на втором этаже, не оформляя отношений, не стесняя друг друга, у каждого была своя комната, но спали они вместе – в той постели, где было естественнее или удобнее.
Возможно, тут сказывалась строгая мораль того времени, ибо, несмотря на сравнительно терпимое отношение Етты к проблемам секса, Софи и Натан считали необходимым фактически жить врозь, хотя бы на расстоянии нескольких ярдов выстланного линолеумом холла, а не съезжаться в одну из своих просторных комнат, где им уже не пришлось бы разыгрывать шараду, изображая двух преданных друзей, которых вовсе не волнует зов плоти. Но в то время за женщиной еще было принято сначала ухаживать, а потом уже по мраморно-холодным канонам закона оформлять брак; кроме того, все это происходило на Флэтбуш-авеню, где соображения приличий и сплетни соседей играли не меньшую роль, чем в самом отсталом городке американской глубинки. О доме Етты пошла бы дурная слава, если бы стало известно, что «неженатая» пара живет вместе. Так что верхний холл был для Софи и Натана чем-то вроде короткой пуповины, соединявшей то, что, по сути дела, было двумя половинами большой двухкомнатной квартиры. Покой же и тишина, наступившие у меня, объяснялись тем, что мои друзья вскоре перенесли свои спальные принадлежности и шумные любовные утехи на кровать Натана, в комнату менее веселую, чем у Софи, но сейчас, летом, более прохладную, как сказал Натан. «Слава Богу, – подумал я, – значит, совокупления с комментариями больше не будут мешать моей работе и нарушать душевное равновесие».
В эти первые недели нашего знакомства я довольно успешно умудрялся скрывать свое увлечение Софи. Я так тщательно ограждал от посторонних взоров костер моей страсти, что уверен: ни сама Софи, ни Натан не могли заметить, как я плавился в ее присутствии. Во-первых, в ту пору я был до смешного неопытен и даже из спортивного чувства или состязания ради никогда не позволил бы себе поухаживать за женщиной, столь явно отдавшей свое сердце другому. А во-вторых, я просто-напросто считал Натана во всем выше себя. И это не было придурью. Когда человеку двадцать, разница в несколько лет выглядит куда большей, чем потом, а Натану тогда было около тридцати, мне же двадцать два, так что он представлялся мне значительно «старее»; эта разница так бы не чувствовалась, будь нам обоим за сорок. Тут следует отметить, что и Софи была примерно одних с Натаном лет. Учитывая все это, а также безразличный вид, какой я на себя напускал, я почти убежден, что ни Софи, ни Натану в голову не приходило считать меня серьезным претендентом на ее расположение. Друг – да. Любовник? Они оба хохотали бы до упаду. Должно быть, поэтому Натан так охотно и оставлял меня наедине с Софи и даже поощрял наше совместное времяпрепровождение в свое отсутствие. Он имел все основания проявлять такое доверие, поскольку мы с Софи в эти первые недели, несмотря на всю мою тягу к ней, лишь иногда обменивались рукопожатием. Я стал прилежным слушателем и уверен, что благодаря своей целомудренной отрешенности узнал со временем о Софи и ее прошлом не меньше (а то и больше), чем Натан.
– Я восхищаюсь твоим мужеством, малыш, – сказал мне как-то Натан, зайдя рано утром ко мне в комнату. – Я, право, восхищаюсь тем, что ты делаешь: надо же взяться писать что-то новое о Юге!
– Что ты хочешь этим сказать? – спросил я с искренним любопытством. – Почему требуется такое уж мужество, чтобы писать о Юге?
Было это на неделе после нашей поездки на Кони– Айленд, и я в тот момент разливал нам обоим кофе. Презрев привычку, я вот уже несколько дней вставал чуть свет, устремлялся – словно сквозь меня пропустили электрический ток – к столу и писал не отрываясь часа два, а то и больше. Я только что совершил один из фантастических (для меня) спринтов, написав что-то около тысячи слов, – что было характерно для этой стадии моей работы над книгой, – чувствовал себя немного выдохшимся и потому обрадовался, когда Натан по пути на работу постучал в мою дверь. Он уже несколько дней подряд заглядывал так ко мне по утрам, и мне нравилась эта игра. Эти дни он очень рано встает, объяснил мне Натан, и едет к Пфайзеру в свою лабораторию, где очень важные культуры бактерий требуют его внимания. Он попытался было подробно описать мне свой эксперимент – что-то связанное с амниотической жидкостью и зародышем кролика, в том числе какая-то заумная история насчет энзимов и ионного обмена, – но понимающе расхохотался и махнул рукой, увидев, что я ничего в этом не смыслю и на моем лице появились тоска и скука. В том, что я ничего не понял, виноват был я, а не Натан, ибо он объяснял четко и ясно. Просто я был слишком нетерпелив и не способен воспринимать ученые абстракции, что огорчало меня в такой же мере, в какой я завидовал диапазону и всеохватности ума Натана. Его способности, например, перескочить, как сейчас, с энзимов на достоинства литературного произведения.
– Я не считаю таким уж великим для себя подвигом то, что пишу о Юге, – продолжал я, – я ведь лучше всего знаю именно эти места. Эти старые хлопковые поля в родном краю.
– Я не это имею в виду, – возразил он. – Просто ты взялся за перо, когда южной традиции приходит конец. Ты можешь считать, что я понятия не имею о Юге, судя по тому, как я безжалостно и, должен сказать, непосредственно набросился на тебя в прошлое воскресенье из-за Бобби Уида. Но сейчас я говорю о другом – о литературе. Южная литература как сила через несколько лет кончится. На ее месте неизбежно возникнет другой жанр. Вот почему я и говорю, что надо иметь немало мужества, чтобы писать в изжившей себя традиции.
Эта тирада вызвала у меня немалое раздражение – правда, объяснялось оно не столько логикой и справедливостью его слов, если считать, что они действительно были логичны и справедливы, сколько тем, что подобный литературный вердикт исходил от биолога, занимающегося научно-исследовательской работой в фармацевтической фирме. В общем-то не его это было дело. Но когда я мягко, не без внутренней усмешки изложил ему стандартные истины литературной эстетики, он снова лихо отмел мои возражения.
– Натан, ты же, черт побери, специалист по клеткам, – сказал я, – ну что ты понимаешь в литературных жанрах и традициях?
– В «De Rerum Natura»[89]89
«О природе вещей» (лат.) – трактат Лукреция, римского поэта и философа-материалиста I в. до н. э.
[Закрыть] Лукреций отмечает основную истину, которую он вынес из своих наблюдений жизни. А именно: ученый, занятый только наукой, не умеющий наслаждаться и обогащаться искусством, – это урод. Неполноценный человек. И я, старина Язвина, этому верю – возможно, поэтому мне и небезразличны ты и твои писания. – Он помолчал и поднес дорогую на вид серебряную зажигалку к сигарете «Кэмел», зажатой у меня в губах. – Да простится мне то, что я потворствую твоей мерзкой привычке – я-то пользуюсь этой зажигалкой для бунзеновских горелок, – шутливым тоном заметил он и продолжал: – Собственно, я кое-что скрыл от тебя. Я сам хотел быть писателем, но курсе на третьем Гарварда понял, что никогда не стану Достоевским, и обратил свой пытливый ум на разгадку тайн человеческой протоплазмы.
– Значит, на самом-то деле ты намеревался стать писателем, – заметил я.
– Не с самого начала. Еврейские мамы всегда очень амбициозны в отношении своих сыновей, и на протяжении моего детства все считали, что я стану великим скрипачом – вторым Хейфецем или Менухином. Но, честно говоря, не было у меня Божьего дара, не было гениальности, хотя до сих пор осталась огромная тяга к музыке. Тогда я решил стать писателем – была у нас компания в Гарварде, компания очень увлеченных, помешанных на книгах второкурсников, и мы какое-то время жили исключительно литературой. Этакий забавный детский садик в городе Кеймбридж. Как и мои товарищи, я писал стихи и множество скверных рассказов. Каждый из нас считал, что мы переплюнем Хемингуэя. Но под конец у меня хватило ума понять, что, если я хочу стать писателем, лучше попытаться взять за образец Луи Пастера. Как выяснилось, мой подлинный талант связан с наукой. Поэтому я решил защищать диплом не по английскому, а по биологии. Выбор был сделан правильный – я в этом абсолютно убежден. Сейчас-то я вижу, что единственным моим плюсом было бы то, что я еврей.
– Еврей? – повторил я. – При чем тут это?
– Да лишь при том, что я уверен: в ближайшие годы еврейские писатели станут существенной силой в американской литературе.
– О, в самом деле? – заметил я, сразу приготовясь к обороне. – Откуда тебе это известно? Ты поэтому сказал, что я человек мужественный, раз взялся писать про Юг?
– Я ведь не говорил, что еврейские писатели будут единственной силой, я только сказал, что они будут существенной силой, – ровным тоном, вежливо возразил Натан, – и я вовсе не намекаю, что ты не способен внести значительный вклад в свою традицию. Просто евреи – в силу своей истории и этнических особенностей – займут положенное им место в послевоенном подъеме культуры. Так будет – только и всего. И есть уже роман, который положил этому начало. Это не событие в литературе – книга маленькая, но великолепная по композиции, и принадлежит она перу молодого, бесспорно блестящего писателя.
– Как же она называется? – спросил я. И весьма угрюмо, по-моему, добавил: – И кто этот блестящий писатель?
– Книга называется «Человек в нерешительности», – сказал он, – и написал ее Сол Беллоу.
– А-а, ерунда, – протянул я и отхлебнул кофе.
– Ты что, читал ее? – спросил он.
– Безусловно, – без зазрения совести соврал я.
– И что ты о ней думаешь?
Я подавил наигранный зевок.
– Мне она показалась весьма неглубокой. – Собственно, я знал об этом романе, но мелкая зависть, часто нападающая на еще не публиковавшегося писателя, порождала у меня лишь злость на критиков, вполне обоснованно, как я подозревал, хваливших книгу. – Очень урбанистическая книга, – добавил я, – слишком, знаешь ли, специфическая, многовато уличной вони.
Но, глядя на Натана, привольно развалившегося в кресле напротив, я не мог не признаться себе, что его слова меня взволновали. «А что, если, – думал я, – этот умный мерзавец прав и старая благородная литературная традиция, с которой я решил связать свою судьбу, действительно выдохлась, остановилась, обессилев, и я бесславно погибну под колесами разваливающейся телеги?» Натан виделся мне таким уверенным, таким сведущим в других вопросах, что и в данном случае его предсказание могло оказаться верным, и моему внутреннему взору вдруг предстала жуткая картина – особенно удручающая из-за того, что это было явное состязание: я увидел, как бегу на литературном треке – бесцветный десятый номер, – задыхаясь от пыли, поднятой ордой скороходов, всеми этими Беллоу, и Шварцами, и Леви, и Мандельбаумами.
А Натан смотрел на меня и улыбался. Улыбка казалась вполне дружеской, без тени иронии, но я на секунду – всего лишь на миг – остро почувствовал в нем то, что уже чувствовал и буду чувствовать еще не раз: приятные, обаятельные стороны его натуры недолго будут уравновешивать то необъяснимо зловещее и коварное, что сидело в нем. Затем это что-то, бесформенно липкое, пересекло комнату и исчезло; чувство, вызвавшее у меня мурашки, прошло, и я улыбнулся Натану в ответ. На нем был палм-бичский – по-моему, это так называется – костюм темно-песочного цвета, великолепно сшитый и явно дорогой, и в этом костюме он даже отдаленно не походил на того разбушевавшегося человека, которого я впервые увидел всего несколько дней назад, растрепанного, в мешковатых штанах, оравшего на Софи в холле. Внезапно весь поднятый им тогда шум, его нелепое обвинение: «…раскладывала свои прелести перед этой дешевкой, этим шарлатаном доктором!» – все это показалось мне столь же неправдоподобным, как реплики главного смутьяна в старом, полузабытом фильме. (Что все-таки скрывалось под этими его безумными словами? Интересно, узнаю ли я это когда-нибудь?) А на лице Натана продолжала играть ироническая улыбочка, и я понял, что личность этого человека – загадка столь таинственная и трудноразрешимая, какой я еще не встречал.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































