Читать книгу "Признания Ната Тернера"
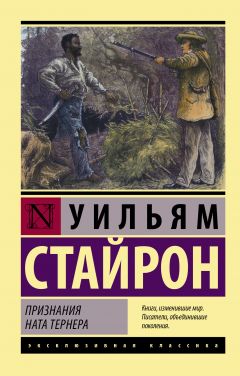
Автор книги: Уильям Стайрон
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Но слушай, Ham, слушай дальше…
Да, мисси, слушаю, конечно. Это чудесные стихи, мисс Маргарет.
Потом мы искали – весь сад обошли —
Цветок, чтобы горд был и ярок,
И самый красивый для Вас мы нашли,
Чтоб вышел достойным подарок.
О, дайте надеть Вам сей пышный венец,
Обвязанный лентою алой;
Нам только и надо – чтоб Вы, наш отец,
О нас иногда вспоминали!
Вот! Теперь все, конец. Что скажешь, Ham? Тебе понравилось?
Это очень красивые стихи, мисси. Снова круп лошади, гнедой, лоснящийся, и уже медленнее цокот копыт – чук-чок, чук-чок мимо зеленого луга, крест-накрест простеганного стрекотом насекомых; я тоже медленно поворачиваюсь и всматриваюсь исподтишка в ее лицо сторожким, ускользающим негритянским взглядом (поучение некоей старой черной бабуси всегда звучит во мне, даже сейчас: «Белому в глаза глянешь – хлопот не оберешься»), ловлю отблеск солнца на гладкой и прозрачной белой коже прелестно вылепленной щеки, а носик чуть вздернут, и на круглом юном подбородке тень от кокетливой ямочки. Она в белом капоре, из-под которого выбиваются шелковистые пряди русых волос, невзначай придающие ее скромной девической красоте чуть заметный оттенок шаловливой чувственности. В белых ее воскресных льняных доспехах она вспотела, а я так близко, что обоняю запашок ее пота – острый, женственный, тревожащий; и вот раздается ее заливистый, по-девчоночьи беспричинный смех, вот она утирает капельку пота с носа и вдруг поворачивается – эк ведь! застигла врасплох: смотрит мне прямо в глаза с видом радостным, веселым и невольно кокетливым. Смущенный, сбитый с толку, я торопливо отвожу глаза. Жаль, что ты не видел губернатора, Ham. Такой видный мужчина! Кстати, да, чуть не забыла. Об этом был отчет в «Саутсайд Рипортер», и они упомянули мое стихотворение и меня! Газета у меня здесь, вот, слушай. Какое-то время она молча роется в сумочке, потом под стук копыт начинает быстро читать возбужденным, срывающимся голосом……Затем губернатора проводили в актовый зал, где более сотни гимназисток, собравшихся встречать его, выстроились стройными рядами, а заранее собравшийся кружок выдающихся дам наблюдал за сценой встречи. После официальных приветствий прозвучало выступление директора, на которое губернатор Флойд дал прочувствованный и вдумчивый ответ. После чего юные леди спели специально написанную для этой встречи оду на мотив «Пусть грянут цимбалы» под аккомпанемент мисс Тимберлейк на фортепиано. Затем от имени учителей школы мисс Ковингтон произнесла речь, превзойти которую по стилю, пафосу и красноречию было бы нелегко… (А теперь слушай, Ham, это обо мне…) За речью последовала ода, сочиненная мисс Маргарет Уайтхед, по окончании которой младшие ученицы, как бы в продолжение оной, спели песенку «Венец из цветов», одновременно возлагая на губернатора венок. Это имело эффект поразительный – чуть ли не каждый в зале прослезился. Сомневаемся, приходилось ли губернатору где-либо наблюдать более трогательную сцену, нежели здесь, в нашей местной женской гимназии, исполненной высочайших принципов христианского женского образования…
Что ты на это скажешь, а, Нат?
Ну, это просто здорово, мисси. Просто здорово и грандиозно. Да, да, именно грандиозно.
На несколько секунд воцаряется тишина, затем: Я подумала: наверное, и тебе понравится стихотворение. Ах, я даже знала, что понравится! Потому что ты… о, ты не такой, как мама или Ричард. Каждый уик-энд, когда я приезжаю из школы, ты единственный, с кем я могу поговорить. Все, о чем может думать мама, это урожай – ну то есть лес, зерно, стадо и все такое, – и все деньги, деньги. Да и Ричард не многим лучше. В том смысле, что, хотя он пастор и все такое, в нем ничего, ну ничегошеньки нет духовного. Например, они ничего не понимают в поэзии, – вообще в духовности, да даже и в религии. Вот третьего дня хотя бы, я Ричарду что-то сказала о красоте псалмов Давида, а он и говорит, да с таким еще перекошенным, кислым видом: «Какая еще красота?» Скажи, Ham, ты можешь это себе представить? Такое услышать от собственного брата, да еще и пастора! А какой твой любимый псалом, Ham?
Какие-то секунды я молчу. Мы опаздываем в церковь, так что, постукав лошадь по крупу кнутовищем, я понуждаю ее пуститься вскачь, пыль клубится и поднимается волнами от ее танцующих ног. Потом я говорю: Это не так-то просто сказать, мисс Маргарет. Есть целая куча псалмов, я очень многие люблю. Хотя, пожалуй, больше всех я люблю тот, который начинается «Помилуй меня, Боже, помилуй меня; ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Сделав паузу, я продолжаю: Воззову к Богу всевышнему, Богу, благодетельствующему мне». А потом говорю: Так он начинается. Это номер пятьдесят шестой.
Да, да, – говорит она своим тихим, тающим голоском. – Да, это тот, в котором есть такой стих: «Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтирь и гусли! Я встану рано». Она говорит, а я чувствую, как она близко, и это так томительно, тревожно, меня почти пугает трепет и подрагивание льняного платья, задевающего мой рукав. Да, да, такой прекрасный псалом, что хочется плакать. Ты так хорошо знаешь Библию, Ham. И так хорошо понимаешь вещи, ну, духовные. Я к тому, что, ну в смысле… – забавно, но когда я рассказываю девочкам в гимназии, они мне не верят. Не верят, что, когда я приезжаю домой на уик-энды, единственный человек, с которым я могу общаться, это, ну – чернокожий!
Я молчу, только чувствую, как у меня сердце начинает биться часто-часто, хотя я и не понимаю причины этого.
А мама говорит, ты уходишь. Возвращаешься назад к Тревисам. А Маргарет от этого печально, потому что целое лето ей будет не с кем поговорить. Но они же всего в нескольких милях, Ham. Ты ведь придешь как-нибудь, а, Нат, придешь как-нибудь в воскресенье? Даже если не будешь больше возить меня в церковь? Без разговоров с тобой мне будет так одиноко – ну что некому будет мне цитировать Библию, в смысле, что никто так глубоко, как ты, ее не знает и все такое… Она все лепечет, чирикает, голосок такой радостный, напевный, исполненный христианской любви и христианской добродетели, голос юности, до дрожи одержимой Христом и новизной мира. Не правда ли, Евангелие от Матфея самое проникновенное! А доктрина воздержания – правда же, какой благородный, чистый и правильный вклад методистской церкви? А Нагорная проповедь – это ведь самое удивительное откровение за всю историю человечества, верно? Мое сердце по-прежнему чуть не выскакивает из груди, и вдруг меня охватывает мучительная, беспричинная ненависть к этой невинной, мило порхающей юной девушке, возникает жгучее, почти непреодолимое желание вытянуть руку и стиснуть ее белую, стройную, пульсирующую шейку. Однако – и самое странное, что я отдаю себе в этом отчет, – это вовсе не ненависть, нет, тут что-то другое. Но что? Что же? Эмоцию поймать не удается. Где-то ближе к ревности, но опять нет, и это не то. Да и чего ради из-за этого нежного существа должен я пребывать в таком злом смятении – совершенно непонятно, ведь за исключением давнишнего моего хозяина Сэмюэля Тернера да еще разве что Джеремии Кобба, она единственный белый человек, с которым я хотя бы раз испытал мгновение загадочного тепла и слияния во взаимной симпатии. И тут я разом осознаю, что как раз из этой симпатии – столь же непреоборимой с моей стороны, сколь и ненужной, только мешающей великим планам, которые этой весной как раз складываются в окончательное, фатальное сооружение, – из этой симпатии и произрастают моя внезапная ярость и смятение.
Зачем ты так скоро возвращаешься к Тревисам, Ham? – спрашивает она.
Так ведь, мисси, меня же маса Джо сдал по обмену и только на два месяца. А обмен – это уж такое дело. Договор, говорят, дороже денег.
Что? Как это? – она озадачена. – Какой обмен?
Так ведь, мисси, я же как попал-то к вашей матушке. Маса Джо – он хотел пни корчевать, так ему для этого упряжка волов понадобилась, а мисс Кэти нужен был ниггер строить новый сарай. Вот маса Джо и поменялся с ней на два месяца, отдал меня за воловью упряжку. Честный обмен, обычная договоренность.
Она издает долгое задумчивое мычание. Мм-м-м. За воловью упряжку. То есть ты, значит… Как-то это очень странно. На некоторое время она замолкает. Затем: Ham, почему ты так сам себя называешь – ну ниггером? Я – в смысле – это как-то звучит, ну грустно, что ли. Я бы предпочла слово «чернокожий». Ты ведь все-таки проповедник как-никак… Ой, смотри, смотри, Ham, церковь показалась! Гляди-ка, Ричард стену уже целиком покрасил!
Но вот опять дымка нежных грез в сознании истончается, и я слышу адресованную суду речь Грея:
– …без сомнения, наслышаны, а может быть, даже и читали весьма значительную работу покойного профессора Еноха Мибейна из Университета Джорджии в Афинах – труд еще более фундаментальный и основанный на куда более обширных и скрупулезных исследованиях, чем упомянутый опус профессоров Сентелла и Ричардса, откуда взята цитата. Ибо, тогда как профессора Сентелл и Ричардс с богословской позиции показали врожденную, природную, изначально присущую неграм недоразвитость в плане морального выбора и христианской этики, то достижением профессора Мибейна явилось неоспоримое, не оставляющее йоты сомнения доказательство биологической неполноценности черной расы. Поскольку суду, конечно же, известна монография профессора Мибейна, я позволю себе освежить в вашей памяти ее содержание лишь в общих, самых основных чертах, а именно, что все параметры головы ниггера – косо срезанный подбородок (эту особенность профессор Мибейн характеризует количественно – индексом лицевого угла); покатый череп с нелепыми, нависающими, как у обезьяны, надбровными дугами и таким соотношением горизонтальных и вертикальных размерений, что в нем попросту нет места для лобных долей мозга, которые у других рас ответственны за развитие высших моральных и духовных запросов; да взять хотя бы толщину самой черепной кости – она напоминает не столько соответствующую кость человека, сколько кость низшего тяглового скота. В совокупности эти параметры весомо и доказательно свидетельствуют, что негр занимает в иерархии видов в лучшем случае срединную позицию, родство же негра с людьми других рас достаточно сомнительно, зато гораздо ближе он стоит к лесной макаке, что водится на том диком континенте, откуда он родом…
Грей остановился и, словно переводя дыхание, подался вперед, возложил обе ладони на стол, опершись на него всем весом, и устремил взор на судей. В зале тишина. Притихшая публика, помаргивая в парном воздухе, казалось, ловит каждое слово Грея так, будто во всяком слоге может содержаться намек на обещание некоего откровения, которое развеяло бы страх, напряженность и, наконец, горе, сплотившее всех воедино, каждого с остальными, нанизав всех на один тонкий болевой стержень истерического женского воя, что все время присутствовал где-то в глубине зала – единственный звук среди молчания, необузданный и неизбывный. От наручников у меня онемели руки. Я пошевелил пальцами, они ничего не чувствовали. Грей прочистил горло, затем продолжил:
– А теперь, достопочтенные судьи, я попрошу вас разрешить мне один перескок в рассуждениях. Разрешите мне связать приведенные выше безупречные выводы, сделанные профессором Мибейном из его биологических изысканий, с представлениями еще более выдающегося мыслителя, а именно великого немецкого философа Лейбница[12]12
Лейбниц, Готфрид Вильгельм (1646–1716) – немецкий философ, математик, физик, языковед.
[Закрыть]. Всем вам, конечно же, знакомо введенное Лейбницем понятие монады. Мозг каждого из нас, согласно Лейбницу, наполнен монадами. Эти монады, коих миллионы и миллиарды, суть крошечные, бесконечно малые умственные ячейки, стремящиеся к развитию в соответствии с их собственной предопределенной сущностью. А теперь как хотите – можете воспринимать концепцию Лейбница буквально, можете (как это делаю я) понимать ее до какой-то степени в символическом аспекте, но факт остается, и факт, похоже, неоспоримый: духовную и этическую организацию сознания индивида можно изучать и понимать не на одном лишь качественном уровне, но и на количественном тоже. Это вытекает из того, что собственно стремление к развитию – эти слова я выделяю и подчеркиваю – не может, в конце концов, быть не чем иным, как только производным от числа монад, которое в данном индивидуальном сознании способно содержаться.
Он перевел дух, потом сказал:
– И тут, ваша честь, мы вскрываем сердцевину проблемы, которая, если рассмотреть ее со вниманием, приведет нас только лишь к самым оптимистичным выводам. Ибо негр, с его несформированным, примитивным, почти рудиментарным черепом, страдает от серьезной нехватки монад, настолько серьезной, что упомянутое стремление к развитию, которое в других расах дает нам таких людей, как Ньютон, Платон или Леонардо да Винчи, либо высочайших гениев техники, таких, как Джеймс Уатт, – так вот, упомянутое стремление к развитию у негра заторможено чрезвычайно, да что там, затруднено до невозможности; так что, с одной стороны, мы имеем восхитительный музыкальный дар Моцарта, а с другой – приятное, но ребяческое и невдохновенное гулюканье; с одной стороны, величественные сооружения Кристофера Рена[13]13
Рен, Кристофер (1632–1723) – английский архитектор, математик и астроном, представитель классицизма.
[Закрыть], а с другой – невразумительные артефакты вроде глиняных черепков из африканских джунглей; с одной стороны, блестящий полководческий талант Наполеона Бонапарта, а с другой – тут он прервался, сделав жест в мою сторону, – с другой, бессмысленные, жалкие и ни к какой разумной цели не ведущие убийства Ната Тернера, изначально обреченного на полное поражение вследствие биологической и духовной неполноценности негритянского характера! – Голос Грея стал повышаться, обретая силу. – Достопочтенная коллегия, я опять-таки не хочу приуменьшать ни зверских деяний подзащитного, ни нужды в жестком контроле над данным сегментом населения. Но если этот суд призван просветить нас, он также должен дать нам повод для надежды и оптимизма! Он должен показать нам – причем, я полагаю, признания подзащитного уже это сделали, – что мы не должны при виде негра в панике разбегаться! Столь грубо построены были злодейские ковы, так неловко и бессмысленно они приведены в действие…
И вновь его слова у меня в ушах глохнут, я прикрываю глаза – и в полусне опять ее голос, чистым колокольчиком раздававшийся в то дремотное воскресенье полгода назад: Ой-ей-ей, Ham, не завидую тебе. Сегодня же миссионерское воскресенье. День, когда Ричард читает проповедь для чернокожих! Спрыгнув с коляски, она бросает на меня светлый, печальный взгляд. Бедный Ham. И убегает вперед, залитая чистым, слепящим светом; бежит на цыпочках, шурша льняными юбками, и исчезает в притворе церкви, куда я тоже вхожу; тихонько, осторожненько, пока никто не видит, по черной лестнице взбираюсь на балкон, надстроенный для негров, и уже по дороге слышу голос Ричарда Уайтхеда, как всегда гнусавый и писклявый, почти женский – даже сейчас, когда он обрушивает громы и молнии на черную потеющую паству, среди которой усаживаюсь и я: И подумайте сами в себе, сколь ужасная будет вещь, если после всех ваших трудов и страданий в этой жизни низвергнуты будете в ад в жизни вечной, и после того как изношены будут ваши тела в трудах земныx, когда земное рабство кончится, попадете в гораздо худшее рабство, ибо ваши души попадут во владение диавола, чтобы в аду оказаться в вечном рабстве без всякой надежды на освобождение от оного…
Высоко над белой паствой, под церковной крышей, где, как в пещи огненной, удушающая влажная жара пылает и плывет мириадами роящихся пылинок, человек семьдесят с лишним негров, собравшихся со всей ближней округи, сидят на расшатанных сосновых скамьях без спинок, а то и прямо на корточках на скрипучем полу балкона. Быстрым взглядом я окидываю толпу, замечаю Харка и Мозеса, киваю Харку, с которым не виделся почти два месяца. Негры слушают внимательно, сосредоточенно, некоторые из женщин обмахиваются тоненькими сосновыми драночками, все смотрят на пастора немигающими глазами огородных пугал, и я навскидку по одежкам могу определить, кто из белых чей хозяин: если Ричард Портер, Дж. Т. Барроу или вдова Уайтхед (то есть по-настоящему богатые господа), то одежки рабов чистые, аккуратные, на мужчинах бумазейные рубахи и свежевыстиранные штаны, на женщинах платья из набивного ситца и красные платочки в горошек, у некоторых даже дешевенькие серьги и брошки; те, чьи хозяева победнее – вроде Натаниэля Френсиса, Леви Уоллера или Бенджамина Эдвардса, – одеты в замызганные, латаные-перелатаные тряпки, кое-кто из сидящих на корточках мужчин и мальчишек вовсе без рубах – сидят, ковыряют в носах, почесываются, на спинах блестят струйки пота, и вонь от них стоит до небес. Я сажусь на скамью у окна, где есть место между Харком и тучным тупорылым рабом по имени Хаббард, который прямо на голые шоколадного цвета вислые плечи напялил брошенный кем-то из белых истрепанный цветастый жилет, причем даже сейчас, когда он добросовестно внимает проповеди, его губы тронуты глупой, заискивающей ухмылкой льстеца. Внизу под нами – кафедра, поставленная выше белой паствы, за ней в черном костюме и черном галстуке бледный и стройный Ричард Уайтхед; обращая очи горе, нынче он наставляет на путь истинный нас – тех, что сгрудились на балконе под крышей:…и поэтому, если хотите в раю стать Божьими свободными людьми, надо стараться быть добрыми христианами и служить Господу здесь, на земле. Тела ваши, как известно, вам не принадлежат: они находятся в распоряжении ваших хозяев, но драгоценные души всегда при вас – никто и ничто не может отнять их у вас, разве что только по собственной вашей вине. Не забывайте, что если из-за праздной, нечестивой жизни потеряешь душу, ничего в этом мире не приобретешь и все утратишь в мире грядущем. Ибо ваши праздность и безнравственность обычно становятся известны, и за это здесь страдают ваши тела, но, что гораздо хуже, если не покаетесь, не сокрушитесь в сердцах ваших и своих путей не исправите, несчастные ваши души будут страдать и томиться вечно…
Влетая через окна, проносятся черные осы, дремотно жужжат и бьются где-то под застрехой. Службу я слушаю вполуха: из тех же уст те же фальшивые, ненужные слова я слышу чуть ли не в десятый раз за столько же последних лет – они всегда одни и те же, не меняются, да это и не его слова, не он их придумал – скорее, это епископ Методистской церкви Виргинии раздал священникам текст, чтобы оглашали ежегодно: надо же как-то держать негров в страхе Божием. То, что проповедь действует, по крайней мере на некоторых, несомненно: даже и сейчас, когда у Ричарда Уайтхеда еще, так сказать, распевка, он лишь подходит к главному в своей речи, постепенно увлажняясь ликом, краснеющим словно в отсветах обещанного адского пламени; вокруг себя я замечаю довольно много тех, у кого в извечном негритянском легковерии и глаза выпучены, и челюсти отпали, и дрожь испуга пробегает по телам, а когда произносится тихое аминь и положено приносить молчаливые клятвы вечной покорности, они на нервной почве и от натуги начинают даже костяшками пальцев трещать. Да, да! – слышу я высокий взволнованный голос; потом тем же голосом, протяжно: Оооооо-даааа, как это вееееерно! Ууйееееееаа! Скосив взгляд, я вижу, что это Хаббард: бесстыже раскорячась и вихляясь на толстых ягодицах, он даже глаза зажмурил в трансе молитвенной покорности. Ууйеееееааа! – стонет, тянет нараспев этот толстый лакей, послушный, как ручной енот. Тут я чувствую на своей руке ладонь Харка, твердую, теплую и дружескую, и слышу его шепот: Ham, эти тутошние негры так на небо рвутся, того и гляди из штанов выскочат. Как поживаешь, Ham?
Жру на убой заместо борова у вдовы Уайтхед, – шепчу я в ответ. Боясь, как бы не услышал Хаббард, я говорю очень тихо: там есть оружейная комната, Харк, и это что-то невероятное. У ней там под стеклом пятнадцать штук ружей заперто. А пороха и дроби на целый полк. Возьмем те ружья, и Иерусалим наш. Еще в августе, за месяц перед тем как от Тревисов перейти ко вдове Уайтхед, я посвятил Харка в свои планы – Харка и троих других. А где Генри, где Нельсон и Сэм?
Да все, все здесь, – отвечает Харк. – Я знал, что ты придешь, поэтому их тоже привел. Знаешь, что самое смешное, Ham, слышь… Не успев ничего сказать, он начинает хихикать, я принимаюсь утихомиривать его, и он продолжает: Ну, ты ведь знаешь Нельсона, его белые господа – баптисты, в церковь они аж в Шайло ездят. Так что Нельсону вроде как не резон на какую-то методистскую службу ходить, тем более когда проповедь, как сейчас, только для негров. Главное, хозяин – ну, ты знаешь старого паршивца маса Джейка Уильямса, у него еще ноги нет – хозяин ему и говорит: «Нельсон, чего это тебя на проповедь вдруг к методистам понесло, да еще в день, когда они негров обличают?» А Нельсон ему в ответ: «Так ведь, маса Джейк, хозяин вы мой дражайший, я такой грешник! Чувствую, я плохо вел себя с вами, вот мне и нужно возродить в себе страх Божий, чтобы не было с этих пор более верного негра, чем я!» Тут Харка начинает сотрясать и бить приступ молчаливого хохота, я даже пугаюсь, не выдал бы он этим нас обоих. И снова его шепот: С этим Нельсоном – слышь, Ham, – держи ухо востро! Чтоб я когда видел черномазого, которому так не терпелось бы засадить нож белому в брюхо, так это как раз наш Нельсон! Вон он, Ham, вон там сидит…
К этому времени я уже воспитал Харка и верил в него безгранично: все последние шесть месяцев я мало-помалу подрывал в нем слюнявое детское преклонение перед белыми, учил не доверять и не полагаться на них, непрестанно напирал на то, как у него отняли и продали жену и сына, настаивал, что со стороны нашего хозяина это было деянием непростительным и чудовищным, как бы ни объяснял это маса Джо безвыходностью своего тогдашнего положения; я непрестанно, почти каждодневно играл на безутешной печали Харка, вопреки его упорному сопротивлению всячески подводил и подталкивал его к тому порогу, за которым ему придется твердо и без колебаний выбрать то или другое – свободу или прижизненную смерть, и, наконец, я открыл ему свой план кровавого набега на Иерусалим, захвата города и победного исхода в дебри Гиблого болота, где ни один белый не рискнет нас преследовать. Настал момент, когда я убедился в том, что моя тактика была плодотворной: однажды зимой за работой Патнем всегдашними крикливыми наскоками довел-таки Харка до крайности, и тут Харк поворачивается, а в кулаке – этак недвусмысленно – зажат десятифунтовый ломик, и хоть он и не говорит ничего, зато во взгляде такая сокрушительная ярость, такой убийственный огонек, что даже я встревожился, а уж его мучитель раз и навсегда дрогнул и сник. И все, дело сделано, точно как тот орел, что я однажды видел – великан, красавец, – вырвался из ловушки, взмыл в бездонное чистое небо и был таков. Все, теперь Харка не удержишь. Этот мелкий сучонок никогда меня больше на дерево не загонит! Так Харк стал первым, кто разделил со мною мой замысел. Харк, а потом Генри, Нельсон и Сэм – надежные, неболтливые, бесстрашные, все люди Божьи и посланники отмщения Его; они уже посвящены в мой великий план.
Вижу Нельсона у противоположной стены битком набитого балкона: он пожилой, лет пятидесяти пяти (как это водится у негров, своего возраста он толком не знает сам), лицо правильное, овальное, сидит невозмутимый среди туго соображающей, запуганной и одурманенной толпы; тяжелые веки придают ему вид полусонный и вместе с тем несокрушимо спокойный и терпеливый, при этом, подобно глубокому морю, скрывающий в себе буйную ярость внезапного громокипящего выплеска. На черной груди среди редкой седой поросли буквой S вьется, поблескивая, будто маленькая змейка, слегка выпуклый шрам – память о тех временах, когда рабов клеймили. Читать он умеет лишь несколько простейших слов, а уж где и как он их выучил, неведомо. Неволя ему мучительна до тошноты, до безумия: у него сменилось более полудюжины хозяев, причем последний, теперешний – лесоруб, злобный калека одного с ним возраста; пороть Нельсона он не смеет, хотя и предпринял попытку в этом направлении, которую Нельсон, разозлившийся не более чем следует, чтобы прихлопнуть комара, пресек тем, что дал хозяину по зубам и пояснил: дескать, еще раз попробуешь – убью, и в результате хозяин теперь боится, ненавидит его и в отместку заставляет работать за двоих, а кормит самыми дрянными отбросами и баландой. Когда-то у Нельсона были жена и дети, но ни видеть их часто, ни тем паче всех разом у него нет никакой надежды, поскольку они рассеяны по трем или четырем округам Восточной Виргинии. Так же как и для Харка, религия мало что для него значит, и так же как Харк, он частенько сквернословит, что, конечно же, огорчает меня, но всерьез не тревожит: по мне, он воистину Божий человек – проницательный, неторопливый, хладнокровный; его сонный вид обманчив: у него бешеный нрав, и он способен стать сильной правой рукой предводителя. Жизнь ниггера говна свинячьего не стоит, – сказал он мне однажды, – сделаться чем-то, хотя бы для себя самого, ниггер может, только пытаясь освободиться, даже если ничего не выйдет. А его стратегический ум чего стоит! Сперва тряханем там, где лошади есть: лошади – это скорость. Или: Тряхануть надо в воскресенье к ночи – когда негры охотятся. Белые хренососы, если какой шум и услышат, подумают, негры опоссума на дерево загнали. Или еще: Нам главное ниггеров до винокурен не допустить. Ежели наши черные придурки до сидра и виски доберутся – все, война, считай, проиграна… Я гляжу на Нельсона и ловлю его сонный, бесстрастный взгляд, а он и виду не подает, что узнал меня…
Опять слышу, как Харк шепчет мне на ухо: После службы у них там что-то на кладбище затевается, и негров туда не пустят…
Да, – отвечаю я, – знаю, знаю. Во мне нарастает возбуждение, я чувствую, что настал день, когда мы сможем наконец подробней, определеннее обсудить детали плана. – Знаю. Где встречаемся?
Слышь, если церковь сзади обойти, там два бревна есть через ручей. Я сказал Генри, Нельсону и Сэму, чтоб, когда белые на кладбище пойдут, ждали нас там.
Это правильно, – говорю я, потом – тшш-шш, – стискиваю его руку, боясь, как бы нас не подслушали, и мы отворачиваемся друг от друга, изображаем набожное внимание; будто бы мы ловим каждое слово, восходящее к нам сюда, в жужжание бьющихся ос, в скрип и потрескивание балок: Неразумные вы создания! Как мало вы задумываетесь, когда по лености пренебрегаете делами хозяев, когда крадете, портите и разбазариваете их имущество, когда вы дерзки и ослушливы, когда не говорите им правды и обманываете их так же, как когда вы упрямитесь, строптиво отказываетесь выполнять работу, напрашиваясь на порку, – да, мало вы задумываетесь, что прегрешения ваши перед хозяевами суть грехи перед самим Отцом Небесным, который Своею волею поставил над вами хозяев и хозяек ваших и ждет от вас повиновения им такого же, какого ждет от вас по отношению к Себе. Ибо разве не предстоят за вас хозяева ваши перед Господом, разве не заботятся о вас? А как же им справиться с этим, как им кормить, одевать вас, если вы не будете честно заботиться обо всем, что принадлежит им? Помните, этого от вас требует Господь Бог. И если не боитесь вы здесь пострадать из-за небрежения вашего, то грядущей укоризны Всевышнего никак вам не избегнуть, ибо только Всевышний рассудит вас с вашими хозяевами и заставит вас жестоко поплатиться в мире горнем за неправедное ваше к ним отношение здесь. И хотя подчас в лукавоухищрениях своих вы ловко избегаете глаз и рук человеческих, подумайте, сколь ужасно вам будет попасть под десницу Бога Живаго, во власти которого ввергнуть в адский пламень как ваши души, так и тела… Но вот сквозь тихие стоны черной толпы, сквозь удовлетворенные жирные вздохи Хаббарда, сквозь шепот и шевеление, сквозь все эти с придыханием исторгаемые из глубины души всхлипы глупой покорности и благоговейного ужаса я слышу сзади себя другой голос – близко-близко, почти у самого уха, хриплое быстрое бормотание, почти неразборчивое, будто у человека приступ, будто его бьет падучая:.…меня будете этой вашей белой дрянью кормить, ага, сейчас, так я эту вашу белую дрянь и скушал, прямо… Я не поворачиваюсь, да и как тут повернешься, меня и так сразу в дрожь бросило, но я не то чтобы боюсь повернуться, просто не могу смотреть в это безумное, злобное лицо с проломленным носом, перекошенно торчащей челюстью, с выпученными глазами, в которых застыл взгляд убийцы – тупого, оголтелого, полубезумного, – я и без того, и не поворачиваясь знаю, чей это голос: это Билл. Я раздражен, я будто к месту вдруг прирастаю. Потому что, хотя, подобно Нельсону, Билл осатанел от рабства, его безумие не умеряется никаким терпением, никакой тайною мыслью, но являет собой неистовую, неуправляемую ярость дикого лесного вепря, безнадежно загнанного, застрявшего в чащобе и лишь злобно и бессмысленно рычащего и скалящего зубы. Годам к двадцати пяти или чуть старше он стал уже опытным беглецом, однажды добрался чуть ли не до Мэриленда, в странствиях ведомый не столько умом, сколько ловкостью и выносливостью, присущими мелким хищникам, населяющим леса и болота, в которых он целых шесть недель скитался, пока его не поймали и не отправили назад к нынешнему хозяину, известному «негролому» по имени Натаниэль Френсис, который побоями вверг его в состояние временной ошеломленной покорности. А сейчас он сидит позади меня на корточках и бормочет, обращаясь непонятно к кому – к себе, ни к кому или же к кому угодно. Старая белая сука, шепчет он и повторяет это, как какую-то идиотическую литанию, вновь и вновь.
Присутствие Билла беспокоит меня, я не хочу иметь с ним ничего общего ни теперь, ни в каких бы то ни было будущих делах. Я даже опасаюсь, как бы он не пронюхал, что затевается. Я не то что не нахожу ничего ценного в его надломе, в его непокорстве и ярости, я просто не доверяю ему, меня инстинктивно отвращает его буквально пеной у рта проступающее неистовство. Кроме того, есть еще одно соображение, довольно очевидное в свете только что услышанных настойчивых заклинаний: я наслышан, что он постоянно бредит поруганием белых женщин, тема изнасилования не оставляет его ни днем, ни ночью. А я такого рода бесчинства запретил – причем и Харк, и Нельсон, и другие клятвенно обещали не нарушать запрета. Такова воля Господа, я знаю это – таким отмщением я должен пренебречь: Не делай с их женщинами moго, что делали они с твоими…
Изо всех сил я изгоняю Билла из сознания и, озирая галерею, вижу двоих других – на них, наоборот, я возлагаю большие надежды. Подобно Биллу, Сэм раб Натаниэля Френсиса, он мулат, мускулистый, жилистый полевой работник, веснушчатый и рыжеволосый. Упрямый, напряженный, нервный, он тоже много раз бывал в бегах, его желтоватая кожа в буграх и шрамах от плети. Я ценю его за ум, но и за цвет тоже: присутствие человека с такой светлой кожей на многих негров производит впечатление, особенно на тех, кто попроще, и я чувствую, что, когда дело мое наберет силу, Сэм будет весьма полезен для вербовки новых рекрутов. Он мастер тихой тайной каверзы и уже завлек в наши ряды Генри, который сидит сейчас рядом с ним – глаза закрыты, чуть покачивается, вид благостный и умиротворенный. Насколько я могу отсюда разглядеть, Генри просто-напросто спит. Низкорослый, крепко сбитый, очень черный, он один в моем войске по-настоящему религиозен. Его хозяин Ричард Портер – набожный и добрый джентльмен, который никогда не поднимал на него руку. В свои сорок лет Генри живет в воображаемом библейском мире, в стране теней и почти совершенной тишины, так как в детстве он почти начисто оглох, получив удар по голове от какого-то пьяного надсмотрщика, ни имени, ни обличья которого он уже не помнит. Но воспоминание о том ударе по сию пору питает в нем тихую ярость…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































