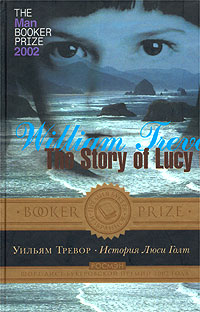Читать книгу "История Люси Голт"
2
– Матерь Божья! – прошептала Бриджит и побелела как полотно.
– Вот я тебе и говорю, – медленно сказал Хенри. – Они ходили на пляж, сказал он. Сперва капитан прошел через поля, а потом они оба вернулись вниз, на пляж. Он нашел ее веши. Как раз был отлив, а он шел из Килорана. Вот так он и сказал.
Да нет, не может такого быть, сказала Бриджит. Не может такого быть, как он говорит.
– Матерь Божья, не может такого быть!
– Отливом все должно было унести. Кроме того, что застряло в камнях. У него в руке была какая-то тряпка… – Хенри запнулся. – Мне когда еще казалось, что она бегает купаться в одиночку. Если бы я точно ее на этом подловил, уж конечно бы сказал им.
– А может, она там где-нибудь, в камнях? Она все эти дни просто сама не своя. Может, пошла туда, ну, где она креветок ловит?
Хенри ничего на это не сказал, а потом Бриджит и сама покачала головой. Зачем ребенку снимать на пляже одежду, как не для того, чтобы искупаться в море в последний раз перед отъездом?
– И я вот тоже думала, – сказала она. – Волосы у нее иногда были как будто влажные.
– Пойду спущусь вниз. Отнесу им фонарь.
Оставшись одна, Бриджит стала молиться. Когда она сложила руки вместе, ладони оказались совсем холодные. Она молилась вслух, захлебываясь слезами. Через несколько минут она пошла за мужем следом, через двор и через яблоневый сад, на выгон, а потом вниз, на пляж.
* * *
Они смотрели сквозь темноту в пустое море. Они не говорили ни слова, но стояли близко друг к другу, так, словно боялись вдруг остаться в одиночестве. Волны ласково шуршали о песок, море наступало, всякий раз чуть выше прежнего, – прилив.
– Ой, мэ-эм, мэ-эм! – Голос у Бриджит был резкий, и шумный шаг по каменистой осыпи, прежде чем она вышла на песок. Если бы она чуть раньше подумала, причитала Бриджит, и слова наскакивали одно на другое, а черты лица в неровных вспышках фонаря, который держал Хенри, вообще, казалось, принадлежали другой какой-то женщине.
Капитан Голт и его жена растерянно обернулись ей навстречу. Может, хоть в этой бессмыслице вдруг обнаружится зернышко надежды, которой иначе взяться просто неоткуда? В секундном замешательстве оба подумали именно об этом, о единственной надежде.
– Нет, мэм, вы не подумайте, она ни полслова об этом не говорила. Просто нам с Хенри вроде как казалось. Как же это мы вам, сэр, сразу про это не сказали.
– О чем не сказали, Бриджит? – В голосе у капитана была усталая вежливая нотка и терпение, он ждал, когда закончится эта неуместная сцена: вдруг вспыхнувшее ожидание уже успело обернуться – ничем.
– Я просто замечала иногда, что волосы у нее вроде как влажные, когда она приходит из школы.
– Она купалась?
– Если бы мы наверное это знали, мы бы вам сказали.
Повисла пауза, потом капитан Голт сказал:
– Вы ни в чем не виноваты, Бриджит. Никому подобное даже и в голову никогда не придет.
– То незабудковое платье, в котором она была, да, сэр?
– Нет, не платье.
Летняя рубашка, сказала Хелоиз, и в полном молчании они снова пошли туда, где капитан нашел рубашку.
– Мы все время ей врали, – сказал капитан по дороге.
Хелоиз сперва не поняла этой его фразы. Потом она вспомнила, как они обнадеживали ее и давали ей обещания, зная, что навряд ли смогут эти обещания выполнить. Непослушание было единственным оружием, доступным ребенку, а обманывать они начале первыми.
– Она же знала, что я пойду с ней купаться когда угодно, – сказал капитан.
Кусок топляка, за который зацепилась та вещь, что нашел капитан, лежала на прежнем месте, смутно белея в темноте. Хенри поводил вокруг фонарем, пытаясь обнаружить еще что-нибудь, но безрезультатно.
Ошибка, которая отвела глаза капитану и его жене как будто обрела способность разрастаться и поглощать события и обстоятельства одно за другим – так что никто даже и не пытался увидеть в ней ошибку. Они, конечно, обыскали дом, надворные постройки сад, огород. Хотя ничто не указывало на то, что в такое позднее время девочка могла оказаться в лесу, сходили в лес и покричали ее там; потом отправились на кухню к О'Рейли. Оставалось одно только море. Отрицать обоснованность его претензий на главную роль в разыгравшейся трагедии казалось уже немыслимым и неуместным: факты настойчиво свидетельствовали именно в его пользу.
– Хенри, проводишь меня в Килоран? Попробуем взять у них лодку.
– Да, сэр, конечно.
– Оставь фонарь здесь.
Мужчины ушли. Несколько часов спустя, на каменистой косе, которая рассекала надвое длинный песчано-галечный пляж, между мелководными лагунами, где обычно ловили креветок, оставшиеся в Лахардане женщины нашли детскую сандалию.
* * *
Рыбаки из Килорана узнали о пропаже на заре, когда пришли с ночной рыбалки. Они сказали, что ничего со своих лодок ночью не видели и не слышали, но в их разговорах между собой как-то само собой всплыло старое местное суеверие. Акулы, которые сплываются на запах беды, дают добраться до берега разве что щепкам и прочей мелочи; рыбаки тоже оплакали смерть живого и здорового ребенка.
* * *
Прибрежные скалы уходили каждый день под воду и появлялись снова, окатанные волнами и обросшие ракушками, которые все более плотным слоем скрывали то, что когда-то было поверхностью камня; вот так же время вылепило из кажимостей – истину. День уходил за днем, складываясь в недели, и ни в один из них гладкая, основанная на ложном допущении поверхность ничем не была потревожена. Погода стояла чудесная, летняя, и ни знаком, ни намеком не давала понять, что люди поверили в обманку. Непарная сандалия, обнаруженная среди камней, выросла в набухший водой образ смерти; и так же, как в Килоране звуки женского поминального плача на причале означали смерть от воды, в Лахардане смерть от воды поминали молчанием.
Капитан Голт больше не просиживал ночи напролет у окошка в верхнем этаже, он уходил к обрыву и смотрел в пустынное темное море, проклиная себя, проклиная собственных предков, которым деньги ударили в голову, вот они и решили построить дом на пустынном морском берегу. Иногда безымянный пес О'Рейли набирался смелости и приходил постоять с ним рядом, опустив голову, так, словно чувствовал грызущую капитана тоску и сопереживал ей. Капитан его не прогонял.
Что здесь, что в доме всякое воспоминание означало печаль, а мысль не несла утешения. Им не достало времени, чтобы выгравировать ее инициалы на синем чемоданчике, но разве не было у них отныне времени хоть отбавляй, разве оно не тянулось бесконечно и каждый новый день с идущей за ним длинной и тягостной ночью разве не весил ничуть не меньше века?
«Девочка ты моя! – шептал капитан, глядя, как занимается очередная заря. – Девочка моя, прости меня, пожалуйста».
* * *
Пытка Хелоиз была разнообразней. Не желающие оставаться в прошлом, вульгарнейшим образом напоминающие о себе в самый разгар страдания, счастливые годы замужества казались ей теперь верхом эгоизма. Во всем доме не было ни единой комнаты, в которую она когда-то не заходила невестой и где бы не витали самые желанные еще недавно воспоминания: о граммофонной мелодии, под которую они с Эверардом танцевали, и его руки так легко лежали на ее талии, о ленивом тиканье часов в гостиной, где они читали у камина, подвинув к огню диван с высокой спинкой, а на решетке трещали поленья. Он вернулся с войны разочарованный, но зато, по крайней мере, живой. Ребенок рос; Лахардан давал средства к существованию, он же диктовал и стиль жизни. И все же, если бы Эверард женился на другой женщине, безжалостная цепочка причин и следствий даже и не начала бы разворачиваться – от этой мысли спрятаться было попросту невозможно.
– Нет-нет, – принимался возражать он, пытаясь переадресовать вину за случившееся кому-то другому. – Приди они еще раз, я бы целился наверняка.
И они оба еще раз переживали то утро, когда во дворе лежали две отравленные овчарки, холодные на холодных камнях. И снова Хенри разравнивал граблями камушки, там, где на гальке остались пятна крови.
«Что еще мы можем объяснить?» – шептала Хелоиз, но чувство вины не утихало – она слишком многого не успела объяснить дочери.
* * *
– Я вот и думаю, а теперь-то они станут уезжать или нет? – задалась вопросом Бриджит, когда, по прошествии достаточно большого отрезка времени, приготовления к отъезду так и не возобновились. – У меня такое чувство, что им теперь все равно, что с ними будет.
– А разве все не решено?
– Ну, теперь-то все по-другому.
– То есть хочешь сказать, позовут обратно Китти Терезу? А с ней и Ханну?
– Я ничего не хочу сказать, чего не знаю. Я только хочу сказать, что не удивлюсь, как бы дело ни обернулось.
Бриджит всегда верила в то, что рано или поздно, когда в стране немного утихнет и насчет раненого удастся договориться о какой-никакой компенсации, капитан и его жена вернутся в Лахардан. Ей хотелось верить, что именно так и будет, и то обстоятельство, что стадо никто не собирался продавать, служило ей решающим аргументом.
– Да, наверное, ты права, – сказал Хенри. – Наверное, теперь они и в самом деле никуда не поедут.
* * *
Все необходимые формальности были улажены с возможным тщанием, так, как только позволяли обстоятельства. В поданном капитаном заявлении было практически невозможно отследить намек на какие бы то ни было чувства, но чиновник из регистрационного бюро, который приехал в Лахардан, чтобы его заверить, был очень тронут и всячески выражал свое сочувствие.
– Чего еще мы здесь ждем? – спросила Хелоиз после того, как он уехал. – Если и в самом деле правда то, во что верят рыбаки из Килорана, все кончено. А если они ошибаются, то для меня это такая жуть, что лучше просто ничего не знать. Если я в этом смысле сильно отличаюсь ото всех остальных матерей, если они бы на моем месте всю оставшуюся жизнь ползали по галечнику и между лагунами в надежде отыскать еще какую-нибудь ниточку или ленточку, которую они, может быть, вспомнят, значит, я действительно очень сильно от них отличаюсь. Если я бесчувственная, если я человек слабый и во мне живет страх, природы которого я не понимаю, значит, я и в самом деле бесчувственная. Но, при всем моем бессердечии, я не смогу однажды выглянуть в окно и увидеть, как белеют на пляже кости моего ребенка, – и понять все, что с ней случилось.
Горе связывало их, оно же и разъединяло. Один принимался говорить, другой едва его слушал. Каждый спешил повернуться спиной к бесполезному и ненужному сочувствию. И никакое предчувствие не помогло им в эту страшную пору – ни внезапное прозрение, ни голос во сне. Хелоиз уложила остатки багажа.
За прошедший мертвенно-тусклый отрезок времени она успела дать телеграмму в свой банк с просьбой перевести ее пакет акций «Рио Верде» в банк мужа, в Инниселу. Она сказала ему об этом, когда он собрался ехать к Алоизиусу Салливану, обговорить вновь открывшиеся обстоятельства.
– Господи, зачем же отсылать их нам именно сейчас? – удивленно воззрился на нее капитан. – В этакую даль, когда мы вот-вот уедем отсюда?
Хелоиз ничего ему на это не сказала. Вместо ответа она написала расписку, которая давала ему право получить их на руки вместо нее.
– Просто мне так захотелось, – сказала она, отдав ему бумагу.
Эта эксцентрическая выходка не давала капитану Голту покоя все то время, пока он выполнял поручение жены. Не окажется ли в конце концов, что шок от пережитого, все это безумие, оставит после себя след столь же кошмарный, как и сами события минувшего лета? Подвергнуть ценные бумаги, и безо всякой на то необходимости, риску почтовой доставки, а затем еще всем возможным неожиданностям обратного путешествия на тот самый остров, с которого они только что прибыли. Перераспределение пая можно было осуществить без какой бы то ни было передачи документов; одних только указаний Хелоиз уже было бы вполне достаточно. В письме, где банк выражал свое отношение к будущему железнодорожной компании, это было оговорено достаточно ясно.
В Инниселе его так и подмывало отдать обратно полученный увесистый конверт и попросить переслать его, со всеми возможными предосторожностями, на адрес отправителя; объяснить, что произошла ошибка, вполне простительная в сложившейся ситуации. Но он этого не сделал, он не вернулся в Лахардан с нелепым, на ходу придуманным объяснением случившегося. Вместо этого он вручил ей то, что получил в банке, вместе с наилучшими пожеланиями от Алоизиуса Салливана. Содержимое конверта было внимательнейшим образом изучено, но, в ответ на добрые пожелания от поверенного, он получил всего лишь кивок, так, словно они не представляли для нее ровным счетом никакого интереса, хотя Хелоиз всегда была как-то по-особенному привязана к Алоизиусу Салливану.
В тот вечер они могли бы пройтись вдвоем по дому, по саду с огородом, в поля. Но капитан Голт ничего такого ей не предложил и не пошел сам, как неизменно делал прежде. Яблони, пчелы в ульях, коровы, которые всегда были предметом его гордости, по-прежнему тянули его к себе, но жена значила гораздо больше. Если то, что ему показалось, соответствовало действительности, это была бы последняя, самая горькая капля.
Тихий и мрачный, он пил в одиночестве и пытался не думать о том, что во всем этом можно отследить ниспосланную свыше кару. Иначе с чего бы вдруг брат пошел на брата, и в одночасье этот глухой утолок превратился в преддверие ада? Он даже и не догадывался о том, что его страшные раздумья о тяготеющем над здешними местами проклятии имеют к истинному положению вещей столь же отдаленное отношение, как и ложная уверенность в причинах, по которым погибла дочь. Случай, а не гнев небес правил в то лето судьбой семьи Голтов.
* * *
В поезде Хелоиз молчала до самого Дублина. Она ненавидела проплывающие мимо окна поля и холмы, леса и рощи, молчаливые развалины так же сильно, как ненавидела оставшийся позади берег моря. Единственное, чего ей сейчас хотелось, – так это навсегда избавиться от пейзажей, которые когда-то приводили ее в восторг, от лиц, которые ей улыбались, и от голосов, которые звучали так по-дружески, так мягко. Снятая на время вилла в сассекском пригороде была отсюда недостаточно далеко; она уже не первый день думала об этом, но вслух не говорила. А теперь сказала.
Капитан выслушал ее. То обстоятельство, что жена, которую он тринадцать лет назад привез в Лахардан, теперь мечтала только о том, чтобы покинуть эти места, и ехать, ехать куда глаза глядят, все дальше и дальше, пока наконец какой-нибудь поезд не завезет их в такие места, где чужаки не вызывают ни пересудов, ни любопытства, – это он вполне мог понять и принять. Тихое семейное счастье в любезной сердцу Англии, которое когда-то рисовалось им обоим, теперь трудно было бы себе вообразить.
– Но сассекский адрес – единственный, который мы оставили, – сказал он просто потому, что должен был хоть что-то сказать.
Но ни Сассекс, ни тамошние пригороды с виллами, ни английская тишь да гладь больше его не беспокоили. А беспокоило его лицо жены, которое за последние дни сделалось совсем прозрачным, и то, как она смотрела на пейзаж за окном – остановившимся взглядом, и ее неживой голос, и руки, сложенные, как у статуи. Но даже и при всем этом он вдруг почувствовал некоторое облегчение. Телеграмма в банк не была результатом внезапного помрачения рассудка: Хелоиз всего лишь хотела как можно плотнее закрыть дверь в прошлое. Те бумаги, которые он привез ей из Инниселы и которые ехали теперь в багаже, должны были доставить им средства к существованию, где бы ни закончилось их путешествие.
– Куда угодно, – сказала она. – Куда угодно.
Из Дублина, с вокзала Кингз Бридж, капитан Голт отправил телеграмму, отменяющую договор об аренде дома в Англии. Когда он поставил последнюю точку, они сами стали островом: остров с багажом.
– Мы с тобой заодно, – сказал он; хрупкость душевного равновесия Хелоиз по-прежнему беспокоила его, но теперь у них был общий настрой, связанный с природой нынешнего бегства, с желанием затеряться, сбить память со следа. Он хотел успокоить ее, поэтому так и сказал.
Хелоиз не ответила, но потом, когда они ехали через город в порт, сказала:
– Странно, что мы с тобой ничуть не расстраиваемся из-за отъезда. А когда-то одна только мысль об этом казалось невыносимой.
– Действительно странно.
Таким вот образом, в четверг двадцать второго сентября 1921 года, капитан Голт и его жена покинули свой дом и, сами того не зная, еще и собственного ребенка. В Англии перед ними промелькнула безликая череда городов и сельских пейзажей. Все эти церковные шпили и деревенские дома, последние цветы душистого горошка в крохотных палисадниках, плети вьющейся по старательно натянутым проволочкам фасоли, прощальные фейерверки герани могли им встретиться и в какой-нибудь другой стране. Когда началась Франция, она и была – какая-то другая страна, хотя они и провели там несколько дней. Мы уехали за границу, написал капитан Голт своему поверенному в Инниселе, – одно из трех предложений на листе гостиничной почтовой бумаги.
3
Прежде чем закрыть мебель старыми простынями, которые она никогда даже и не думала выбрасывать, Бриджит как следует ее отполировала. Она вымыла окна перед тем, как Хенри забил их досками. Она отскребла ступеньки заднего крыльца, с которого сняли дорожку, и плитку на полу собачьей дорожки. Она упаковала стеганые и тканые одеяла.
Утром, когда в сумеречном доме уже не осталось никаких дел, за исключением тех, что в буфетной и на кухне, где по-прежнему царил свет солнца, Хенри прошелся с фонарем по верхним комнатам. Воздух почему-то уже успел застояться. Вечером дом нужно будет закрыть.
Настроение у обоих было подавленное. Каждый день, с тех пор как уехали Голты, они ждали, что вот-вот придет из деревни рыбак и скажет: сегодня они что-то зацепили сетью или веслом. Но никто не шел. А если придет, захотят ли Голты об этом знать? Бриджит никак не могла решить, а Хенри только качал головой, не в силах ответить на этот ее вопрос.
В прихожей он снял с лампы абажур и прикрутил фитилек. В молочной кладовке вымыл емкости, которые рано утром привез с маслобойни.
– Пойду починю ограду! – крикнул он Бриджит, когда та появилась на заднем крыльце, и увидел, что она ему кивнула издалека.
Он подумал, а как бы он сам чувствовал себя, если бы вернулся сейчас в дом и сел ужинать, зная, что это в последний раз. Она готовила на ужин кусок копченой свиной грудинки.
Овчарки выскочили во двор, едва Хенри свистнул, и Бриджит смотрела, как они толкутся у него за спиной, когда он зашагал прочь.
– Все будет в порядке, – сказала она погромче, так, чтобы он услышал.
– Вот и мне кажется, что все устаканится, – сказал он.
У Бриджит не было ощущения, что она молилась зря. Она молилась, и этого вполне достаточно, а то, что Он ее не услышал, на то Божья воля. Все будет так, как назначено; и не смириться с этим нельзя, потому что по-другому все равно никак не будет. Когда-нибудь, в самый неожиданный момент, к сторожке придет старая Ханна, а может быть, даже и Китти Тереза, хотя она теперь и живет бог знает где. Хотя, с другой стороны, навряд ли Китти Тереза захочет к ним сюда наведаться. После всего, что Бриджит ей наговорила перед отъездом, нет, это, пожалуй, для нее будет слишком.
Больше всего будет недоставать этой большой старой кухни, подумала Бриджит, когда зашла туда в последний раз. Она, конечно, все равно будет приходить на двор, кормить кур, до тех пор, пока здесь будут куры; да и еще какая-никакая работа на дворе обязательно найдется. Когда только начала ходить на эту кухню с матерью, она, помнится, играла во дворе, а если шел дождь, сидела под навесом в летней кухне, раздувала торф колесными мехами и смотрела, как летят искры.
Она отчистила в раковине эмалированную кастрюлю – знакомый, вот уже который год, узор из трещинок на эмали. Она сполоснула ее, вытерла, поставила на место и подумала, интересно, настанет такой день, когда эта кастрюля снова пойдет в ход, и тут вдруг в ней поднялась внезапная волна хорошего настроения, да, конечно, обязательно будет, время лечит, и они непременно вернутся назад. Она взяла кусок грудинки и пошла к плите.
* * *
Увидев черное пальто, Хенри поначалу его не узнал. Когда-то он часто видел его на хозяйке, но это было много лет назад, и он успел забыть. А это еще откуда тут взялось, подумал он, – и больше ничего. Когда он в последний раз приходил сюда за камнем, чтобы заделать брешь в ограде О'Рейлева пастбища, здесь в углу ничего, кроме бурьяна, не было. Он постоял, глядя на пальто, не сделав ни шагу дальше, в развалины, и собакам тоже велел остановиться. Потом медленно прикурил сигарету.
Камни, за которыми он сюда, собственно, и шел, лежали там же, где обычно, под стенами, из которых выпали, в крапиве. Он вспомнил, как за этим столом, от которого теперь остались только ножки и одна доска, сидел Падди Линдон. Крапива вокруг стола была вытоптана, и в угол, где лежало пальто, тоже вела тропинка. Еще там лежали две соломенные рыбные корзины, а в них обсиженные мухами огрызки яблок.
Он пытался найти во всем этом смысл, а когда перед ним забрезжило некое подобие смысла, ему совсем расхотелось подходить ближе. Одна из овчарок заскулила, и он велел ей заткнуться. Ему не хотелось поднимать пальто и смотреть, что там под ним лежит, но в конце концов он именно так и сделал.
* * *
Во дворе отрывисто тявкнула собака, и Бриджит поняла, что вернулся Хенри. Эта псина тявкала всякий раз, когда входила во двор, и Хенри даже пытался ее от этого отучить, но безрезультатно. Она подвинула на самый жар на плите сковороду с картошкой и ошпарила кипятком порубленную капусту. Она разложила на столе ножи и вилки и только после этого услышала на дорожке шаги Хенри. Когда она оглянулась от плиты, он стоял в дверях. В руках у него был какой-то узел.
– А это еще что такое? – спросила она, а он даже и не стал ей отвечать, а просто шагнул в кухню.
* * *
Всю обратную дорогу он торопился как мог, спешил разделить ответственность за то, что понял, один, в лесу, и что до сих пор никак не укладывалось у него в голове. Разве полная неподвижность ноши не была неподвижностью смерти? Раз за разом он клал ее на землю, чтобы глянуть еще раз, и даже пытался пальцами прикрыть глаза, которые смотрели на него снизу вверх, потому что как, спрашивается, в таком сыром и промозглом месте, да еще по прошествии такого количества времени, может сохраниться какая-то жизнь?
На кухне запах тушеной грудинки пробился сквозь никак не желавшее его отпускать замешательство – так же, как реальность выстраивает по порядку фрагменты сна. На буфете звонко тикали часы, над сковородкой поднимался пар.
– Матерь Божья! – заголосила Бриджит. – Ой, Матерь Божья!
* * *
Губы у девочки были перепачканы ежевичным соком. Вид у нее был совершенно больной, щеки ввалились, под глазами темные круги, волосы свалявшиеся, как у бродяги-лудильщика. Хенри, как мог, завернул ее в старое материнское пальто. Очень грязное пальто.
Наконец Хенри начал говорить. Он сказал, что пошел за камнями к хибаре Падди Линдона. На лице у него, как обычно, чувств не выражалось никаких, даже когда он говорил. «Ветчина и то, пожалуй, поживее будет», – как-то раз сказал отец Бриджит о лице Хенри.
– Царица Небесная! – прошептала Бриджит и перекрестилась. – Матушка-заступница!
Хенри медленно дошел до стула. Девочка была совершенно истощена и так слаба, что, казалось, жизни просто не за что в ней было зацепиться – эти невысказанные мысли теснились у Бриджит в голове, так же, как чуть раньше в голове у Хенри, и точно так же привели ее в полное смятение. Как так могло получиться, что она спаслась из морской пучины? Откуда она вообще здесь взялась? Бриджит села, чтобы унять вдруг возникшую в коленях слабость. Она попыталась сосчитать, сколько же дней прошло, но все время сбивалась со счета. Казалось, целая вечность – с той ночи на пляже и до того дня, когда уехали Голты.
– Она взяла с собой из дому еды, – сказал Хенри. – Наверное, жила все это время на бутербродах с сахаром. И, слава богу, там возле самого дома есть вода.
– Она ведь никогда не жила в лесу, а, Хенри?
Каждое утро Бриджит брала с собой из сторожки на кухню четки и клала на полку над плитой. Она отодвинулась от стола, встала, отыскала их и принялась перебирать, не ради молитвы, а просто для того, чтобы что-то было в руках.
– Она сбежала из дому, – сказал Хенри.
– Ой, ты, бедная моя…
– А теперь боится того, что натворила.
– И как тебе такое только в голову пришло, а, Люси?
Собственный голос показался Бриджит на удивление дурацким, и, услышав его как будто со стороны, она вдруг испытала чувство стыда за сказанную глупость. Разве не ее саму следует винить в том, что все поверили в историю о морском купании? Девочка ведь каждый божий день играла в какие-то свои игры в лощине и выше по склону, в лесу, – почему она никому не напомнила об этом? Почему она никому не сказала, что все эти рыбацкие байки – чушь, да и только?
– Что на тебя такое нашло, а, Люси?
С коленкой у нее совсем плохо дело, сказал Хенри. Когда они вошли во двор, она хотела было идти сама, но он ее не отпустил. Когда у тебя колено в таком состоянии, кто знает, чем это может кончиться. Может, оно там внутри совсем разбито, кто знает. Он сказал, что съездит за доктором Карни.
– Может, отнести ее пока наверх?
Он не скажет больше ни единого слова, подумала про себя Бриджит, пока этот заросший грязью ребенок не окажется наверху. До этого момента из него уже ничего не удастся выжать, зато потом он все выложит: как он на нее наткнулся и что она ему сказала, если она вообще что-нибудь ему успела сказать. Девочка была такая тихая, что казалось – она вообще больше никогда не произнесет ни звука.
– Погоди, я согрею пару кувшинов воды.
Бриджит положила четки на каминную полку и переставила на жар уже вскипевший чайник. Из чайника едва ли не в ту же минуту повалил пар и полетели брызги. Капитан, хозяйка, Хенри – все бродят взад-вперед по пляжу и роются в гальке, идиоты чертовы, а она сама и того хуже, все испортила, что только могла. Как будто в яркой вспышке света, Бриджит увидела их всех совсем другими глазами.
– Есть хочешь, Люси? Ты же чуть с голоду не померла, да?
Люси покачала головой. Хенри тоже присел; бурая шляпа сдвинута чуть на лоб, как будто ее задело веткой в лесу, а потом, опустив свою ношу на стул, Хенри просто забыл ее поправить.
– Пресвятая Дева, помоги ей, – прошептала Бриджит и почувствовала кожей, как текут у нее из глаз теплые слезы: прежде, чем успела понять, что плачет, прежде, чем успела понять, что винить тут некого и не в чем. – Слава тебе господи, – шепнула она и вдруг обняла Люси за исхудавшие плечики. – Слава тебе господи.
– Теперь все будет хорошо, Люси, – сказал Хенри.
Бриджит налила кипятку в две большие бутыли.
Глаза у девочки были какие-то потухшие. Как будто ей было больно, но боль висела привычным тусклым фоном.
– Тебе плохо, Люси? Нога болит?
В глазах у девочки шевельнулось что-то похожее на отрицание, но ответа так и не последовало, ни звука, ни жеста. Хенри встал и поднял на руки ее послушное вялое тельце. Наверху Бриджит зажгла две лампы и держала их, пока он укладывал девочку на кровать, с которой неделю назад сняли одеяла и простыни.
– Ты там подожди, пока к тебе не выйдет сам доктор Карни, – проинструктировала Хенри Бриджит. – И быстрей вези его сюда. Возьми таратайку, пешком не ходи. А тут я теперь сама управлюсь.
Она порылась в бельевом шкафу на лестничной площадке и отыскала ночную рубашку.
– Вот мы сейчас с тобой искупаемся, – сказала она, постелив постель так, чтобы по возможности не беспокоить лежащую на кровати худую покалеченную фигурку.
Но с ванной все равно придется повременить до тех пор, пока не придет доктор, а потому она пошла в ванную, налила там горячей воды в таз и принесла таз обратно в спальню. Снаружи послышался стук, и она решила, что Хенри пришло в голову снять доски с заколоченного окна детской спальни, прежде чем ехать за доктором Карни, и вот теперь он приставил к стене лестницу и выдирает гвозди. Ему, конечно, виднее, на что сейчас лучше тратить время. Она разозлилась, и злость сама была – как облегчение.
– Может, тебе яичко сварить, когда искупаешься? Всмятку, в стаканчике, а, Люси?
Люси снова покачала головой. Судя по тому, как выглядело ее колено, без перелома там не обошлось: распухшее, иссиня-черное, размером с мяч. И нога ниже колена, похоже, совсем вышла из строя и висела, как неживая.
– Давай-ка я тебе температуру смерю, – сказала Бриджит.
Градусник где-то в доме был, вот только она никак не могла сообразить, где именно, если его вообще не увезли с собой. Придется и с этим дожидаться доктора Карни.
– Когда он приедет, ты у нас будешь чистенькая и хорошенькая.
Девочка была грязнее некуда – руки, ноги, волосы как пакля, лицо и руки все в царапинах. Ребра были туго обтянуты кожей, живот совсем запал. Ей всегда нравилось, если сварить яйцо всмятку, размешать его в чашке и накрошить туда тост.
– Ну, может, после доктора аппетит к тебе вернется.
Вода в тазу сразу стала черной. Бриджит вылила ее в ванну и набрала таз снова. О чем он таком говорил, какие бутерброды с сахаром? Тот дом давно уже обвалился. Интересно, а раньше она тоже туда ходила? Это что ей, игра такая на ум пришла, остаться там жить навсегда просто потому, что ей не хотелось отсюда уезжать? И только из-за такой вот малости все мучения, вся эта жуть, страшней которой за всю жизнь, наверное, не придумаешь? Надо было сказать ему, чтобы отправил телеграмму на тот адрес, что они оставили. Но тогда ему пришлось бы заезжать в сторожку за бумагой, и он бы застрял там еще бог знает насколько, и оставалось только надеяться, что ему самому такая мысль в голову не придет.
– Мама с папой уехали, – сказала Бриджит. – Но теперь-то они точно скоро приедут назад.
Она положила одну бутылку на середину кровати, чтобы согреть холодные простыни, а другую – в ноги. Она откинула оконную щеколду и слегка приспустила верхнюю раму. Часть досок Хенри отодрал, но несколько штук осталось.
– Вот уже и доктор скоро приедет, – сказала она, потому что не знала, что еще сказать.
* * *
– Так все и было, чего тебе еще. – Внизу в прихожей Хенри мотнул головой в сторону спальни, с окошка которой он снял доски. – Что она тебе еще может рассказать?
– Что значит, чего тебе еще? Она же, считай, с того света пешком пришла!
Она бы пешком и шага не сделала, сказал Хенри. Она и так прошла больше, чем можно себе представить, пока добралась до того места, где он ее нашел. А если бы он не озаботился тем, чтобы починить то место в стене, через которое опять начали перебираться овцы, он бы и вовсе ее не нашел.