Текст книги "Аккордеоновые крылья (сборник)"
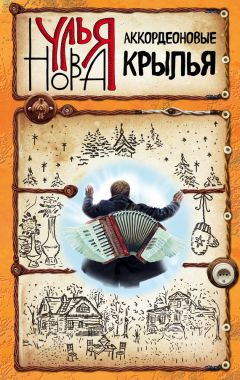
Автор книги: Улья Нова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
В предпоследний день курса Ариша снова не нашла выключатель, как всегда замешкалась в прихожей, разыскивая сапоги среди завала чужой обуви, отплясывающей в полумраке на занозистом паркете залихватскую лезгинку. Как всегда, после игл она едва держалась на ногах, чувствовала себя отчаянно уставшей, но в то же время была освобожденной, преодолевшей уготованные ей муки и от этого почти счастливой. В последние дни ни одна самопроизвольная слезинка не выкатилась из ее глаз. В подтверждение тому тональный крем на ее щеках лежал как на картинке: заглянув в мутное зеркало, она решила не пудриться перед выходом.
Он неслышно возник в коридоре, пригладил волосы двумя руками, включил свет, привалился плечом к стене и насупленно наблюдал, как она натягивает и застегивает сначала один сапог, потом второй.
– Остался у нас с тобой всего один день. И потом все, разлука нам предстоит. И я ведь буду по тебе сильно скучать, – тихим проникновенным баском шутил он. – Так уж и быть, поставлю напоследок двадцать пять игл. Всего-навсего. Что для тебя теперь двадцать пять игл? Ты уж позволь старику такой прощальный привет, закрепляющий эффект курса. Полежишь с ними минут десять, а дальше – все как ты мечтаешь, милая девочка. Поедем с тобой кататься по набережной и курить по очереди трубку Сталина. Ты была послушной последние дни. Ты заслужила, я тебя слегка побалую.
Ариша расчесывает волосы, украдкой наблюдая его в мутном зеркале. Уперев кулак в бок, лениво и барственно, он рассказывает про Сталина. Всякие небылицы, скорее всего вычитанные в дешевых развлекательных газетках. Душещипательные факты, производящие впечатление и отнимающие на пару секунд покой у обывателя. О том, как Сталин бросился в могилу, когда в землю опустили гроб с его первой женой Като. Они прожили вместе всего один год. Но, по-видимому, это была любовь всей его жизни. Во время ее похорон он сказал, что холодный камень навсегда вошел в его сердце, и с тех пор он утратил сочувствие к людям.
– Видишь, милая девочка, случается иногда любовь. Даже с таким зверем, как Сталин… Эх, его бы сюда, под мои иглы, – самодовольно бормочет он. – Я бы его тут восстановил, вернул к жизни. Курса за три-четыре изъяли бы мы этот холодный камень из его сердца. Снова смог бы он у меня полюбить и людей, и женщин… И ты еще полюбишь по-настоящему. И тебя еще ох как полюбят всякие эти гибкие мальчики и бесполезные мужчинки…
Потом была среда, самый конец апреля. Снег растаял, земля успела слегка просохнуть и будто бы сжалась, затаилась в ожидании долгожданного тепла, чтобы насытиться и буйно пробиться в весну. Ариша вся была нетерпение и трепет, она почти бежала через дворы. Старательно завитые волосы пружинили на плечах, а полы серого пальто были распахнуты, как крылья. Щеки ее пылали, от этого хлесткий апрельский сквозняк казался теплым, совсем весенним. Спеша, она зачем-то вспоминала свои протестные, мелочные измены последних лет. Все опустошительные и неловкие соития, направленные на самоутверждение, на утешение, приносившие лишь горечь и злобу. Вдруг они пронеслись в ее сознании не как черно-белый трагический фильм, а будто какой-то необязательный рекламный ролик или незначительный фрагмент телесериала, демонстрируемый в дешевом придорожном кафе. Они впервые показались ей смехотворными, незначительными и эпизодическими, как детский браслетик из леденцов, купленный на юге, для кратковременного восторга: однодневная, неважная, проходная вещица. Никакого камня в горле. Никакой рыбной кости, впивающейся в сердце. Боль ушла начисто. И горечь рассеялась. Даже эпизод, совсем недавно выкручивавший все суставы от безграничного стыда, начисто утерял свою силу. Как обреченно она ползла по коридору в тот день. В сиреневых стрингах. В лаковых туфлях на шпильке. Как она ползла на коленях, понуро опустив голову, повиливая бедрами из стороны в сторону. Медленно и манерно, беспечно и бесчувственно. А мужчина, совершенно не важно, кто именно, стоял над ней в дверном проеме, наблюдая пошловатую и фальшивую игру. Как часовой и палач одновременно. И через несколько минут он уже тащил ее в ванну, окатывал ей лицо ледяной водой, швырял в нее одежду, выставляя вон из своей жизни, потому что был сыт по горло фальшью, пустотой и полнейшим отсутствием тепла.
На этот раз Ариша даже не замечает, как оказалась на третьем этаже, перед заученной наизусть зеленой железной дверью. Ни одышки, ни сердцебиения, душа легче перышка, настроение игривое, хочется флиртовать и петь, как когда-то давно, даже не верится, что такое еще возможно. Она застывает перед заветной дверью, превратившись в дрожь, вспомнив, как неделю назад он рассказывал, что Сталин обычно набивал трубку табаком из папирос. Потрошил папиросы, как людей, вытряхивал из них табак и потом курил его в своей трубке. Он всегда курил молчаливо и насупленно. Особенно если кто-нибудь рядом с нетерпением ждал ответа. Особенно когда решалась чья-нибудь судьба. Сталин замирал, затягивался, смаковал табачный вдох и тянул время, превращая человека этим своим молчаливым курением трубки в оторопь, в страх, превращая человека в отчаянье, в пустоту, в покорность.
Ариша звонит в дверь долго и настойчиво. Она звонит и ждет. Она звонит и представляет, как он сейчас снисходительно и неторопливо продвигается по коридору в прихожую. Пропахший кофе и сладковатым табаком, добродушный и утомленный, совершенно невозможный в ее прошлой и в ее будущей жизни. И от этого такой обжигающий. Ариша ждет, вся превратившись в нетерпение. Звонит еще раз, объясняя промедление тем, что он бормочет в мобильный, как сюда добраться. Ариша ждет, представляя, как это случится. Вечерняя набережная, его машина, саднящий и горький вдох, дым во рту. Она отчетливо чувствует густой наждак его щетины щекой. Она уже наизусть, заранее знает его руки и прекрасно представляет их ласки. Она снова звонит и ждет, звонит и ждет. Потом, нечаянно посмотрев на часы, Ариша узнает, что оказывается незаметно прошел час. До нее вдруг отчетливо, яснее ясного доходит, что он не откроет сегодня. Ее курс закончен. И теперь надо идти домой, надо скорее возвращаться в свою повседневную жизнь. И жить дальше. Из-за этого двадцать пять последних игл разом впиваются ей в душу. Ровно десять минут она усилием воли заставляет себя дышать, командуя его словами: «Ну, милая девочка, вдох. А теперь выдох. И плюй на все».
На негнущихся ногах, не различая дороги, она понуро бредет через нескончаемые, пахнущие тушенкой и ваксой дворы пятиэтажек. Затаившиеся подъезды, обклеенные объявлениями о съеме квартир, отрывные листки шуршат на ветру. В ближайшие несколько дней Ариша каждые пять минут будет заглядывать в телефон, проверяя, не пришла ли от него отрывистая и суховата смс с извинением. Или приглашение прийти на последний сеанс курса в какой-нибудь другой день. Она будет крутить телефон в руках, так и не решаясь позвонить ему, не считая это возможным. В ближайший месяц Арише будет казаться незначительным и неважным все, что с ней когда-либо произошло перед тридцатью тремя иглами, приколовшими к чужой супружеской кровати. И даже постижение науки слез покажется ей смехотворным. Пару раз как бы нечаянно, тихим затаившимся призраком она явится побродить в нескончаемые дворы возле его пятиэтажки. Ни на что не надеясь, обнимая себя руками, дрожа под плащиком, она будет заглядывать взором бездомной собаки в непроницаемые мутные окна, отражающие низкие, нависшие над крышами облака.
Целый год Ариша будет упорно ждать, что он все-таки сдержит обещание, что он когда-нибудь прокатит ее по набережной, и они будут курить трубку Сталина по очереди в его машине. А потом все это постепенно пройдет. Забудется. Отпустит. Однажды в супермаркете, выбирая бефстроганов к ужину, она неожиданно вспомнит только эти его слова, точнее, они сами собой отчетливо прозвучат в ее голове: «Постарайся найти того, кто превратит тебя в любовь, милая девочка».
Ариша будет послушной. Ариша будет прилежной. Она будет очень стараться.
Темнота
Темнота нависает, сгущается. Бродит по комнате, выплясывает, кружит. Темнота рисует пальцем над Витиной макушкой кружевные виньетки с черными завитушками. Не дает уснуть, отбивает чечетку каплями на комоде, мечется из конца в конец комнаты, скрестив тоненькие ломкие ручки на груди. Темнота прыгает и летает под потолком, вглядывается в лица, бледнеющие с черно-белых фотографий над его письменным столом. Темнота сворачивается клубочком вокруг карандашницы, а потом до рассвета сидит на широченном подоконнике, обхватив коленки руками, изредка отрывисто всхлипывая и со всей силы щелкая пальцем стекло.
Соседка снизу – старушенция с вечно трясущейся головой, будто она на каждом шагу норовит избавиться от войлочной шляпки со свалявшейся войлочной розой. Однажды она подошла к Вите во дворе и настойчиво прошептала: «Так и знай, мальчик: чего сильно задумаешь, то и будет. Чего пожелаешь всем сердцем, то и случится. Поэтому думай осторожней. И мечтай аккуратнее, чтобы потом тысячу раз не пожалеть об этом».
Произнося эти слова, она крепко держала Витю за запястье и вглядывалась водянистыми глазами в самое его нутро. Вспыхнув, растерявшись, Витя хотел заплакать, но потом со всей силы выдернул руку из цепкой старушечьей клешни, вырвался и убежал. Старушенция потом несколько раз жаловалась матери, настаивая на том, что ее сын – дикий и невоспитанный, поэтому за ним надо бы как следует приглядывать. И вообще быть с ним построже.
Все началось тем вечером, когда родители неожиданно заперлись в комнате и долго шипели друг на друга. Вите ничего не оставалось, как притаиться под столом в детской и тревожно вслушиваться, улавливая разрозненные клочки их разговора. Сиплый, тихий басок отца. Визгливый, слегка гнусавый голосок матери. Всхлипы. Отрывистые выкрики. Настойчивый стук ложки по батарее – снова разбудили эту вредную старушенцию снизу. Вязкая тишина, длившаяся не более пяти секунд, мгновенно прорастала недовольным шепотом, возобновляющимися перепалками. Через неделю появился маленький чернявый Илюша. Его привели в воскресенье, после полудня, замотанного в вязаный шарф, укутанного в синюю курточку, которая была велика на пару размеров. Два черных цыганских глазка с птичьей проворностью сновали по стенам, скользили по мебели, а ручки с тонкими длинными пальцами ухватили за хвост плюшевого кота и крепко прижали к груди.
Родители с какой-то незнакомой, особенной прилежностью объяснили появление Илюши отъездом его матери, «нашей» дальней родственницы, на север. Понимаешь, – говорили они наперебой, как-то медленно, слегка убаюкивая, – его мама уехала на север, далеко-далеко, туда, где всегда холодно и темно.
Илюша был малоподвижным, тихим и молчаливым. Он как будто слишком увлекся и никак не мог прервать игру «морская фигура, замри». Он замирал в кресле. Замирал за кухонным столом, никогда не болтал ногами на высоком незнакомом табурете. Но чаще всего Илюша замирал возле подоконника, положив голову на руки, без интереса вглядываясь в вечернюю улицу. Потом оказалось, что Илюша немой. Неожиданного и неуютного гостя разместили в детской, на купленной по случаю его прибытия деревянной кровати, из-за которой родители до полуночи двигали мебель, стараясь быть бойкими, не подавая вида, что оба озадачены и раздражены.
Теперь Витя должен был спокойно сносить, когда этот Илюша без спроса роется в шкафчике с игрушками. Теперь Витя должен был с доброжелательной улыбкой наблюдать за бездумными движениями узловатых пальцев гостя, отрывающих колеса от грузовика и наклейку – от гоночной машины.
Вечерами Витя теперь бродил вокруг дома, ощущая чужую влажную руку, крепко впившуюся в собственную ладонь, будто кто-то сплавил две руки так, что их никогда уже больше не удастся разъединить. Молча, без дела, они вдвоем маршировали в темноте, вокруг зловещей громады здания со множеством светящихся глаз. Он чуть тащил Илюшу за собой, спеша поскорее совершить положенные им десять обходов гуляния и вернуться домой. Он старался не замечать смешки играющих во дворе бывших своих приятелей, которые быстро во всем разобрались и начали дразнить его нянькой. Совсем скоро у Вити не осталось друзей во дворе, никто не хотел брать немого в компанию, впускать немого в свои игры. Скоро у Вити не осталось никого, кроме этого вечно молчащего задумчивого галчонка, который любит сидеть у окна, никогда не говорит «спасибо» и, забившись в уголок детской, пугливо глотает пирожное, целиком, давясь, кашляя до слез, боясь, что угощение отнимут. Витя почти ежедневно получал оплеухи от отца за нежелание учить язык рук, за очередное непонимание знаков, которые делал ему Илюша, внушавший все большее отвращение этой своей зловещей немотой, за которой пряталась пугающая неизвестность и, возможно, какая-то страшная и печальная тайна. По утрам немой подолгу замирал перед зеркалом в ванной, шмыгал носом, кашлял от зубной пасты. По вечерам, затаив дыхание, этот невыносимо скучный Илюша часами без движения сидел у окна, вглядываясь в синюю темноту двора. Иногда он неожиданно прыгал на постель и лежал, уткнувшись лицом в подушку, мыча что-то неразборчивое, тревожное, мучительное, так, что сразу очень хотелось убежать без оглядки.
Витя все чаще испытывал разрастающееся в груди, сводящее руки и ноги желание, чтобы незваный гость поскорее сгинул, исчез, растворился. Однажды он не сдержался и отвесил немому несколько подзатыльников перед телевизором, чтобы тот подвинулся, а не сидел, с громким хрустом уминая крекеры, осыпая все вокруг крошками, перегородив экран, словно находится в детской один. Возможно, в тот раз Витя был даже слишком жесток и поколотил гостя сильнее, чем надо бы. Немой тихо всхлипнул, насупился, направился в комнату родителей, но все же не нажаловался, может быть, просто не сумел подобрать нужные слова жестами своих бледных ладоней и плетением кружева длинными костлявыми пальцами.
Ночью можно было ненадолго забыть о существовании немого, не обращать внимания на его тихое сопение и редкие слабые стоны. Иногда под утро, пошатываясь, призраком передвигаясь по комнате, Илюша зачем-то подходил к Витиной кровати, касался холодной ладошкой плеча. Тряс. Белесое пятно лица, вздыхающее в фиалковом свете, одними губами беззвучно пыталось что-то сказать. Витя отворачивался. Сжимался. Накрывался с головой одеялом. Его потом долго трясло от ярости, он лежал, поджав ледяные ноги, изо всех сил сдерживая выкрик: «Отстань, ненавижу тебя!»
Болезнь дала о себе знать неожиданно: немой начал худеть. Проступили синие узоры сосудов на висках, настороженные черные глазенки заметно ввалились, вокруг них возникли серо-синие круги. Пухлые детские щечки утратили румянец, вскоре белесая кожа обтягивала худенькое утомленное личико. Нос, напротив, стал длинным и заострился, придавая мальчику еще большее сходство с галчонком. Воспаленные обкусанные губы стали тоньше и бледнее, как будто кто-то каждое утро капал на них растворителем, вскоре лишь узенькая белесая полоска обозначала рот. Хрупкие прозрачные ладошки с узловатыми пальцами теперь всегда были ледяными. Прозрачный и тусклый, Илюша подолгу неподвижно сидел в углу, широко распахнув глаза, словно пытался расслышать неуловимую мелодию, упрятанную в шум, помехи радио, гудки улицы, скрипы паркетин, голоса. Немой несколько раз сам пытался объяснить жестами, что он чувствует. Он жаловался на такую особую боль, как будто кто-то выпивает его через трубочку, оставляя во всем теле нарастающую слабость и головокружение. Вскоре его худоба стала бросаться в глаза соседям, прохожим. Люди на улице указывали пальцами:
– Смотри, какой слабенький мальчик, похож на птичку. Как же он, наверное, мало ест.
Та самая трясущаяся старушенция снизу при каждой встрече настоятельно рассказывала матери про малокровие у детей. В мутных глазах старухи читался упрек: «Своего-то кормишь, а чужого заморила». Мать оправдывалась, что аппетиту племянника можно позавидовать. И гемоглобин у него в норме. И анализ крови в порядке. А сама, смутившись и опечалившись, опускала глаза, спешила поскорее уйти.
Однажды отец, желая как-то отвлечь немого от этого упрямого вслушивания в тишину, подвел его к дверному проему, на котором отмечал рост своего сына и недавно стал отмечать рост племянника. Илюша, полюбивший этот ритуал, с готовностью прижался спиной и затылком к дверному косяку. Он старательно расправил острые плечики в байковой клетчатой рубашке. Почему-то отметка роста оказалась на два сантиметра ниже той, что сделана месяц назад. Так выяснилось, что мальчик не только худеет, но и медленно уменьшается, словно с каждым днем чуть-чуть растворяется и тает. После этого родители стали наблюдать и вскоре убедились: увы, ребенок теряет не только в весе, но и в росте. От утра к утру это становилось все более очевидным. Казалось, немой таял по ночам, не в силах поведать об ужасе и боли, обволакивающей его мокрым мышиным нейлоном.
Под утро Илюша все чаще приглушенно стонал, всхлипывал и ворочался до тех пор, пока в комнату не врывался кто-нибудь из взрослых. Включали свет, садились на краешек кровати, гладили страдальца по голове, читая слабость и страх в воспаленных детских глазах. Яркая вспышка света врывалась, раскалывая сон. Удар света парализовал, заставлял Витю натянуть одеяло на голову, сжаться и слушать голоса родителей, шелест, шаги у Илюшиной кровати. А еще иногда – всхлипывать и спросонья шептать на все лады: «Я тут ни при чем. Эта старушенция снизу все выдумала. Я не хотел. Он заболел сам».
Днем Илюшу пичкали витаминами, шалфеем, размятыми в чайной ложечке таблетками глюконата кальция, лимонами, творожной массой с кусочками фруктов, шоколадками в красочных фантиках, запеканками, булочками и куриным бульоном. Днем немого кутали, покупали ему игрушки, водили в цирк, в сосновый лес дышать смолистым воздухом. Потом повели по докторам, которые советовали каждый свое: один – заниматься оздоровительной физкультурой, другой – съездить в Коктебель, третий – пройти курс физиотерапии. Четвертый, именитый профессор детской больницы, порекомендовал полугодичное лечение новым японским препаратом «Най-ши», одна упаковка которого стоила половину зарплаты отца. Доктор из Филатовской больницы советовал удалить гланды и аденоиды. Частный врач настаивал на удалении только гланд, закаливании и контрастном душе. И, наконец, врач-ирландец с международным дипломом направлял на обследование в клинику английского центра здоровья семьи. Никто не мог объяснить, что стряслось с ребенком. Тем временем мальчик продолжал таять. Родители самостоятельно пришли к выводу, что это странное необъяснимое истощение происходит в основном по ночам. Они стали поить Илюшу перед сном медом, отваром валерианы, липовым цветом, смазывали ему пятки прополисом, прикладывали листки подорожника к вискам. Читали ему на ночь веселые, нестрашные сказки. Они по очереди сидели у кровати, держа Илюшу за руку, которая тем временем, не переставая, продолжала таять.
Однажды, когда болезнь уже перешла в тяжелую стадию, вся семья проснулась ночью от тягостного стона и приглушенных всхлипов, мечущихся по квартире обезумевшей стаей скворцов. Вытащив немого из постели, родители повели его, укутанного в плед, на кухню. Прижавшись к косяку кухонной двери, наблюдая родителей, суетящихся вокруг Илюши, в длинной майке и спортивных штанишках по колено, заменявших ему пижаму, Витя затих и наблюдал. Отец взял мать за руку и, указывая глазами на сонного, закутанного в серый шерстяной плед Илюшу, прошептал:
– Смотри, это происходит не просто ночью, это происходит в темноте.
Так догадались, что Илюша истощается, когда комнатка погружена во мрак или когда помещение слабо освещено. На следующий же день Витю перевели спать в гостиную, на неудобный диван с большими и жесткими валиками. В детской по настоянию матери два электрика прикрутили к потолку галогеновые лампы. С тех пор там всегда горел свет, отчего истощение мальчика немного замедлилось. Теперь по ночам, в сгустившейся темноте, в коридоре скрипели паркетины, за дверью гостиной шептались еле слышные голоса. Стоны, снова хождение, голосок матери, бодро и ласково читающий: «Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот, задом наперед».
Однажды, прислушавшись, Витя уловил сквозь плеск льющейся на кухне воды приглушенное шипение отца: «В конце концов, это же твои родственники. Я не виноват, что мальчик потерял родителей. Вот увидишь, он заразит нас всех. Я не хочу болеть, не хочу скитаться по больницам… Ты всегда думаешь о ком угодно, кроме меня». Упавшая на пол железная крышка или миска, прозвучавшая какой-то роковой литаврой. Тишина. Шаги. Шелест. Хлопнувшая входная дверь.
Утром Витя не спросил, почему отца нет дома. Не спросил и потом. Они боролись с болезнью немого вдвоем с матерью. Оказалось, что еще одним врагом была тень: прохладные тени деревьев, тени домов, даже тени людей вызывали мгновенное обострение. Илюша бледнел, словно тени высасывали его внутренности и силы, делая все тоньше, все тише. Вскоре Илюша был вынужден круглые сутки сидеть в детской при включенной лампе дневного света, прижимая худенькими ручками к груди плюшевого кота. Состояние мальчика стало критическим, мать за чаем все чаще говорила сама с собой о том, что больного может погубить одна-единственная темная ночь. «Одна ночь – и все будет кончено», – причитала мать, всхлипывая, ломая руки, наливая себе коньяк в маленькую граненую рюмку. От этого страх и тревога начинали метаться по телу Вити стаей осенних галок. Его внутренности чернели. Он снова начинал невыносимо сожалеть о том времени, когда Илюша только-только появился в их доме, такой тихий, испуганный, в синей клетчатой рубашке, часто замирающий по вечерам у окна. Как можно было на него сердиться? Если бы не болезнь, сейчас они, наверное, уже стали бы настоящими друзьями, играли в железную дорогу, строили во дворе песочную крепость и закапывали в тайники вокруг дома солдатиков, машинки и всякие другие свои сокровища. Теперь Витя отдал бы все игрушки и даже свою новую зимнюю куртку, лишь бы Илюша поправился и больше никогда не стонал по ночам. Но его сожаления и его дары ни на что не влияли. И лучше не становилось.
Прошел год. Илюши уже практически не было. Он превратился в маленький бледный призрак, в худенький обмылок-послед. Неподвижно лежал на кровати без покрывал, без одежды. Часами разглядывал пространство перед собой неморгающим, жалобным взором цвета утреннего тумана. Отец так и не вернулся, о нем постепенно совсем забыли за бесконечными хлопотами вокруг больного. Болезнь не отступала, она со временем лишь затаила дыхание, замедлила шаги, будто дожидаясь любой нечаянной, едва уловимой тени, которая сумеет ворваться и выпить все силы до последней.
В ту ночь ранней весны квартира неожиданно погрузилась во мрак, словно лопнул шар, наполненный черной ваксой, которая тут же растеклась повсюду. В первый момент Витя и мать, сидевшие у кровати Илюши, даже не поняли, что произошло. Они застыли и замерли в оторопи, в нарастающем ужасе. Опомнившись, мать подбежала к окну, раздвинула шторы и поняла, что окна всех соседних домов тоже темны. Дрожащими руками она чиркала спичкой, пыталась зажечь свечки в тяжелом чугунном канделябре. Пламя плясало от сквозняка, спички гасли в ее торопливых трясущихся руках. Крепко сжимая канделябр, мать подошла к кроватке Илюши, который за это время уменьшился почти вдвое и, тяжело дыша, исчезал на глазах.
Мать металась по комнате, распахнула окно, закричала темным ослепшим домам: «Помогите хоть кто-нибудь». Она рвала руками черные, чуть седеющие волосы, утирала слезы рукавом растянутого свитера, а Витя судорожно искал закатившийся куда-то фонарик, чтобы осветить комнату хоть немного. Крохотный, бессловесный, едва различимый контур ребенка с большими испуганными глазами тихо стонал, пожираемый темнотой. Фонарика нигде не оказалось. К утру Илюши не стало.
С тех пор темнота изменилась. Илюша незримо присутствовал в ней, вызывая страх и тревогу с приближением вечера, будто совсем скоро предстоит решающий разговор. Расплывчатые контуры предметов таили в себе молчаливый укор, смутное присутствие, неотделимое от мрака. В одну из ночей сытая темнота загустела и окутала комнату, прислушиваясь к приглушенным рыданьям Вити под одеялом. К утру он выткал пальцами, зовущими: «Илюша, Илюша!» – черный платок тончайшего, невесомого кружева. И положил его на подушку пустой кровати.
Со временем Витя заметил: утром темнота растворялась, поспешно подбирая оброненные тут и там лохмотья. Тонкую вуаль с пола, чулок, поникший на дверце комода, шаль, скомканную в углу, черное манто из-за двери, плащ, расхристанный по потолку, – еще недавно принадлежащие кому-то, кто теперь растворился во мраке.
Утром темнота уходила, воровато оглядываясь по сторонам, вжимая голову в воротник. Становилась все тоньше, все жиже, пока не начинала казаться смешной, пока не смешивалась с обрывками снов, ускользающими внутрь ночи.
Спустя сотни чашек полуночного чая, после вороха ночных газет, пробегаемых наискось, чтобы отвлечься от сожаления, после целого шкафа предрассветных книг, пролистанных от невозможности покоя, ускользающая от первых лучей темнота все же захватила и унесла с собой черный кружевной платок Витиной печали. С тех пор стало легче, не так горько и его бессонницы почти прошли.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































