Текст книги "Аккордеоновые крылья (сборник)"
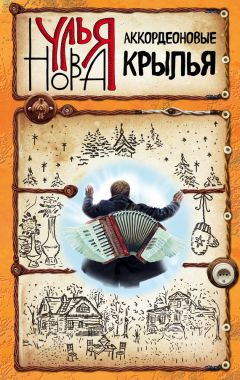
Автор книги: Улья Нова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
3
На окраине Черного города, в самом конце улицы, которую прозвали Горькой за повальную слабость жителей к водке, неподалеку от заброшенного военного завода стоял на пустыре пыльный от времени и выхлопов деревянный барак. Жили в нем в основном бывшие рабочие завода и никчемные тени, напоминавшие внешним видом и взглядом болезных дворняг.
Под обшарпанными балконами, под стыдливыми окнами кухонек барака, с которых однажды сняли простирнуть занавески, потом подрались, поссорились, умерли и больше никогда не повесили назад, шевелились на ветру пыльные листики вишен. Под окнами первого этажа с решетками от воров росли кусты шиповника, клены и рябины с серебристой листвой.
Раньше жили на Горькой улице мужики с добродушными голосами. Они играли на аккордеонах, рассказывали анекдоты и, споря о всякой ерунде, смешливо переходили на крик. Теперь по вечерам во дворе барака изредка растекалось трехголосое нестройное пение, это расходились по домам от столика домино, разбредались из подворотен подвыпившие старички (старичками здесь считались все, кому за пятьдесят). Мало кто доживал до преклонных лет в Черном городе. Виной тому была тяга к бутылке, ядовитые чернила, которыми делали наколки, грибы с серной слизью, пробивающиеся после дождей в лесочке неподалеку от завода. И еще Ленивая Рука, не снимавшая трубку телефона в местной амбулатории. Теперь аккордеоны молчали на антресолях. Там они лежали, обсыпанные нафталином от моли. И меха аккордеонов ссохлись. И музыка их навсегда умолкла. Зато моли здесь было предостаточно.
В то утро в бараке на окраине Черного города, в двухкомнатной квартирке на третьем этаже, проснулся молчаливый и насупленный Игорек. Настороженному взгляду его водянистых глаз можно было дать лет сорок. На самом деле Игорьку недавно исполнилось двадцать пять. Проснувшись, он лениво выбрался на балкон и стоял, недовольно щурясь на солнце, еще мутный и неповоротливый со сна. В его правой руке что-то поблескивало: чтобы успокоиться и обрести уверенность в новом дне, Игорек неторопливо крутил вокруг указательного пальца небольшой пистолет. Это заменяло ему чашечку крепкого кофе, газету, мягкое кресло, махровый халат, льняные на ощупь волосы любимой женщины и другие составляющие жизни, призванные дарить человеку равновесие. Каждый новый круг, описанный пистолетом, отбивал минуту нового дня. День обещал быть будним, пасмурным, как всегда. Но что-то сегодня тревожило Игорька больше обычного. Что-то проникло в его грудь вместе с прохладой июньского ветра и обожгло внутренности. Сердце всхлипнуло, рванулось в разные стороны, как стремящаяся на волю синица. А потом забилось сильнее и отчетливее, с нетерпеливым и яростным ожиданием.
В молодости мать Игорька, чернобровая Валентина, была первой красавицей Черного города. Случились у нее два мужа: первый – «паразит, кровопийца, пьянь подзаборная», а второй – заплутавший и осевший в этих местах татарин. Оба впоследствии ее бросили. Оба уехали от нее на поездах. От каждого осталось у Валентины на память обручальное кольцо из красного золота, долги, несколько сломанных ребер. И сын, уж от кого именно из них – пойди угадай.
В год окончательного разрыва со вторым мужем из квартиры Валентины днями и ночами доносилась гульба, песни, брань, звон стекла, женский визг. В тот год к Валентине приходили толпы со всего Черного города: забулдыги окраин, карманники из электричек, пьяницы и бывшие тюремщики. Иногда они приезжали на автобусе целой шайкой и не покидали квартиру неделю. Игорьку тогда только исполнилось шесть. Обычно он целыми днями скитался по улицам в байковой рубашке и брючках от чужой, заношенной пижамы. Одевали его добрые соседи. Бабушки во дворах вязали ему шарфы и варежки. Некоторые женщины украдкой совали Игорьку сверток под мышку. В старой газете оказывались штопанные на пятках носки, усеянные катышками свитера, застиранные на подмышках олимпийки, пахнущие ваксой и нафталином лыжные ботинки. Иногда Игорька кормила куриным супом добродушная медсестра из второго подъезда барака. А сочными антоновскими яблоками его угощал старик с трясущимися руками и головой. Они часто сидели вдвоем на скамейке возле подъезда и молчали, наблюдая, как лохматая собака старика обнюхивает землю под рябинами. В отличие от многих других старик никогда ни о чем Игорька не расспрашивал. Не выведывал, будто выкорчевывая признания из груди, как к нему относится мама, где она его укладывает спать, чем кормит и не бьет ли. Но потом трясущийся старик пропал. С какого-то дня он больше никогда не появлялся во дворе, на лавочке, в школьном саду. С его собакой теперь гуляла незнакомая тетка в зеленом дождевике и резиновых сапогах. Она сердилась и дергала за поводок, когда пес, завидев Игорька, бросался к нему, пронзительно визжа на весь двор и виляя хвостом.
В ту осень трубы заброшенного завода с каждым днем все нежнее звали Игорька в разрушенный цех с затопленной шахтой: «Иди сюда, Игорек! Иди скорее к нам! Со стороны школьного сада в заборе есть никому не известная щель. Мы ее приготовили давным-давно, специально для тебя. Ты туда пролезешь, ты худенький и гибкий. Мы тебя давно ждем, мы собрали для тебя щедрые дары – горсть сверкающих гаек и бронзовых штифтов, которыми можно заряжать рогатки и стрелять в галок. А еще мы припасли крошечные медные гаечки, которые так здорово низать на проволоку, будто бусины».
Все чаще ноги несли Игорька к узкому лазу в заборе со стороны школьного сада. Он часами топтался там один, кидал камешки в испещренный трещинами гипсовый фонтан, рвал одуванчики, пачкая руки и щеки их искристой желтой пыльцой. Каждый раз что-нибудь останавливало, отвлекало или отзывало его, мешая пролезть на заброшенную, заросшую лопухами и пижмой территорию военного завода. То пролетающий мимо вертолет, за которым надо было срочно бежать. То зов кого-нибудь из дворовых мальчишек, которому надо было подчиниться. Мельтешащая на дальнем конце парка собачка старика, которую хотелось поскорее погладить по широкому умному лбу. А еще та девочка из соседнего подъезда, иногда она выходила погулять около дома под присмотром своей бабушки. Старуха усаживалась на раскладной стул и тут же утыкалась в газету или в вязание. Вскоре тишь дворов, молчание окраинных переулков нарушалось мерными ударами прыгалок об асфальт. Игорек, как зачарованный, шел на этот веселый звук, чтобы понаблюдать издали, как рассыпаются при прыжках медовые локоны девочки, озаренные солнцем. Чтобы полюбоваться, как трепещет на ветру шелковая ткань ее пышной зеленой юбки с оборками. И помечтать, что однажды он подойдет к этой девочке, возьмет за руку и поведет куда-нибудь за собой по Черному городу, мимо окраинных бараков, сараев и заброшенных обувных мастерских.
В тот год поздней осенью Валентина получила от одного из своих ухажеров пулю в бедро. Игорька забрала к себе тетя Тася. Сначала был уговор, что мальчик поживет с теткой месяц больницы, потом пришлось оставить его еще на неделю, чтобы дать выписавшейся Валентине возможность кое-как одолеть хромоту, одиночество и разрывающую ее грудь безбрежную тоску от убыли красоты. Но смириться со случившимся Валентина никогда не сумела. И остался Игорек в деревне, вырос в ста километрах от Черного города, мать о нем даже не вспоминала.
И жила хромая Валентина одна, в мутном, беспробудном полусне. А потом, недавно, поздним вечером, послышался подслеповатой Валентине отрывистый звонок в дверь. Хромая, охая, придерживаясь за стены, кое-как проковыляла она в прихожую. Подумала, что это за ней пришла смерть. Но, по недавней привычке безразличия к жизни, не заглядывая в глазок, все же открыла. Незнакомый, высоченный и бледный человек, запоминающийся только неровной челкой черных волос, переминался на пороге с дорожной сумкой в руке. Он протянул седенькой Валентине банку маринованных помидоров, чуть брезгливо приобнял ее за плечи и с тех пор стал жить в комнатке, которая до его приезда была завалена банками, бутылками и чемоданами с разнообразным отжившим хламом. За все это время они разговаривали от силы три раза и виделись редко. Целыми днями и многие ночи напролет Игорек пропадал неизвестно где и лишь изредка объявлялся дома. Частенько он исчезал на три недели. Тогда у Валентины внутри начинали цепными псами выть опасения, голодными галками на все лады галдели нехорошие предчувствия. Что он делает, чем занимается, где его носит, она не знала. С уверенностью Валентина могла сказать о сыне только то, что он не пьет. При любой возможности она с гордостью напоминала соседкам и старушкам Горькой улицы: «Игорек-то мой в рот не берет. Ни вот столечко», – и со знанием дела показывала объем стопочки указательным и большим пальцами с полувековой грязью под слоистыми ногтями.
4
Марина нехотя осматривается, возвращаясь в явь из своих грез. Она по-прежнему на лестнице возле заколоченного подъезда. Толпа работяг рассеялась, все звуки притихли. Лишь изредка то тут, то там мелькают кроткие торопливые тени, слышатся шаркающие вдаль шаги. Ни рева мотоциклов, ни шума шоссе. Настырный и колкий ветер по-зимнему прохватывает, прожигает дыхание. Марина старается немного одернуть мини, натягивает футболку, чтобы цепкие лапы сквозняка не леденили поясницу. Она обнимает себя за плечи, но теплее не становится. Окна мраморного здания пялятся в ночь темными недоверчивыми глазницами. Никто не входит и не выходит из соседних подъездов. Галка срывается с карниза, хлопает крыльями. Вдали как будто тихо трубит горн. Тишина. Полночь.
Неожиданно Марину пронзает ярко-синяя молния. В кромешной тьме она начинает судорожно ощупывать ступеньку, на которой сидит. Вот сверток Резы. Но где же пакет с леденцами? Он лежал здесь. С малиновыми и ежевичными леденцами. Марина ощупывает все ступеньки лестницы, одну за другой. Ее плечи, руки, колени начинают нетерпеливо дрожать. Марина упрямо, неистово ощупывает ступеньки, всхлипывая, досадливо затягивая в узел растрепавшие по лицу волосы, расчесывая до крови саднящий на лбу прыщик. Она ломает ноготь, вся сотрясаясь от холода. Но пакетика с ее леденцами нигде нет.
Личико Марины обветренное и распухшее. Она наревелась, немного успокоилась и теперь сидит, изо всех сил сжимая коленями лодочку ладоней, медленно покачивается из стороны в сторону и не представляет, что делать дальше. У нее нет карты города, нет телефона, нет ее леденцов. Видимо, кто-то из ссутуленных работяг, заметив в свете фар блеск карнавальных оберток, украдкой схватил пакетик, упрятал его за пазуху. И унес, пока она грезила о предстоящей ночи любви. Теперь в левом виске Марины кружит крошечная серебряная мушка, как всегда оповещающая, что скоро она утратит способность угадывать, восхищаться и шутить. Скоро она начнет медленно испаряться, превращаясь в покорную и безликую прозрачность. Уже-уже, прямо сейчас начинается погружение в зыбкий мир, с властелином которого предстоит встретиться минут через двадцать, перед самым обмороком.
Не зная, что делать, как справиться, Марина хватает сверток Резы. Бездумно и яростно, будто от этого зависит вся ее жизнь, вытряхивает оттуда небольшую картонную коробку. Марина ожидает обнаружить в ней все, что угодно. Нетерпеливо, как уж придется, разрывает, растрепывает ее пальцами и зубами. Лучше бы там оказались пряники с повидлом. Или хотя бы ссохшиеся столетние финики. Но в алчном, заледенелом от холода кулачке Марины оказывается кружево. Мягкое, тонкое, почти невесомое. Мимо проезжает военный фургон, освещая тусклыми фарами мусорные баки, позволяя мельком угадать стройку на противоположной стороне улицы. В мутноватом свете Марина силится разглядеть находку. У нее в руках – кружевное бордовое платье с рукавами из парчи. Сплошные дырочки, паутинки, легкость. Изящное и дразнящее платье на один час, чтобы вскоре небрежным движением сбросить его и безвозвратно забыть где-нибудь на полу в ванной. Это подарок, ведь они с Резой полгода как неразлучны. Ведь между ними уже полгода пульсирует и горит, возможно, самая сильная любовь на планете. Фургон исчезает за поворотом. Повсюду – кромешная тьма, прорезаемая, будто ржавым зазубренным ножом, истошными воплями кошек. Озираясь по сторонам, всхлипывая и дрожа, Марина начинает раздеваться. Маленькая, в атласном нижнем белье, она становится мелкой медной дрожью, продолжая с каждой секундой скатываться в серую пропасть полуобморока. И ей необходимо что-нибудь сладкое – сейчас же, сию же минуту.
Кружевное платье облегает как вторая кожа, доходит почти до колен и совсем не греет. Отчаявшись дождаться Резы, Марина срывается с места, на всякий случай озирается, стараясь запомнить ряд грозных и запертых подъездов, мусорные баки на той стороне улицы, стройку. Потом она шагает в ночь. И бежит не зная куда по самой темной стороне улицы. Назойливая серебряная мушка раскалилась добела у нее в виске, отчаянно требуя сладкого. Уши глохнут к окружающим звукам. Только пульс оглушительно выстукивает в виске, в шее, в затылке. Быстрее, нужно куда-нибудь добежать до начала головокружения. До появления вестника. Марина несется, шаря рукой по шершавым бетонным заборам, по стенам остановок, по фасадам кирпичных будок, по алюминиевым прилавкам заколоченных ларьков Черного города.
Несколько минут спустя она ковыляет по незнакомому проулку в кромешной тьме. Впереди трепещущий островок жидкого света, как огромное скопление моли – единственный встреченный на пути фонарь. В голове гремят погремушки, пиликают цикады, как если бы там был летний полдень, полнящаяся духота, одуряющее приближение грозы. Тяжкая невесомость овладевает телом. Ремешки босоножек вгрызаются в лодыжки, скользят по сукровице наметившихся мозолей.
В руках нарастает оторопь, в пальцах назревает невозможность что-либо удержать. В ногах возникает дрожь, постепенно растекаясь в лодыжки, колени, доходя до бедер. Марине кажется, что она на палубе корабля, швыряемого разбушевавшимся морем с волны на волну, снова с волны на волну сквозь бездну. В сероватом кружке фонарного света перекошенный мусорный бак. Две крысы, испугавшись, вразвалочку трусят через узкий проулок, в подвальное оконце барака. Темные окна деревянных строений сливаются в недобрый, недоверчивый взор. Отчужденность окраины Черного города заставляет Марину почувствовать, как она убывает, как она каждую секунду завершается, наливаясь утомительной невесомостью. Она готова привалиться к любой стене, красться под низкими окнами бараков, цепляясь ногтями за занозистые доски, из которых торчат шляпки ржавых гвоздей. Не прислушиваться, не всматриваться в темноту, не вдаваться в происходящее вокруг. Только вперед: еще шаг и еще шаткий, сбивчивый шаг.
А потом посреди проулка возникает он. Вырывается из темноты. Отделяется от ночи. Темный, парящий над асфальтом. Еще неразличимый, темный силуэт. Вестник обморока приближается к Марине, как всегда, беззвучно. В развевающемся темно-сером одеянии, с растрепанными вихрами, отдающий горчинкой свинца, кисловатой немотой олова. Обычно в этот миг от леденящего ужаса, от смятения, вызванного его тихим и неожиданным явлением, Марина всегда ломалась, силилась зажмуриться, старалась отпрянуть. И пропадала. Но события этого вечера неожиданно придали ей храбрости. Марина решила держаться. Решила дерзить. Она впервые в жизни захотела рассмотреть вблизи вестника обморока, печального и кроткого ангела, уносящего на своих сизых крыльях всех, кто им зачарован. Именно сегодня Марина отважилась заглянуть ему в лицо, прямо в глаза. Она больше не чувствует окаменевших от боли ног, но все равно делает шаг. Она делает еще один шаг в жалящих босоножках. Медленно и сбивчиво, спотыкаясь на щербинах асфальта, норовя ухватиться за столбы слепых фонарей, Марина приближается к вестнику обморока, к темно-серому властелину ослабевшего, ускользающего мира.
5
Игорек знает Черный город наизусть, как квартирку матери, хроменькой Валентины, растерявшей и утратившей всю свою красоту. Он мог бы ходить здесь вслепую, безошибочно сворачивая в нужный проулок, вламываясь плечом в дверь необходимого ему подъезда, с первой попытки нащупывая дверной звонок. Он мог бы с завязанными глазами, ухватив наугад, безошибочно срывать с ветки еще неспелое, кисловатое, но уже такое сочное яблочко в школьном саду. Мог бы двигаться на ощупь, распознавая ларьки папирос и фонарные столбы, мусорные баки, бараки окраины, лавку подгнивших, но все же годных для еды овощей, магазинчик уцененных ботинок, торговок на станции, подвальные мастерские, скамейки и бродяг, горланящих под окнами в сумерках. Он вызубрил наизусть недавно отстроенный центр Черного города, с низкими коробками-конторами из солнцезащитного стекла, с мраморными зданиями, похожими на неподъемные шкатулки из полудрагоценных камней. Со случайными насупленными карликами-разносчиками, с черными мотоциклистами патрульной службы, совершающими по несколько раз в сутки объезд центральных кварталов.
Игорек отлично знал ловушки и западни Черного города, его тайники, подземные туннели, забегаловки, притоны для сходок домушников и окраинных банд. Он знал в лицо карманников из электричек, сгорбленных заводских работяг, шатающихся по ночам бездельников. Он мог бы опознать где угодно торговок краденым, ютящихся пугливым рядком под железнодорожным мостом, молодых окраинных беспризорников, шлюх с расплывшимися алыми ртами и потеками туши на дряблых щеках. Разбуженный среди ночи, он смог бы отличить от тысячи других местных бледненьких швей в юбках ниже колена, офицеров патрульной службы, затянутых в черный хитин, насупленных ленивых таксистов. Множество теней Черного города он умел отличать одну от другой, был осведомлен, как от них оторваться, где от них спрятаться, чем отпугнуть. Он помнил, как когда-то давно, в детстве, добрый старик, хозяин лопоухого пса, шепотом объяснил, что Черный город возник на месте курортного поселка. Море постепенно отступило отсюда, попятилось на юго-восток, по шагу в день, по шагу за ночь, ушло прочь, лишь бы не быть рядом, лишь бы не соседствовать с Черным городом, в который рано или поздно хоть раз в жизни попадает каждый.
Каморка коммуналки оклеена выцветшими желтыми обоями с косым коричневым пунктиром, будто здесь идет нескончаемый дождь. Игорек заливает в себя две бутылки пива с плесневым привкусом. Брезгливо обтирает руку о брюки. Рассеянно выслушивает сиплые наставления о завтрашнем ночном налете. Подставляет ладонь, чтобы оценить горячее, твердое рукопожатие. Торопливо накидывает плащ. В кромешных потемках выкатывается по скрипучей деревянной лестнице в ночь. И движется дальше, краем глаза недоверчиво выхватывая сиплые двери подъездов, затаившие недобрую тишь бараки, заколоченные будки, заборы строек, нескончаемые ряды сараев и гаражей, утонувшие в тревожной окраинной темени Черного города.
Он старается не слышать лишнего, не вникать в то, что его не касается. Пропускает мимо ушей выкрики, скрипы, стоны, кошачьи песни. Руки его упрятаны в карманы плаща. Правая на всякий случай превратилась в клешню, окончание которой – крепко сжимаемый пистолет. Его холодноватая, устрашающая тяжесть внушает Игорьку уверенность в настоящем. Он быстро идет по проулку мимо деревянных бараков, большинство из которых пялятся в ночное небо выбитыми окнами безлюдных каморок, постепенно ставших пристанищами беспризорников и бродяг.
Левая рука Игорька перекатывает в кармане россыпь ошивающихся там безделиц. Между пальцами кружат монетки, тыквенные семечки, маленький ключ, отжившая зажигалка, граненая алая бусина-слеза, потерявшая пару запонка, подтаявшая карамелька, крышка от пивной бутылки. По правую сторону проулка в низком зарешеченном оконце первого этажа вспыхивает огонь – кто-то прикурил, потом в потемках поставил чайник на газовую плиту, озарив тьму синей вспышкой. В этот миг Игорьку начинает казаться, что оттуда, издалека, кто-то тихо и медленно движется ему навстречу. Насторожившись, он вжимает голову в плечи, не испуганно, а насупленно и угрожающе, чтобы в случае чего с ним побоялись связаться, чтобы его, как всегда, опасливо обошли стороной. Он продолжает размашисто, настойчиво шагать вперед. Пальцы его правой руки еще сильнее срастаются с пистолетом. Прищурившись, Игорек всматривается в роящуюся темень проулка. Не одинокая ли тень бродит по Черному городу в этот поздний час. Голодная, дрожащая от слабости, разыскивая в темноте, к кому бы прибиться, к кому бы пристать и не отвязываться потом годами. Игорек недоверчиво всматривается в тягучий мазут ночи и снова улавливает впереди легкое движение, как если бы посреди проулка вилась стайка черных бабочек с атласными крыльями, на фоне мягкой велюровой темноты, среди бараков и деревянных фонарных столбов. По правую сторону на втором этаже у кого-то бьют часы. Чинно и неуклонно, возможно, это одинокие часы в заброшенной квартирке, каждым новым дребезжащим ударом они раскалывают, разделяют тишь ночи на вчера и сегодня, заставляя Игорька встрепенуться и на всякий случай окончательно протрезветь.
Он утирает ладонью лицо, умывается зябким сырым ветром. Еще шаг и еще. Игорек уверен: кто-то идет ему навстречу, кто-то медленно и плавно надвигается, проступая из темноты. В уме он на всякий случай прокручивает разнообразные маневры, с помощью которых не раз удавалось увернуться и отбиться от привязчивой тени точно так же, ночью, в проулках, в темных подъездах, на окраинных пустырях Черного города.
Игорек давно догадался, что тень является будущему хозяину не случайно. Он сам это уловил однажды и пока лишь убеждался, что одинокая тень всегда привязывается к тому, кто тяготится одиночеством, кто ищет поддержки, блуждая в потемках по окраинным пустырям. Догадавшись об этом, Игорек стал защищаться. Он многие годы вырабатывал холодноватую целостность, тщательную невозмутимость одиночки, грубоватую независимость от одобрений и ласк. Он учился день ото дня и в конечном итоге преодолел скулящую необходимость нежности, жалобную жажду участия. Звенящий, разгоряченный, он несколько раз в месяц посещал окраинные притоны, всегда отдавая предпочтение разным шлюхам. Если ему и случалось развлекаться засветло или при заунывном свете замызганных ламп, он обматывал им головы теткиным платком из плотного синего шифона. Чтобы не видеть лиц, гримас боли и наслаждения, чтобы не заглядывать в распахнутые глаза с размазанной тушью. Чтобы ни к кому никогда не привыкать. Чтобы не приманивать к себе обессиленные тени, день за днем вытягивающие у своего хозяина душу.
Подтверждая его опасения, из темноты окончательно проступает, от ночи отделяется силуэт. Ничего пока не видно. Лишь очертания. Игорька неожиданно пронзает страх. Ему кажется, что по темному проулку на него надвигается смерть. Кроткая и невесомая, она медленно и упрямо шествует навстречу, волоча за собой по выщербленному асфальту дребезжащую телегу костей и черепов. Игорьку кажется, он почти уверен, что это его мать Валентина, не такая, как сейчас, а молодая, в длинном цветастом платье, медленно шествует ему навстречу. Спотыкаясь, пошатываясь, как всегда пьяная, потная и веселая после гулянки, но зато такая пышногрудая, с крепкими душистыми бедрами, с высоко зачесанными волосами. Теплая, в которую хочется прыгнуть с разбега, нырнуть с головой и утонуть. Игорек начинает дрожать всем телом. Ему хочется пуститься наутек, спрятаться в любом подъезде заброшенного барака, лишь бы избежать встречи. С одинокой ничейной тенью. Со своей подступающей смертью. Со своей молодой и такой манящей матерью. Но он все же делает шаг навстречу. Неуверенно и робко. Как испуганный восьмилетний мальчишка.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































