Текст книги "Аккордеоновые крылья (сборник)"
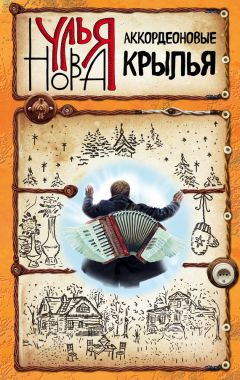
Автор книги: Улья Нова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
4
Все ближе подкатывался совсем не ожидаемый на этот раз Новый год и мерцающее за ним Рождество. Алек по-прежнему держал за запястье, от этого Вета теряла силы. С каждым днем по чуть-чуть истощаясь, еле-еле брела домой в дрожащих заснеженных сумерках. Чувствовала свое сердце сизым холодным камнем, брошенным среди поля глубокого топкого снега. Наступающий вечер покачивался из стороны в сторону, город чуть плыл перед глазами. Она знала: на днях Алек снова дернет ее за руку, безжалостно, незаслуженно. Она была уверена: он снова не пришлет ни письма по электронной почте, ни маленького безнадежного сообщения из командировки в Питер. Он не пришлет ни одного письма, которые она снова не сможет удалить, так и не прочитав. Она не сомневалась, что зачем-то будет перечитывать по нескольку раз все его никогда не присланные письма. Как всегда, отыщет вторые и третьи скрытые смыслы, затаенные шипы, болезненные полунамеки в двух-трех горстках его случайных, никогда не написанных слов. Потом, окончательно измотав себя, она снова будет бродить по комнате среди ночи с чашкой кисло-кровавого каркаде. Обжигаясь, постарается хоть что-нибудь понять. Снова поймет все с жалостливой пресностью доброты. И, сорвавшись, примется набирать его номер. Чтобы попросить: «Пожалуйста, выпусти запястье. Разожми руку. Отпусти меня. И больше не отправляй мне эти ненаписанные письма». Снова и снова, не добрав последнюю цифру, она будет стирать унизительный звонок отчаяния и слабости. И не сможет заснуть до самого утра.
В последний день года жертвой бабки с костылями снова оказалась Вета. Вполне возможно, под вечер, засидевшись и прилично озябнув под медленным слюдяным снегопадом, старуха дожидалась именно ее. Конечно же Вету, белую изнутри и снаружи, как ветхая простынь. Опустошенную. Бескровную. Безотказную. Ее бы саму кто-нибудь довел до дома из круглосуточного магазина, а еще лучше донес на руках до квартиры. Вету и ее сумку с шампанским, сыром и развесным оливье к Новому году.
Бабка подстерегала, чтобы, как всегда, назойливо проскрипеть «здравствуй, Веточка». Тут же ухватиться за рукав ее пуховика и навалиться на тоненькую Вету всем грузом своей одинокой болезненной старости.
И вот они уже слились в огромную четвероногую слабость, вобравшую в себя много разнородных печалей, разочарований и утрат. Медленно, пошатываясь, побрели вдвоем к двери подъезда. Время, как всегда в подобных случаях, тягостно приостановилось, почти замерло. Минуты оборачивались столетиями, предательские секунды колебались, отдаваясь внутри жгучим нетерпеливым ядом. За долгий героический переход от лавочки до крыльца Вета узнала кое-какие подробности об окраине панельных домов и кирпичных пятиэтажек. Совершая доблестное восхождение на пять ступенек крыльца, бабка, свистя и закашливаясь, посчитала нужным сообщить ей разные слухи, передаваемые из уст в уста возле подъездов. Например, о загрязнении воздуха автомобильным комбинатом. О зловещих выбросах кислот, которые часто ощущаются по вечерам. О спившемся электрике, у него в подмосковном интернате, представляете Веточка, оказывается, имеется трехлетняя дочь-инвалид от первого брака. И еще в последний месяц слишком часто стали прокалывать шины припаркованных возле дома машин.
Терпеливо переживая черепаший шаг старухи, Вета помогла ей кое-как протиснуться в железную дверь. Под нудный аккомпанемент домофона чувствовала онемевшей рукой и худеньким птичьим плечом безжалостную тяжесть одеревеневшей бабки. Разыскивала в стылом сумраке с грохотом упавший костыль. В сырой тесноте подъезда угадывалось присутствие дворовых кошек и крыс. На огромном щите объявлений угрожающе алело: «Истребление». Ниже черным меленьким шепотком уточнялось: «Муравьев. Клопов. Тараканов». Почему-то Вета всегда поначалу прочитывала их как фамилии военных. Чувствовала необъяснимую угрозу, вся чуть-чуть сжималась. Но сейчас ей было не до муравьев и тараканов, не до войны и мира. С самозабвенной старательностью гувернантки она поправляла съехавший на глаза бабки берет. Ждала, когда старуха откашляется и утрет бесцветные целлофановые губки мятой тряпицей в бледно-розовый цветочек.
На первой и второй ступени невысокой лестницы, ведущей к лифту, Вета терпеливо пережидала множество свистящих остановок. Третью ступень они кое-как миновали, снова слившись в тягостное четвероногое существо, в неповоротливого мифического гиганта вселенской слабости. Который действовал вполне слаженно и придвигался все ближе к створкам лифта. Бабка доверчиво налегла на плечо Веты центнером древних окаменевших костей, остекленевшего жира и свалявшейся муки внутренностей. На четвертой ступени зыбкое равновесие неожиданно было утрачено. Беспомощная четвероногая слабость пошатнулась. В сумраке старых котов и половых тряпок, сросшаяся двумя спинами четвероногая слабость качнулась назад, к двери подъезда. И начала свой стремительный, неукротимый обвал, свой последний полет в серую бездну. Испуг падения вышиб Вете память и остатки сил. Она стала неземной, бестелесной, бездумной. И в последний момент перед окончательным крушением все же успела, точнее, совершенно спокойно и даже задумчиво ухватилась пальчиками, тоненькими, будто корешки проросшей фасоли, за деревянный, пропитанный испариной и жиром поручень. Выбросила руку, будто крыло, вцепилась в последнюю надежду. Уже совсем бездыханная, бессловесная, окончательно растерявшая себя и все свое прошлое.
Бабка перепугалась почти до обморока. Чудом миновав обвал, она потом минут десять стояла на четвертой ступеньке, привалившись носорожьей спиной к темно-зеленой стене. Смотрела в потолок, охала в голос, обмахивала обветренное лицо мятым платочком. Будто старательно отгоняла кромешную близость катастрофы, обрушения, обвала. И дышала часто-часто, со свистом, как закипающий чайник.
Пока бабка разыскивала в своих бездонных карманах затерявшийся тубус с валидолом, Вета неожиданно обнаружила. В первый миг она даже не поверила. «Не может быть. Неужели отпустил?» Чтобы убедиться, что это действительно так, недоверчиво сжала кулак. Неужели он наконец отцепился? Пробежалась легкими белесыми пальчиками по невидимым клавишам. Взяла воображаемый аккорд вступления к песне «Let it be». Покрутила кулачком по часовой стрелке. Отпустил. Видимо, замешкался. Растерялся. Все же разжал настырные и безжалостные пальцы-омелы. И теперь ее запястье свободно.
Кое-как собрав последние силы, ухватив друг друга под руки и под локти, будто раненые партизаны, Вета и бабка с костылями все же сумели взобраться на пятую, шестую и седьмую ступеньки. Возле лифта бабка, пошатываясь, ругала уборщицу и футболила маленькой ножкой, утянутой в ортопедический ботиночек, рассыпанный на бежевом кафеле листопад рекламок. Лифт дернулся где-то в вышине и неторопливо запыхтел, опускаясь. Неужели отпустил, недоумевала Вета, продолжая недоверчиво сжимать кулак освобожденной руки. Убеждалась снова и снова: он больше не держит. Даже непривычно: рука такая свободная, будто сняли наручник или спилили тяжеленное кольцо с птичьей лапки.
В лифт влезли обстоятельно и последовательно. Бабка на своих костылях вплыла внутрь огромным тугим куском теста, заполнив узкую клеть во все стороны, от пола до потолка. Вета протиснулась рядом, наблюдала оставшиеся от объявления лохмотья и бесцветно, исступленно молчала. Неожиданно на середине пути бабка принялась разминать и массировать запястье своей правой руки. «Чуть не разбились мы с вами, Веточка, перед самым Новым годом! – гнусаво пела бабка, будто репетируя свой будущий рассказ соседкам, дочери и кому уж посчастливится. – Чуть не расшиблись мы с вами в пух и прах. Я так руку растянула. Теперь ноет, аж до самого локтя свело. Надо мне теперь какую-то мазь. Вишневского, но она же от гематомы…»
Пока бабка перечисляла все известные ей мази, Вета чуть не задохнулась от догадки. Неужели Алек ошибся, выпустил ее запястье, а потом со всей силы снова вцепился в прорезиненную руку бабки с костылями, в древнюю руку, усыпанную мелкими родинками и островами расплывчатых пигментных пятен? Растерялся. Ошибся. И теперь сжимает, как всегда безжалостно, как всегда жестоко, каменное запястье старушенции. Наверное, это теперь надолго, – виновато встревожилась Вета. А вдруг его хватка как-нибудь повредит, нанесет ущерб старому человеку? Нет, – поспешно отогнала она глупые опасения. Вовсе нет, – торжествуя, подумала она. Сам того не подозревая, Алек теперь как миленький будет поддерживать бабку в лифте. Будет тащить ее вверх по лестнице после ежедневных посиделок на лавочке. Уверенный, что истязает и изматывает Вету, хоть кому-нибудь нечаянно поможет.
Несколько световых лет пришлось придерживать двери, пока бабка выгружалась. Медленно вытекала, расшатывая лифт, будто бумажный фонарик, бесшумно парила на костылях, неумело перемещая заплывшие гиппопотамовые ноги в маленьких детских ботиночках.
На этом не распрощались: старуха еще долго не отпускала Вету, напоказ трагически массировала запястье, оправдывалась, что внук очень устает в институте и поэтому не приедет к ней в гости на Новый год. Со вздохом призналась, что справлять снова не будет, не досидит до полуночи одна. Позвонит своим часиков в десять, поздравит, пожелает «главное – здоровья», потом сразу же ляжет спать.
«Ну теперь идите, Веточка. Идите-идите с наступающим домой», – как всегда настырно и задумчиво бормотала старуха, вылавливая из связки ключи. Через секунду Вета уже летела на лифте вверх, ликуя от своего долгожданного освобождения. Радовалась, что, несмотря на слабость, все же сумела – проводила бабку, преодолела обстоятельства, справилась с последним в этом году испытанием. Вета летела домой с наступающим. Наперегонки с праздником. С новым счастьем. С расцветающим сердцем. С легкой рукой.
Однажды в Черном городе
1
Сверкающая лакрица – черные волосы, зачесанные назад. Искристые глаза – темный малахит. Белая футболка со скрещенными пиратскими пистолетами. Придерживает руль снисходительно, двумя пальцами. Пока окурок, затухая, летит над придорожной травой, он поворачивается к спутнице, притягивает ее к себе, с нежностью щенка вылизывает топкие губы девушки. Потерявшая управление машина грозит кубарем покатиться в придорожный кювет. Но в последний момент он все же хватает руль, вытряхивает из пачки новую сигарету, а спутница умиротворенно разглаживает юбку и грызет леденцы, вглядываясь вдаль шоссе. Им везет. Они говорят на разных языках и уже полгода любят друг друга. Между ними пока или навсегда царит бессловесное понимание, безграничная нежность. Если бы можно было измерить всю любовь, вспыхнувшую на планете за последний год, их чувство, без сомнения, оказалось бы в десятке сильнейших. Уверенные, что спешат к морю, они по очереди переключают радио, дрыгаются в такт знакомым песням и кое-как переговариваются. Реза размахивает руками. Марина жестикулирует длинными пальчиками с голубым лаком. Подступает ночь. Неброская надпись на придорожном указателе уточняет: «Черный город – 2 км».
Поговаривают, будто каждый хоть раз попадает туда. Не избежали этой участи и они, в сущности еще не повзрослевшие дети. Марина, тоненькая блондинка в бежевой майке, в джинсовой мини, в бордовых босоножках на невесомой пробковой платформе. И ее возлюбленный, девятнадцатилетний иранец Реза. Они неслись к Черному городу на закате в обшарпанном «Мерседесе», который по мере захода солнца становился синим, потом цвета темной озерной воды, потом черным, как глаза мусульманок, сверкающие в окружающий мир через щелочку хитжаба, а потом угольно-черным, как хлопья туши на их ресницах. В багажнике подпрыгивали на кочках, приплясывали на ухабах большой синий чемодан, ящик лечо из помидоров и перца чили и несколько упаковок прокладок – для юных жен Резы.
Проезжая контрольно-пропускной пункт на въезде в город, кажется, царапнули боком патрульную будку. Почти незаметно. Тем не менее тишину округи очень скоро вспорол рев нескольких моторов. Они не остановились и на всякий случай увильнули в проулок. За ними или просто так, по случайному совпадению, по улицам с оглушительным ревом понеслись огромные черные мотоциклы, загрязняя выхлопами и без того тягостный воздух Черного города.
Русская девушка Марина, дочь беспробудных алкоголиков в пятом поколении, выросла на окраине захолустного поселка, главным доходом которого была разворованная на глазах птицефабрика. Ее парень Реза из шумной многодетной семьи рано потерял отца – всему виной одна и та же тысячелетняя, нескончаемая война. Его старшей жене уже семнадцать, его младшей жене еще пятнадцать, обе они утратили для него всякую прелесть, как только он впервые увидел Марину. Теперь они вдвоем, испуганные и взведенные неожиданной погоней, неслись по центральным улочкам мимо зданий с пыльными мезонинами. В салоне светился щиток магнитофона, мигало время – 21:31, ни одна из радиостанций не ловилась в Черном городе. Единственным звуковым сопровождением были настойчивые и подозрительные звонки жен Резы, его сдержанный шепоток на персидском. В перерывах между звонками Марина как уж могла расспрашивала его про семейную жизнь. Ей было необходимо узнать какиенибудь нелепые, смешные подробности. Чтобы немного защититься и в тысячный раз понять, что обе они – совершенно не в счет. Но Реза отмалчивался так благородно, так по-мужски, что это ее задевало. От ревности она заводилась, у нее жгло между ног, будто туда со всей силы сыпанули черного перца. Их последняя близость произошла три часа назад на автозаправке, в подсобке кафе. По меркам их любви это было уже очень давно.
Потом телефонная сеть пропала, отрезанные от большого мира, они ехали молча. Реза пытался разобраться в карте. По всем признакам, здесь уже давно должно было оказаться море, к которому они ехали несколько дней. Но моря здесь не было и в помине. Реза нервничал, а Марина умиротворенно грызла свои леденцы. Такие крошечные леденцы, бесплатное угощение, обычно лежат в офисах и магазинах в глубоких сияющих вазочках. Ежевичные, малиновые, апельсиновые. Шуршащий карнавальными обертками пакетик красовался у Марины на коленях. Колени у Марины острые и загорелые, у нее крепкие икры и маленькие ножки, стянутые бордовыми ремешками босоножек. А выше колен – бархатные бедра, между которыми кокетливое пространство в виде лодочки. Все это было отвлекающей обманкой, позволявшей скрывать, что вот уже три года Марина неизлечимо больна. Буйные запои отца, визгливые драки родителей, прогрессирующее белокровие брата не прошли бесследно. Однажды весной Марина лежала на рассвете без сна, укрывшись с головой одеялом, пугливо прислушиваясь к звукам квартирки, стены которой накрепко пропитались табачным дымом, руганью и перегаром. На кухне капал кран, изредка тишину утра вспарывал яростный храп, грубое бормотание и всхлипы во сне. Именно тогда что-то внутри ее хрустнуло, будто ветку хвороста переломили пополам, готовя к растопке костра. Марина отчаялась и окончательно разлюбила жизнь. С того раннего утра начались ее неожиданные провалы в бездонную темно-серую пропасть. А потом – шаткие возвращения, каждый раз вынуждавшие рождаться снова и привыкать ко всему заново. Усатый седенький врач в обшарпанном кабинете районной поликлиники пробормотал, что это всего лишь недостаток сахара в крови. Скорее всего, подростковое, скоро пройдет. И отпустил без рецепта. Но обмороки повторялись. Марина боязливо вслушивалась в себя, каждую минуту ожидая явление вестника. Тихого темно-серого ангела, властелина ускользающего мира, который всегда возникает за пару минут до потери сознания. Каждый раз при его появлении она старалась как-нибудь защититься. Когда вестник обморока снова кротко и печально надвигался на нее из форточки, прямо из морозного февральского неба, сковывая душу сизым холодом и лишая воли, Марина читала про себя стихи, все подряд, которые знала наизусть. А еще – детские считалочки. И куплеты въевшихся в память песен из сигаретных ларьков и комиссионных магазинчиков. Со временем она научилась сопротивляться: через силу дышала, изо всех сил сжимала кулачки, безжалостно впиваясь ногтями в ладони. Со временем она научилась мастерски цепляться за свет, оттягивая момент забытья. И никто никогда не догадывался, что с ней что-то не так.
В тот день Марина забирала деньги, собранные сослуживцами на похороны брата. Говорливая вахтерша птицефабрики, антикварная старушенция с прической-люстрой на сиреневой седине, пристально вглядевшись в бледное личико, посоветовала Марине всегда носить горстку карамелек «барбарис». «Больше тебе ничего не нужно, милочка. Не вздумай скитаться по врачам. Как почувствуешь, что жизнь опять от тебя уплывает, – карамель в зубы и побежала дальше. Сладкое меня всегда спасало. Я так сорок лет существую – и ничего, как видишь».
Старушенция оказалась права. С тех пор главное для Марины – всегда иметь при себе маленькие разноцветные карамельки, ни при каких обстоятельствах не выпускать заветный пакетик с леденцами из рук.
Между тем шум погони приближался. Мотоциклистов патрульной службы стало, кажется, вдвое больше. Они с ревом неслись на поиски нарушителей по пустынным улочкам Черного города. Реза так и не разобрался в карте, наугад свернул в темный проулок, притормозил возле мраморного здания, что-то прокричал, настаивая, чтобы Марина вышла и ждала его возле подъезда. А еще он пихнул ей в руки какой-то пакет.
Марина покорно хватает пакет, выскакивает из машины. Реза уносится. Дверь подъезда заперта. Марина садится на ступеньки, от волнения она так бледна, что мелькающим по улочке мотоциклистам кажется, будто на лестнице лежит приготовленный для прачечной ворох пододеяльников, скатертей и простыней. Мотоциклисты несутся мимо с выключенными фарами, их тени похожи на огромных летучих мышей.
Чтобы немного успокоиться, Марина безвольно покачивается, сжавшись на ступеньках. По обе стороны от нее – такие же черные двери, ни одного фонаря в округе, темнота пожирает город окончательно. «Все, в сущности, очень хорошо, – жалобно убеждает она себя, – Реза скоро со всеми разберется и приедет сюда. Мы окажемся в одной из его пяти квартир, раскиданных по всему миру. Там будут черные стены, черный кафель в ванной и необъятная кровать с черным бельем и булькающим водным матрасом».
Грезы похищают Марину из Черного города. Она представляет, как очень скоро нежно вылижет любимому ухо, почувствовав на языке велюр его кожи, солоноватые жесткие волоски, горчинку морской воды. Потом она нежно укусит его в шею, зароется носом в подмышку… И вот ее щеки уже пылают, сердце полнокровно бьется, жилки груди пульсируют. В это время мимо Марины беззвучно снуют жители Черного города: кроткие непримечательные тени, растрепанные работяги, призрачные жители окраин. Начинается ночная смена, каждый спешит по своим делам. Ни луны, ни звезд. Небо черное, как дешевенькая ткань для обивки гробов. Вдалеке слышен шум двигателя приближающейся машины. «Скоро все образуется», – убеждает себя Марина и ждет Резу. Но он не возвращается к ней ни через секунду, ни через очень долгую минуту, которая тянется и тянется, наверное, целую вечность.
2
Однажды запоздалый посетитель окраинного кладбища Черного города, прилежно вырвав с могилы родственника разросшиеся там одуванчики и полынь, в философских целях осознания жизни и смерти отправился бродить среди небогатых бетонных надгробий. Совсем скоро он заметил странную вещь. Начал вглядываться в надгробья внимательнее. Торопливо надел очки. Подошел поближе к одному из памятников. Потом приблизился к другому. Начал выхватывать даты и лица, как заядлый карточный игрок. Прогулка по кладбищу превратилась для него в маленькое расследование. Когда посетитель понял, что догадка подтверждается, он нахмурился. Закурил. До неприличия высокая детская смертность этих мест очень его озадачила. Потом он возмущенно произнес вслух, нарушая могильную тишину: «Как это так? Что за безобразие? Чем вы вообще тут заняты, в своем захолустном городишке? Ну хорошо, – бормотал он чуть тише, почти шепотом, – положим, эпидемия кори, ангина с осложнениями, опасный вирус, но почему не вызвать врачей из столицы? Не заказать лекарства, сыворотки для прививок?»
Невдомек было приезжему в строгом коричневом плаще, что под серыми бетонными памятниками с надписями: «Помним. Скорбим» стыли в земле, мокли под проливными дождями кости непослушных детей Черного города. Говорили усталые мамы в тесных, освещенных скупой лампочкой прихожих. Нашептывали в кухоньках бабушки, окутанные клубами пара от кипящего в ведре белья. «Не ходи, детка, на кладбище. А если уж поддашься, занесет тебя туда в прятки играть или в войну с мальчишками баловаться, ничего оттуда не выноси. Будут к тебе на кладбище подходить незнакомые тети. Будут подзывать чужие дяди. Не подходи к ним ни в коем случае. Не заговаривай. Яблоком угостят или печеньем – не подходи и ничего у них не бери». Дети послушно кивали и клялись, скрестив за спиной пальцы. Они прибегали на кладбище чуть позже, вечером. Или приезжали туда на велосипедах, спицы которых для красоты обмотаны красной, синей и зеленой проволокой. Чтобы, когда разгонишься, казалось, будто внутри колеса – радуга.
Дети шумели на кладбище, тревожа мертвый сон, нарушая вечный тихий час. Они кричали, смеялись и пели. Они воспроизводили звуки стрельбы из пулеметов. Они носились по дорожкам среди могил, собирали конфеты, отбирали яблоки, баранки и печенья у мертвых, воровали у них единственную отраду – пушистые букеты георгин, окутанные сладковатой гнилью розовые пионы. Бордовые розы и стройные букетики алых гвоздик дети забирали у мертвых вместе с вазами и ехали продавать на железнодорожную станцию – влюбленным, посетителям местной больницы и людям, спешащим на юбилеи и новоселья.
Время показало, что дети, которые зарабатывали на газировку, леденцы и первые сигареты, обкрадывая мертвых, скоро возвращались на кладбище Черного города в дешевых гробах с печальными оборками из атласных черных лент. Но на самом деле их бабушки и мамы ошибались. Причиной детских смертей Черного города были вовсе не букеты и не кладбище, не нарушение запретов и тишины, не обиды мертвецов, у которых отняли печенья, а руины заброшенного военного завода, который находился неподалеку. Две черные трубы возвышались, вытянув шеи, над окраинами городка. Ветер насвистывал в них, будто в дудки, завораживающую и странную музыку. Они шептали: «Дети-дети! Идите скорее сюда. Со стороны пустыря в заборе разогнуты два прута, вы сможете бочком пролезть. Смелее! В заброшенном цехе можно набрать подшипников и гаек. Вы найдете медные брусочки, похожие на патроны. И саморезы, напоминающие оловянных солдатиков». Завороженные нежными песнями, дети пролезали в щель забора. Беспечно неслись по лужайке, заросшей серой травой. Дети входили в скрипучую железную дверь заброшенного здания. И никогда не выходили назад живыми. Возможно, они забредали в цеха, где валялись трубы, ржавые проволоки, протекающие канистры. А в переходах между цехами громоздились разрушенные лестницы, коридоры с прогнившими полами, бездонные шахты, черные отсеки и потайные комнаты, вошедший в которые терял надежду выбраться назад живым. Однажды через дыру в заборе на территорию завода проник тихий любопытный Виталик. Он осторожно проскользнул в скрипучую железную дверь, на корточках пролез в темной проходной под ржавую вертушку. И на ощупь отправился по сумраку коридора, с жадным ужасом вслушиваясь в звуки и шорохи пустынного здания. Надгробье Виталика, единственное на кладбище Черного города, выполнено из цельной глыбы мрамора. Так пожелал его отчим, чтобы соседи и родственники не думали, будто пасынку в семье недодавали или кормили его хуже, чем сводную сестру.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































