Читать книгу "Чувство моря"
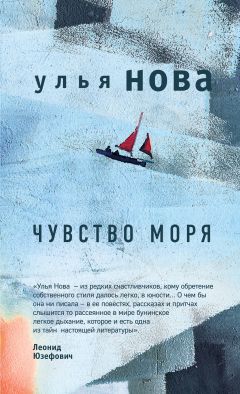
Автор книги: Улья Нова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Это ощущение повторилось c ним три года спустя, в день похорон дяди, младшего брата матери, бездетного учителя черчения, левое плечо которого вследствие прожитой жизни почти приросло к уху. В новом, недавно отстроенном столичном крематории, напоминавшем архитектурой алюминиевую космическую станцию, он замер у окна с уходящим к горизонту окраинным кладбищем и царившей над ним многослойной, надрывной тишиной. Прижав нос к стеклу, с испуганным любопытством скользил по рядам могил, листая их, будто огромную каменную книгу. Подмечал помпезные надгробья деятелей городской администрации, памятники похороненных на окраине актеров и генералов, не знавших при жизни и посмертно недостатка в средствах. Уходя вдаль, величественные плиты мельчали в туманной дымке, горбились и таяли под нависающим осенним небом. Убывали, плавились, переходя в насаждение черных и серых крестов. Постепенно перетекали в колючий кустарник чугунных оградок, обозначавших последнее укрытие, чей-то тесный приют. Лес крестов и оград упирался в безыскусные бетонные стены, в нескончаемый лабиринт, таивший многочисленные урны с прахом. Они располагались одна над другой, в строгом порядке аптечного шкафа со множеством замурованных ящиков, с тысячами разнообразных отзвуков дребезжащей насупленной тишины. И взгляд мальчика растерянно скользил по тропинке, уходящей вглубь кладбища, от мест захоронения знаменитостей и чиновников – в бесконечность мельтешащих, мельчающих, тихих имен и дат. И в какой-то момент чувство моря неожиданно напомнило о себе, распахнулось и защемило нестерпимо, безудержно, в самом центре груди.
Капитан знал с самого детства: море никогда не глядит на тебя, оно происходит безразлично и невозмутимо, обособленно, в своей вечности. И все же многие годы он ощущал это как тягу, как болезнь, как обреченность: безутешную недостаточность моря в жизни. Смотритель маяков утверждал: если такое произошло хоть раз, ты пропал, ты попал в западню, ты теперь привязан к морю накрепко. Ты никогда больше не будешь по-настоящему жив без него. В тебе воцарилась роза ветров. Тебя треплет в разные стороны свора яростных морских шквалов, переменчивых, безымянных. Неукротимых.
«Если чувство моря хоть раз возникло в самом центре твоей груди, – бормотал смотритель, не обращая внимания на то, что некоторые слова заглушают дождь и ветер за оконцем каморки-подсобки, – это значит, что однажды настанет день, когда ты перестанешь принадлежать себе». И вот ты уже обрываешь якорную цепь. Покидаешь дом своего отца, студенческое общежитие, тесную квартирку тестя. И вот ты уже плетешься мимо деревень и автозаправок, по однообразным, слившимся в утомительный путь полям, яблоневым садам и холмам. Почти бежишь со своим стареньким чемоданом, наобум, вслепую, нетерпеливо. По пути теряя зубы и волосы, вывихивая пальцы, ломая ногти, сбивая ноги в кровь. Оставляешь за спиной годовалого сына с его первыми веснушками и изумленно распахнутыми глазенками цвета темного янтаря. Выпускаешь, будто прирученную птицу, узкую ладонь дамы. Прибавляешь шаг и почти бежишь, стараясь не замечать косолапо плетущегося за тобой щенка. Не оборачиваешься, хотя так хочется обернуться на соседскую девушку в цветастом платье, груди которой похожи на вымя молодой козочки, а глаза – на потемневший от времени горный хрусталь. И ты расстаешься с плетеным креслом, с нависающим над яблонями балконом, с тихим переулком припаркованных возле кондитерской велосипедов, с ночным городом, мерцающим огоньками фонарей и витрин. Разлучаешься с домом, с покоем, с любовью, с вечностью, лишь бы наконец выйти навстречу своему морю. Зажмуриться, шагнуть на прибрежный песок и предоставить себя в объятия его ветрам.
Глава вторая
1Тридцать лет назад он впервые приехал в городок на дребезжащем рейсовом автобусе, прочувствовав за три часа пути все мельчайшие неровности доски сиденья. Заранее изучив по карте центральную улицу и бульвар, разобрав по слогам ничего не говорившие ему тогда названия скверов и набережных, он усмехнулся: пять кварталов под мышкой – в те времена городок располагался между рукавом реки и морем. Подъезжая, автобус чинно тарахтел по узким безлюдным улочкам. Вилял в наплывающих сумерках по брусчатке, мимо низких деревянных домов с распахнутыми и затворенными ставнями, от которых пахло чердаком, стоптанными сапогами и засохшими на подоконнике пчелами. Несмотря на усталость, он с любопытством вглядывался в незнакомые профили крыш, гадая, что это место ему предложит, чем наградит, что отнимет, чем заставит пожертвовать? Скользящие тут и там чайки, почерневшая от времени черепица, приземистые квадратные трубы, темные деревянные подворотни с забитыми окнами, каменные особняки в стиле модерн с покосившимися решетками балконов – все это сбивало с толку, лишая привычного добродушного безразличия.
В тот далекий день, но будто сегодня, выпускник мореходного училища с отпущенными для солидности усиками сошел с автобуса. Стройный, пожалуй, даже с избыточной выправкой, как будто к его спине прибили доску, он старался быть по-взрослому невозмутимым, но на каждом шагу по-мальчишески сбивался. Опустил набитый небогатыми пожитками чемодан на брусчатку привокзальной площади. Никто его не встречал, не ждал на автовокзале. Все тут было незнакомо, чудно по-своему: медлительное провинциальное время, намеренно уменьшенный масштаб магазинчиков, главной улицы, бульвара. Неторопливые прохожие в шляпах обитали в своем понятном, чуть замедленном мире. Во всем этом пока не существовало его жизни, его присутствия. Но в тот первый день, пройдя от станции до ближайшего перекрестка, он сразу почувствовал.
Этот момент врос в его память, стал им самим, его жизнью. Именно тогда он уловил запах деревянных улочек с заколоченными, затаившимися, ждущими чего-то столетними домами, на которых кое-где сохранились выцветшие вывески. Его хлестнул по щекам, потрепал за плащ, взъерошил волосы незнакомый, шкодливый ветер. Капитан всю последующую жизнь исследовал составляющие этого шустрого городского сквозняка, насыщенного льдом, до немоты трезвящего, но не отбирающего надежды. В его порывах таился пятничный дымок колбас, кур, лосося и мойвы, которые коптили к субботе, чтобы продавать на рыночной площади, в двух шагах от реки. В него вплетался веселый, хрящевой, костный дымок и аппетитный жареный выдох рыбоконсервного комбината. В нем вилась, мерцала, поблескивала горьковатая пурга от гор угля, сгружаемого с барж в вагонетки в старом порту, расположенном на том берегу реки. В этом ветре ощущалась горчинка моря, его широкое дыхание, одаривающее спокойствием, истребляющее тревоги. А еще – сырость подвалов заброшенных домов, превращенных временем в призраки, в пристанища кочующих цыганских семей, в ожидание, в оторопь. Тут и там, будто дразнящий девичий локон, мелькал аромат горячего шоколада, запеченных в тесте яблок – из затерянных в переулках кофеен и крошечных безлюдных кондитерских.
Постояв минуту посреди автобусной площади, капитан и сегодня, будто впервые, осмотрел привокзальные особняки, уловленные временем в сеть трещин, заметил новые площадные часы из синего пластика и шамкающий ступеньками магазинчик распродаж на углу. К некоторым из деревянных домов и особняков теперь накрепко, словно поросль ракушек, лепились моменты и дни, события его жизни. Здесь было как всегда – размеренно и бесшумно. Как будто городок оберегала пробравшаяся сюда украдкой и затаившаяся в его темных подъездах, в его тесных окраинных дворах тихая неторопливая вечность.
В больнице капитан задумал отчаянный маневр. Пообещал Лиде, что приедет завтра. Намеренно соврал, потому что очень хотел немного пройтись, постоять на набережной, все хорошенько обдумать. Казалось, если он побудет наедине с полуденными улицами, пройдется у реки на леденящем ветру, то какое-нибудь решение обязательно возникнет. Как спасательный круг. Как маяк, указывающий путь кораблю. Он так поступил еще и в отместку, все еще обиженный на то, что Лида доложила врачу про его папиросы и трубку. Теперь капитан по-мальчишески ликовал от своего обмана, благодаря которому его не ждали на остановке. Не было суеты. Никто не причитал, не накидывал ему на плечи выцветший дождевик. Никто не выхватывал больничный пакет из его руки, лишний раз подтверждая, что прежняя жизнь запнулась, что сейчас, скорее всего, начинается последняя, закатная глава его существования. Благодаря обману он очутился в городке нелегально, блеклым призраком своего обычного здесь присутствия. Ничего не звучало вокруг, кроме тишины пустынных улочек и переулков. Кроме далекого шелеста колес по набережной реки, возле разводного моста. А небо здесь, как всегда, немного пахло копченым рыбным дымком, ледяным ветром и морским простором.
В заброшенном особняке напротив кинотеатра, на покосившейся темной лестнице подъезда голосили томящиеся бездельем цыганские дети. Издали заприметив сбивчивую поступь одинокого прохожего, беспомощно норовящего ухватиться за любую стену и столб, малышня притихла, столпилась у входа, на всякий случай жалобно вразнобой затянув: «А подаааай нахлеееепь». Капитан смущенно выловил из пакетика горсть леденцов, расплескал шелестящими горстями в цепкие смуглые ладошки, на всякий случай избегая заглядывать в алчущие омутки глаз. И поскорей высвободился из голосистого водоворота детей, терпеливо отстранив из карманов шмыгнувшие туда ручонки.
Окна каменных особняков и деревянных домов, как всегда, подавали тайные знаки, предсказывали, предупреждали, перешептывались между собой выставленными на подоконники вещицами. На фоне голубого тюля и невесомых шелковых занавесок тут и там мелькали громоздкие угольные утюги, превратившиеся в украшения, мерцали фарфоровые статуэтки кошек и лебедей, миражами распускались макеты каравелл. Будто на зов любопытного прохожего в каждом неприметном оконце проступал серебряный подсвечник, рождественский заяц, тряпичная кукла, чучело птицы, опустевшая золотая клетка, гипсовая статуэтка девочки с болонкой. Казалось, жители старинных особняков соревнуются между собой умением привлечь блуждающий взгляд прохожего, заставляя каждое оконце тревожить, утешать или кричать вдогонку. Во время прогулок в центральной части городка капитан никогда не обращал внимания на одни и те же окна. Каждый раз его взгляд случайно выхватывал что-нибудь новенькое: керамический горшок с вьюнком, статуэтку гончей из черного дерева, в другой раз – зеленую жестяную рыбу. Он не придавал значения замеченным предметам, ничего себе не выдумывал, лишь изумлялся их кроткой красоте и сочетаниям на подоконниках. Или же гадал, не является ли гипсовая Венера тайным знаком любовников или указателем, что в этой угловой квартире живет скульптор или вышедший на пенсию антиквар.
На этот раз его внимание привлекла фигурка в низком оконце темного трехэтажного дома. Капитан подошел ближе, его подбородок уперся в пахнущий жестью, тиной и дождем карниз. Там, на узком подоконнике, перед плотными синими гардинами мерцала хрупкая статуэтка худощавого человека с чайкой в ладонях. Крошечные чайки сидели на плечах, еще одна птица восседала на голове святого. Или чудака. Капитан запнулся. Он был встревожен и обрадован. Только сейчас он окончательно убедился и поверил, что выкарабкался, что справился, что все-таки вернулся домой.
Оживленный в летние месяцы городок, как всегда, стал по-осеннему прозрачным, застыл в ожидании зимы. В середине рабочего дня переулки были пусты. Никто не ждал автобуса у деревянной остановки, похожей на беседку из фильмов про старинные усадьбы. Никто не толпился у почтового отделения с выцветшей покосившейся вывеской. Ни старушек с собаками. Ни школьников, понуро бредущих домой. Ни одного велосипедиста, с тихим ржавым скрипом движущегося вдоль обочины. Рыночная площадь пустовала. Лавки были заперты. Между пустыми торговыми рядами сквозняк катал луковую шелуху. Только две закутанные в пуховики торговки пританцовывали на ветру возле недавно отстроенного павильона, рядом со своими вениками, яблоками, рождественскими венками и букетами искусственных роз.
Пустующий осенний городок казался капитану похожим на декорацию, составные части которой долго и кропотливо монтировали. На тротуары насыпали кленовых листьев. Ставни заперли. Двери подъездов чуть приоткрыли, чтобы были видны скрипучие деревянные лестницы, затянутые паутиной, зазывающие в сумрак второго и третьего этажей. Труппа приедет завтра. Съемки намечены на начало следующей недели. Декорация затаилась в ожидании. Только отрешенно скользящие над крышами птицы оглашали тишину жалобными скрипучими голосами.
Очень скоро капитан начал раскаиваться из-за своей затеи с прогулкой. Кажется, он не рассчитал сил, не предполагал, что настолько ослаб и утратился там, в больнице. Теперь он брел вдоль реки, подстраиваясь под ее неторопливое течение, ощущая костями свинцовый холод осенней воды. Он кое-как пыхтел мимо пришвартованных к причалам речных буксиров, катеров береговой охраны, экскурсионных корабликов, еле-еле переставляя дрожащие от слабости ноги. Огромная стая чаек, потревоженная его прогулкой, будто разбитая тарелка разлетелась серыми осколками по небу. Задыхаясь, капитан безвольным мешком обвалился на чугунную лавочку набережной. Не чувствуя рук и ног, весь в испарине, судорожно вытер лоб бумажным платочком. Через силу сделал глубокий вдох. Настырный, осмысленный выдох. Так его учили в больнице – основательно и глубоко дышать, чтобы жить. Это было унизительно и ничтожно. И все же он выполнял предписание с отчаянным прилежанием, не умея сопротивляться, еще не придумав себе ничего взамен.
Брусчатка начала медленно выкатываться из-под лавочки, в ушах звенели сиплые бубенцы, реку заволакивала сгущающаяся сизая дымка. Почти на краю обморока его неожиданно одернули и вернули назад портовые краны на том берегу реки. Похожие на ржавых пеликанов, они медленно и старательно сгружали на вагонетки бетонные плиты и огромные алюминиевые контейнеры. Они неторопливо ворочались на фоне голубого неба и портовых складов из серого кирпича, насыщая ветер оскоминой и скрипом. Увлеченный размеренными движениями вокруг сухогруза, похожего на огромную черную рыбину, капитан начисто забыл о пусковом механизме в своих внутренностях и перестал замечать свинцовую усталость, пожиравшую его ноги ниже колен.
В больнице он дал себе обещание, но на деле так и не смог сегодня дойти до моря. Там, в палате, прикидываясь задремавшим, чтобы не замечать старательную и суетливую заботу жены, он как безнадежно влюбленный рвался снова хоть мельком увидеть дельту реки, профиль порта, мол в туманной вуали, синий и оранжевый огоньки пропускных маяков. Он знал наверняка, что и на этот раз море будет сильнее, в один миг поглотит больничные воспоминания, от всего отрешит. Он и выкарабкался, вытащил себя из бездны благодаря вечному, никогда не притупляемому желанию: хоть на минуту, еще раз увидеть бескрайнее серебряно-свинцовое молчание, испещренное легкими волнами, отражающими облака в ожидании зимы.
Но теперь его ноги отяжелели, будто чугунные опоры моста. Тротуар снова пошатнулся, угрожая обернуться огромным каменным шаром. Охватила вселенская одуряющая тишина. До стыда захотелось больничной гречневой каши, хорошенько пропаренной, пересоленной, со сливочным маслом. Улочки вмиг потеряли лица. Изгороди, ворота, палисадники, крыши, кусты шиповника слились в утомительный и бесконечный путь к дому. Заколоченные и заброшенные бараки с выбитыми чердачными оконцами отступили, растеряв и утратив свои затаенные драмы. Или это ему от дурноты стало безразлично, кто в них жил, почему уехал отсюда? Больничный пакет отяжелел, словно кто-то украдкой подложил туда булыжник. Из переулка без предупреждения вырвался хамоватый ветрище, сорвал вельветовую фуражку и покатил по тротуару, будто тарелку. Капитан сник, смирился, постарался убедить себя, что ничего особенного не произошло. Ну, отправится к морю завтра, прямо с утра. Или послезавтра предпримет основательную прогулку, зайдет в канцелярию порта, потом заглянет к смотрителю, в каморку-подсобку старого маяка, превращенного временем в склад.
Миновав проулок трехэтажных деревянных бараков, которые летом сдаются внаем, а теперь временно заколочены и забыты, капитан свистел накатившей одышкой, будто закипающий чайник. На лужайке парка румяная дворничиха проворно сгребала отжившую листву в кучи, неулыбчиво пыхтя в громоздком тулупе и съехавшем до половины бульдожьего черепа платке. Хватаясь за сосновые стволы, он с торопливой брезгливостью оттирал с ладони смолу. Сбивчиво преодолел пригорок, рухнул на ледяную скамью остановки. Потом кое-как взобрался в дребезжащую маршрутку, к огромному своему облегчению не обнаружив в ней никого из знакомых. И через несколько минут уже подъезжал к дому.
На пороге он постарался встряхнуться, чтобы показаться не таким уж бледным. Он намеревался победно нагрянуть, приободрив жену неожиданным и самостоятельным своим прибытием. Он надумал подправить прогноз на будущее, все переписать в больничной карте, доказав Лиде и себе, что опасности нет и теперь все будет хорошо. Для этого он со всей силы придавил кнопку звонка. Трезвонил в дверь нетерпеливо и настойчиво, исполняя гимн окончательного выздоровления и освобождения из больничной неволи и небыли. Как раньше, как всегда, когда возвращался домой из моря. А сам с нарастающим трепетом надеялся подглядеть домашний мир и разведать, как там сейчас без него.
2Непривычно растрепанная, пахнущая ментоловым карандашом от мигрени, в байковом бордовом халате до пят, Лида застыла в дверном проеме. Обнаружив на пороге капитана, запыхавшегося, бледного, в забрызганных по колено брюках, она вся немного сжалась, как будто была застигнута врасплох за чем-то запретным. Слишком пристально вглядывалась в его лицо, пытаясь вычитать адресованное ей одной послание по знакомой клинописи морщинок, пигментных пятнышек, оспин. И совсем неумело скрывала захлестнувшие ее тревогу и нежность. От ее буравящего взгляда капитан поежился, как если бы его без предупреждения привели в рентгеновский кабинет, заставили раздеться, накинули на плечи прорезиненный жилет, набитый свинцовыми брусками. И принялись просвечивать насквозь.
Лида так и сидела за столом, прикрывая рот ладонью: притихшая, запертая, зажатая со всех сторон. Натужно улыбалась. И смотрела во все глаза. Капитан по привычке слушал вполуха. Но все равно ворчливо подметил: что-то она слишком уж старательно и размеренно, как будто заготовив заранее, докладывает о поломке нагревателя в ванной, о ранних заморозках, изглодавших не выкопанные вовремя клубни пионов и георгинов. А старухе-соседке на днях все-таки предъявили штраф за воющего по ночам пса – кто-то из соседей нажаловался, написал заявление. Теперь старуха подозревает всех подряд и уже три дня ни с кем не здоровается.
Чтобы немного растормошить Лиду, чтобы сократить распахнувшееся между ними заснеженное пространство, он спросил, как там дела на заседаниях кружка. Он и раньше так делал: улучив момент, осторожно расспрашивал про кружок. Каждый раз его неожиданный интерес вознаграждался радостью и оживлением. Как если бы с ним случилось долгожданное прозрение, пробуждение после вселенской темноты. Капитан всегда помалкивал, предоставляя Лиде возможность выговориться про кружок, потрещать без умолку о намеченной в декабре акции протеста у ворот мэрии, к которой они полгода готовились. Обычно он слушал рассказы о заседаниях как бы вполуха, хитровато потягивал чай, наискосок просматривал газету, а на самом деле дожидался, когда она разойдется и по рассеянности сболтнет, кто еще туда ходит, кто из знакомых в этой организации задействован. Позже, встречая на улице рассекреченных участников, капитан многозначительно ухмылялся. Пытался разгадать, что на самом деле подталкивает в кружок томную даму неопределенного возраста, чей фарфоровый профиль белеет в витрине магазинчика шляп, лунно мерцая прохожим площади с кинотеатром и памятником. Что заставляет посещать кружок сторожа библиотеки, бывшего столичного хиппи по прозвищу Архангел Михаил с необъяснимыми черными дырами в биографии, который в пятьдесят так и не отважился отрезать хвост-напоминание о бас-гитаристе из далекого прошлого. Что влечет туда смотрительницу салона зеркал, смешливую шатенку с ямочками на щеках. Но если уж тайные причины этих людей можно было себе придумать, то пойди, разгадай, распутай, что подтолкнуло участвовать в этой затее приземистого и угрюмого продавца колбас из крытого рынка, молодого учителя пения из местной гимназии и старушку-садовницу скверика возле набережной. Капитан все время ждал, но не решался спросить Лиду напрямик, посещает ли кружок его приятель, смотритель маяков. Скрытный финн за время знакомства не раз удивлял капитана способностью утаивать целые периоды своей жизни, неожиданно обнаруживая потайные ящички прошлого, будто шкаф, призванный до поры до времени утаить притихшие в секретных отсеках марки, бусины, лезвия, письма и потемневшие от времени гильзы.
Капитан постепенно сумел разведать, что кружок протестных вышивальщиц и отчаянных общественных кружевниц учрежден в городке лет пять назад. Узнав о появлении тайного ордена благородных рукодельниц, Лида беспрекословно поверила в его необходимость и сразу же примкнула. В юности она вышивала по схеме салфетки, вязала варежки и шарфы с орнаментами – матери и сестре к Рождеству. Тайком присоединившись к кружку, она долго и самоотверженно скрывала свое новое увлечение, выдумывая оправдания, почему задержалась на работе, куда отлучилась субботним вечером, где пропадала целый день рождественских каникул. Призналась приблизительно через год. За все время существования кружка она ни на миг не утратила воодушевления, не пропустила ни одного заседания, которые случались в разных местах и в разные дни, чтобы никто не смог выследить и нарушить покой собраний.
Капитан кое-как задним числом разведал, что зимой они собирались в пустующем классе гимназии, а летом – в заброшенной оранжерее. Как-то раз вышивали в радиомастерской, потом – в гримерной концертного зала. В раздевалке бассейна. В столовой рыбоконсервного комбината. Как бесприютные, скрывающиеся любовники или мелкие заговорщики, убегавшие от преследователей, кружковцы постоянно меняли адреса. Внимательно изучив географию их тайных встреч, нетрудно было догадаться, что кружок посещают самые разные жители городка. Каждый из них придумывает, где бы собраться в следующий раз, подыскивает помещение. И скоро они снова все вместе вяжут и плетут кружева под неуловимый шепот вечернего снегопада, под шум ливня. Потом, среди ночи, несколько самых смелых активистов прикрепляют к забору мэрии кружевные салфетки и носовые платки с вышивкой, требующей закрыть лакокрасочный завод. В другой раз через центральную улицу городка натягивают плакат, буквы из разноцветных ниток призывают не мусорить в приморском парке. Иногда участники собираются по субботам, возле центрального супермаркета. Раздают прохожим маленькие льняные салфетки, каждым своим стежком и узелком умоляющие прекратить уничтожение сосен возле эстакады, на въезде в городок.
Чтобы убедить Лиду в искреннем интересе к делам кружка, капитан изредка вручал ей бархатную коробочку с серебряной брошкой (недорогим, но долгожданным подарком), шутливо спрашивая: «А как поживает ваша мадемуазель Аморелла?» Затаившись, он с тайным удовольствием наблюдал, как озаряется Лидино лицо: на щеках начинают поигрывать задорные ямочки, в глазах мерцают давно угасшие мальки-смешинки. Она скидывала два десятка лет, становилась непоседливой и смешливой. Тараторила без умолку – бесхитростно, безбрежно. В такие минуты капитан снова переживал далекую волну тепла, некогда подтолкнувшую их друг к другу. Ему хотелось прошептать «родная». Но он ничего не говорил, а только сосредоточенно кивал, улыбаясь в усы. Это кратковременное потепление между ними и неожиданное, так необходимое воскрешение их прошлого всегда происходило благодаря бывшей столичной поэтессе по прозвищу «мадемуазель Аморелла».
Крашеная блондинка с тяжелыми волосами, похожими на расплетенные веревки каната, в молодости с азартом меняла мужей и политические убеждения. Была в столице борцом за сокращение рабочего дня, сторонницей разрешения курить в общественных местах, вдовой банкира, женой студента, защитницей бездомных животных. Подчас она умудрялась совмещать несколько взаимоисключающих ролей, на каждом шагу умело создавая скандалы, провоцируя сплетни, устраивая публичные драки, всегда и всюду с упоением позируя фотографам.
Потом случилось апрельское утро, напоминавшее свежестью бутон полевого колокольчика. В маленьком кафе на площади перед собором, который накалывал облако на шампур готического шпиля, величественно попивая чай, мадемуазель Аморелла посмотрела на свои руки. Она осеклась, но все-таки отхлебнула еще глоточек. Со ступенчатым фарфоровым хрустом поставила чашку на блюдце. Посмотрела на свои руки еще раз, чуть приблизив к окну, к свету, но снова не смогла узнать их. Тонкие длинные пальцы, безупречный маникюр, перстень с нефритом в тот день лишь подчеркивали подступающий сентябрь этих рук, не знавших усталости, тяжелой работы и даже домашнего труда. Это по-прежнему были цепкие паучьи руки, которые никогда не выпускали свое. Но одновременно это были чуть грустные отцветающие руки. Совсем чужие. От которых хотелось отвернуться.
В тот день мадемуазель Аморелла впервые в жизни запнулась, почти растерялась. Она рассеянно забыла о всех делах, поскорей расплатилась за чай, схватила сумочку и отправилась скитаться. Бродила по извилистым улочкам старого города бледным отчаявшимся призраком, потерявшим память, лицо и имя. К вечеру она все же сумела кое-как убежать от отчаяния, собраться заново, склеить свое подобие из уцелевших осколков. Последующие несколько месяцев она самоотверженно держалась, не подавая виду, что знает о наступлении своей осени, что чувствует повсюду ее сырой, тревожащий ветер. Умело воссоздавая былые ужимки, она царственно выгуливала обширное собрание платьев, оголяла монументальные плечи, повиливала бедрами и с завораживающей хрипотцой хохотала перед изумленными зрителями своей жизни. И все же после того дня она все чаще настороженно умолкала, панически выискивая в жестах и ухмылках знакомых неуловимые подтверждения своего нарастающего листопада.
Однажды в щедро осыпанный пыльцой и солнечными бликами июльский полдень, оставив на память от своей поэтической и светской жизни лишь легкомысленное прозвище, мадемуазель Аморелла въехала в приморский городок. Не подавая виду, что на самом деле бежит сюда от отчаяния, что старается обмануть свою осень и как-нибудь перехитрить судьбу, она гордо выпрямилась за рулем старого «Мерседеса» с открытым верхом, чуть вздернула носик, чтобы ветер трепал синий кружевной шарф и беспечно ворошил золотые локоны победительницы.
Она торжественно ворвалась в городок в сопровождении грузовика, до скрипа набитого мебелью, платьями, сапогами и босоножками с пиками и шпагами воинственных каблуков. Незадолго до переезда мадемуазель услышала по радио своеобразное напутствие, которое показалось ей весьма удачным для начала пятнадцатой по счету новой жизни: «Намеревался встретить в этих тихих местах свою старость». Заучив эти слова наизусть, постепенно сроднившись с ними, как добродушная и практичная мачеха, мадемуазель Аморелла глубокомысленно произносила их новым соседям и встреченным на улицах старушкам городка.
– Вот, – исповедовалась она продавщице бакалейной лавки, – сбежала от выхлопов и гудков. Долго сопротивлялась, но все-таки сумела вырваться из цепких лап большого города. А здесь меня дожидался прабабушкин дом, родовое гнездо. Небольшая деревянная вилла – жаль, что далековато от моря. В детстве она казалась нам с сестрой настоящим замком: сиреневая вилла с белыми ставнями, по которой гулял ветер надежд и предчувствий… Сестра умерла пять лет назад. Все мои умерли. Теперь мой дом серый от времени и дождей. Старый. И такой холодный. Даже не знаю, что с ним делать, за что хвататься. Постепенно перестрою. Заменю рамы. Чуть-чуть утеплю. Но это со временем. А пока отдохну. И настроюсь встречать в этих тихих местах свою старость. А как же иначе, милочка. Она никогда не спрашивает перед тем, как нагрянуть. И объявляется неожиданно. Я сама-то еще ничего о ней не знаю, слышала, что так говорят. Но, похоже, лучше уж подготовиться, чем позволить гостье застать нас врасплох.
В этих смиренных сиреневых монологах, очень расположивших к ней прохожих и соседей, мадемуазель Аморелла умалчивала о своих тайных надеждах. Во-первых, встретить в городке скромного провинциального холостяка. И, конечно же, воодушевиться здесь, в провинции, новыми политическими убеждениями. Без которых мадемуазель ни дня прожить не могла. Без которых с ней случались приступы астмы и затяжные мигрени. Потому что больше всего на свете она боялась скуки и повседневности.
Присмотревшись к неторопливой жизни городка, мадемуазель скоро переоделась в шуршащий, вжикающий при ходьбе спортивный костюм. Немного погодя она остригла волосы в маленькой парикмахерской, недалеко от бульвара, где два старых скрипучих кресла и мутная витрина по вечерам разбрасывает на брусчатку леденцы лилового света. Через некоторое время соседкам казалось, что мадемуазель всегда, безвыездно жила здесь.
Обживая городок, она с первого дня принялась изучать слухи, поверья и легенды, при любой возможности допрашивая всех встреченных на пути мужчин. Со временем ей удалось выпытать многие местные тайны. Например, про торговку босоножками и шлепанцами с пятничного «большого» рынка, которая однажды поколотила цыгана-предсказателя, попытавшегося украсть с лотка резиновые сапоги. Она узнала о художнике с мировым именем, который приезжает в городок, чтобы подвести итоги жизни и сверить часы, ведь он уверен, что время здесь течет иначе, чем во всем остальном мире. И, конечно, от Амореллы не укрылась история памятника, что так гордо и одиноко стоял на небольшой пятиконечной площади, возле кинотеатра, библиотеки и магазинчика шляп. Лет двадцать назад этот памятник из серо-розового мрамора установили в честь героя, который прошел три войны, а потом стал авиатором и многие годы участвовал в испытании дельтапланов и самолетов. За изваяние скульптору была вручена правительственная награда. Что вовсе не мешало девушкам городка каждое лето, в день солнцеворота, украшать каменную голову героя венком из полевых ромашек, васильков и колокольчиков – не фамильярность, скорей бесхитростная и безбрежная девичья нежность.









































