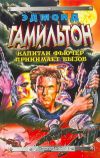Текст книги "Чувство моря"
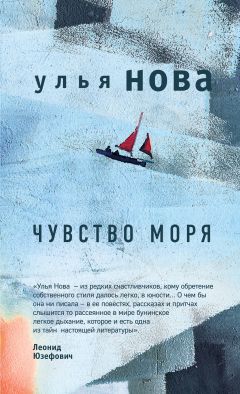
Автор книги: Улья Нова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
На обратном пути внимание Зои было поглощено рекламным буклетом, который прилагался к билету. Там говорилось, что новый комфортабельный пароход «Фрейя» имеет три палубы. Помещения лайнера рассчитаны на сорок пассажиров первого класса, восемьдесят пассажиров второго и двести пассажиров третьего класса. Все каюты и палубы освещаются электричеством. Пассажирское судно имеет четыре трубы, три мачты, оснащено радиотелеграфом системы Де-Фарест и движется за счет пяти паровых машин. Буклет утверждал, что двухвинтовой океанический пароход назван в честь скандинавской богини Фрейи. Зое показалось хорошим предзнаменованием, что древняя богиня любви имеет оперение сокола, плачет золотыми слезами, покровительствует в любовных делах и иногда помогает при сборе урожая. В какой-то миг Зоя совсем утратила сомнения и принялась обдумывать, что возьмет с собой в путешествие, а что умышленно забудет здесь, в прошлом.
Поначалу ей казалось, что плавание на ту сторону моря – отличная возможность оставить за спиной все свое слезное, стыдное, тесное. Она полагала, что плавание на ту сторону моря обязательно нужно совершить налегке, оставив в темном и холодном теткином доме, позабыв в старом бабушкином сундуке грустные шерстяные платья, медлительные тяжелые башмаки, скучающие безнадежные шляпки. Но потом Зоя все-таки уступила прошлому, она не удержалась, расчувствовалась и уложила с собой, чтобы увезти на ту сторону моря, невесомые юбки, кружевные сорочки, брошки и серьги – в память о бабушке, в память о комнатке под крышей, где жила с самого детства, в память о городе на мутной реке, по которой сновали неторопливые лодки и шумные суетливые пароходики. После придирчивых, полных пререканий с прошлым сборов Зоины пожитки наконец уместились в бордовый саквояж из телячьей кожи, который обещал прослужить еще многие годы в путешествиях по миру. Вполне возможно, при аккуратном обращении, этот саквояж в будущем мог бы оказаться полезным и одной из дочерей или внучек Зои. А еще она везла с собой на дальнюю сторону моря лимонное дерево – безбрежную надежду на удачу в деньгах и во всех начинаниях. Зоя ожидала, что ее дерево будет жить на просторной террасе с видом на гавань яхт или обоснуется в углу прохладной мансарды, где всегда светло, где солнце играет в витражных стеклах и рассыпает монетки бликов по белой кружевной скатерти чайного столика. Зоя была уверена: через год-другой ее дерево вырастет почти в два раза, станет ветвистым, зацветет. А потом принесет плоды, которые можно будет добавлять в чай и в яблочный джем, чтобы угощать новых подруг, заботливых родственниц и болтливых улыбчивых соседок.
В первый день плавания Зоя не выходила из каюты, кропотливо соображая, где лучше подлатать, где уместнее приврать и приукрасить свое недавнее прошлое, чтобы оно оказалось невесомой шелковой сорочкой невесты с крошечными и частыми перламутровыми пуговками от ворота до пупка.
Много лет спустя безутешная Зоя привидением металась в потемках наглухо забитого и заброшенного костела, вздыхая, постанывая, завывая от горя, снова и снова перетряхивая подробности своего черного 24 марта 1908 года. Ее штормящая душа при желании могла бы воспроизвести любые происшествия того утра, всю картину жизни парохода «Фрейя»: скрипы мачт, смех и шепот в любой каюте, прогулки пассажиров по верхней палубе, безупречный и безжалостный флирт одной замужней дамы с юнгой, пререкание матросов, чахоточный кашель судового врача, щербатый смех голых по пояс кочегаров, обливавшихся холодной водой из шланга, когда от жара темнело в глазах. Но бесприютная Зоя все равно выбирала из толщи случившегося, выплетала из богатой симфонии скрипов и слов одну скудную ноту. Она снова и снова переживала горестное открытие, вмиг закутавшее ей голову пыльной парчой разочарования, – на лимонном дереве завелась тля. В то утро, на самой середине моря, Зоя неожиданно заметила эти омерзительные липкие катышки в том самом месте, откуда должна была разрастаться новая ветвь, в почке будущих лепестков. Она сощурилась, нацепила на нос маленькое пенсне, вмиг сделавшее ее на пару десятков лет старше. Она принялась торопливо обследовать дерево и действительно обнаружила липкие катышки личинок тли на верхушке. Это неожиданное и неприятное открытие обожгло ее, заразило непримиримой тоской, которая стала безжалостно трепать внутренности, вынуждая нестись наутек, без оглядки, одновременно во все стороны света: на север, юг, восток, запад. И от которой нигде не существовало спасительных укрытий.
Почувствовав бескрайнюю безысходность, Зоя опустила горшок с деревом на пол, уронила руки, замерла посреди каюты, вглядываясь сквозь исполосованный штрихами дождя иллюминатор в свинцовую, всклокоченную даль моря. Она на миг выпала, исчезла из узкой душной каюты. Она на миг ускользнула, обманув все печали, досадные томления и предчувствия. Она почувствовала в этот единственный миг своей жизни истинную и бесплотную вечность, будто надгрызла карамельку и ощутила на языке холодящий мятный ликер начинки. Холодноватая невесомая вечность, происходящая повсюду вокруг, таила бездны света, холод морской, неспешное порхание крупной рыбы в темных переливчатых глубинах, парение чайки в воздушных потоках. Тишь и убежденность вселенского равновесия. Зоя засмотрелась и растворилась. Она стала всем этим на одно-единственное мгновение.
А потом, неожиданно и свирепо, все вокруг дернулось, рванулось, потеряло свои места. Потом все покатилось, посыпалось, заскулило, завизжало. И вот уже нестерпимо саднило в затылке, до головокружения, до тошноты. А потом все разбилось вдребезги, хлынуло осколками зеркал, осыпалось вихрем пуха, снопом ледяных брызг и сдавило, и стиснуло, предупреждая, что не видать невесомой белотелой Зое своего жениха, никогда-никогда не ворошить нежными прозрачными пальчиками рожь его непослушных рыжеватых вихров.
Очевидцы утверждали, что в тот день огромная свирепая волна ни с того ни с сего родилась среди безветрия и спокойствия и встала во весь свой исполинский рост в воротах бухты. Злодейка-волна алчно ухватила в пенную необузданную ручищу причаливающий пароход, названный в честь древней и воинственной скандинавской богини любви. А потом вторая такая же волна крутанула четырехтрубный корабль, со всей силы подтолкнув его на подводные скалы. Через мгновение потерявший управление комфортабельный лайнер, пробитый в четырех местах, с Зоей на борту, с ее лимонным деревом, с бордовым саквояжем, с тщательно отобранным и уложенным для путешествия прошлым, завалился набок. Потом накренился еще сильнее. И вскоре затонул, утянув вместе с собой на дно пассажиров комфортабельных кают первого класса и усталых людей из тесных многолюдных закутков третьего, безгранично очарованного замужней дамой юнгу, кашляющего судового врача, изможденных за три ночи кочегаров и всю остальную команду. Затонул, названный в честь древней скандинавской богини любви, на глазах у встречающих и ждущих, среди колючих ледяных брызг, потоков косого ливня и сердитых волн, неожиданно завладевших морем.
С тех пор в полутемной тоскливой нише костела, под медной табличкой с едва различимой датой, даже в самые безбожные и мутные времена таились живые цветы и потрескивала свеча, примирительно и печально вытанцовывая огоньком на сквозняке.
Из всех пострадавших при крушении парохода одна только Зоя не смогла принять выпавшее на ее долю. От обиды и горечи ее душа затосковала. Упрямо ухватившись за этот мир, Зоя была намерена постичь тайные, явные и мистические причины случившегося. Из-за этого она так и не обрела вечный покой, не достигла блаженного и освобождающего небытия. Зоя хныкала, упрямо отказываясь верить, что все случившееся с ней – непоправимо и безвозвратно. Она снова и снова пыталась расследовать ошибку, распутать случайности и незначительные причины, сцепившиеся меж собой в невидимую нить судьбы.
Дни и ночи напролет безутешная Зоя скиталась в забитом костеле, откуда по идеологическим соображениям властей большой страны изгнали бога. Привидением бродила она по невидимой тропке среди мусора и пробивающихся кое-где кустов полыни, не умея принять невыносимую, навсегда неизменную невозможность собственной жизни, любви и счастья. Как и многие другие не умеют смириться с уродливым и неожиданным креном судьбы, который они и ждать не могли, и помыслить боялись. Как и многие живые, там, в городке, в часы вздохов и всхлипов Зои продолжали из всех возможных чувств воссоздавать в себе безнадежное и упрямое ожидание: почтового корабля, стука камешка в стекло веранды, выкрика с улицы, сероглазого взгляда, зова сквозь ночь. Продолжали отчаянно и безнадежно отправлять эти маленькие коробочки, перевязанные алой лентой, по одному и тому же адресу, на каждое Рождество. Или мыть полы, драить их до полуночи в упрямой надежде на гостя, который не явится ни сегодня, ни завтра, ни через год. Никогда. Никогда.
Шло время, большая страна распалась, власть сменилась, молиться снова разрешили. Было получено долгожданное предписание столичных чиновников, которое несколько недель путешествовало по лабиринту кабинетов и канцелярий городка. Потом наконец с окон костела отбили доски и фанерные щиты. Помещение проветрили сворой окрестных сквозняков. С помощью свечей и молитв, шепота и огня, детского хора, трех подслеповатых старушек и глубоко верующего дворника Иннокентия из костела изгнали горестное и безутешное привидение – на ближайший пустырь возле детского парка. За каких-нибудь полгода помещение очистили от плесени, отремонтировали, отреставрировали, освятили, с тех пор костел из почерневшего кирпича, будто огромная музыкальная шкатулка, по нескольку раз в день оглашал городок своим отрешающим перезвоном. На двух его башенках, в память о превращениях здания, вместо крестов так и остались позолоченный флюгер в виде всадника и другой медный флюгер – роза. Иногда, повернувшись боком, один из них отражал солнце и становился цвета темного пепла. Для суеверных жителей городка изменение цвета флюгеров каждый раз служило предостережением или знаком грядущих невзгод. Говорят, в день, когда пришло известие, что возле южного мола затонул катер береговой охраны, ранним утром на городок набросился колкий непримиримый ветрище, оба флюгера нехотя поддались, скрипнули, развернулись. И наблюдателям, ждущим у остановки своих маршруток, ненадолго показалось, что флюгеры стали черными и неумолимыми, будто пиратские флаги.
А бесприютное привидение Зоя до сих пор бродит по пустырю. Сбивчиво, почти незаметно притаптывает тут и там снег, тихонько, почти неслышно шуршит опавшей листвой и сосновыми иглами. Летними вечерами вокруг Зои увиваются траурницы. По ночам вокруг нее скорбным серым нимбом порхают пяденицы и мотыльки. Но Зоя не замечет ничего вокруг. Она снова и снова предпринимает расследование ошибки, распутывает цепь случайностей, прослеживает тайные и мистические причины кораблекрушения, отнявшего у нее любовь. Не в силах принять несчастье, иногда она тихонько стонет, увлеченная своей вселенской невозможностью, переполненная своей непрекращающейся скорбью, разбитая своей неизлечимой и бескрайней обидой на судьбу.
Когда-то давно, еще в юности, узнав о безутешном привидении городка, капитан мечтал придумать утешительный маневр, который бы позволил отвлечь Зою от скорби и вызволить ее душу из бескрайнего омута траурных дум. Последние дни, когда лихорадка хоть чуть-чуть отступала, он пытался верить, что спасительный выход все же найдется, что безутешную душу Зои еще можно отвоевать у бескрайней обиды, как-нибудь отвлечь, успокоить и отпустить в звездное небо над морем.
2На ратушной площади вторую сотню лет растет ввысь, тянется к облакам квадратная лютеранская церковь Святого Николая. Издали она похожа на именинный торт в бледно-желтой глазури. На фонарных столбах возле ее каменного крыльца по ночам загораются два трубящих ангела, а над входом мерцает надпись: «Отдаю вам свой покой».
Лида ходила в эту церковь еще девочкой. Ее рассеянная, притихшая, оглушенная тревогами мать спешила туда через весь городок в единственных выходных туфлях, таких заношенных и растянутых, что мысы приходилось набивать ватой. Крепко ухватив за запястья Лиду и Соню, не обращая внимания на то, что они там кричат и мямлят, мать настойчиво волочила маленьких дочерей за собой. В мятых платьицах, с наскоро заплетенными косичками, похожими на растрепанные колоски, девочки бежали за ней, пуская пузыри из слюны, подзывая дворовых кошек, спотыкаясь о булыжники и пробившиеся среди брусчатки пучки травы. Иногда они втроем еле-еле пробирались по улочкам, захлебываясь порывистым ветром, предвещающим приближение урагана, своенравной и безжалостной госпожи Алевтины к городку.
В мутные дни, когда их отец скитался на торговых судах то в Норвегию, то в Америку, то в Марокко или пропадал в неизвестности, они спешили в церковь, чтобы укрыться от надвигающихся невзгод, они убегали из дому на целый день в поисках покоя и безветрия. Несли туда, будто в огромной неподъемной чаше, трепещущее предчувствие горя. И всегда возвращались назад в сумерках – молчаливые, зыбко умиротворенные, укрепившиеся в убеждении, что ничего плохого на этот раз не случится.
Капитан любил сизый дребезжащий воздух этой церкви, всегда чуть предвечерний, будто небольшой зал вот-вот утонет в сумерках. Он всегда заново улавливал, с радостью узнавал витающий внутри аромат времени и отсыревшего дерева. Строгие медальоны Богоматери и святых. Скромное деревянное распятье, всегда украшенное живыми белыми лилиями. И ряды скамеек со сгорбленными тут и там спинами прихожан.
Когда его только начали простреливать эти назойливые колики, будто невидимый подросток целился в воробьев из духового ружья, но попадал капитану в бок, жена все чаще стала ходить в церковь с хромой старухой-соседкой. Но раньше, если только капитан был на берегу, они наведывались туда вместе. Лида – зажигать поминальную свечу по отцу, вспоминать его сиплый голос, и то движение, когда отец ерошил волосы, раздумывая над кроссвордом, и как он пел, и как пил, и как торжественно возвращался назад из плавания и из частых своих загулов. В церкви она становилась благоговейно-медлительной, растерянной, оглушенной и от этого слегка нездешней. Как будто, оказавшись в неведомом мире, на некоторое время теряла память, а вместе с ней утрачивала привычные жесты, будничные ухмылки. Потом Лида тихонько перешептывалась о своих бесхитростных тайнах с расплывшимися тетушками в выходных платьях из пестрой синтетики, которые чаще всего оказывались ее бывшими одноклассницами или давними коллегами из лицея.
Капитан послушно сопровождал ее, облачившись в выходной синий костюм. Изображая покорность, он терпеливо ждал в стороне, стараясь не услышать ни словечка из ее разговоров. Он стоял почти навытяжку, как часовой, с застывшим на лице снисхождением безбожника, вынужденного приходить сюда по многолетнему и бессловесному семейному принуждению.
На самом деле в такие минуты капитан кропотливо припоминал и бережно перебирал свои выдуманные, но так никогда и не преданные бумаге послания. Они почти целиком хранились в его памяти, записанные с внутренних монологов на невидимые магнитофонные ленты. Еще выпускником мореходного училища, ломким угловатым пареньком с мягкими усиками, продолжавшим вырастать из рубашек и пиджаков, в свои первые плавания он брал тетрадку в коричневой обложке. Со временем она пропахла машинным маслом, растрепалась на страницы, как нахохленная старая чайка, готовая вот-вот вырваться в иллюминатор каюты и в исступлении метаться между морем и небом. С пятнами керосина и ваксы, дважды попавшая в сильный шторм, не раз облитая кофе, с мутным отпечатком помады, с расплывшимся адресом на краешке пятой по счету страницы, – увы, теперь тетрадка пропала без следа. Может быть, отлеживалась и сырела в одном из многочисленных ящиков гаража. Или осталась погребенной в прошлом, под нескончаемым завалом дней и событий.
Среди моряков, рыбаков и радистов команды скоро прошел шепоток, что он пишет стихи. Прокатываясь по палубе, сипя по углам, слушок обрастал подробностями, как если бы к словам прилипли песчинки, осколки ракушек, оброненные чайками перья. Скоро всем стало известно, что он тайком сочиняет стихи перед сном, а потом урывками записывает в какую-то тетрадку, которую хоть раз мельком видел каждый, но никто так и не сумел выследить и отнять. Утверждали, что он посвящает стихи одной даме, которая на десять лет старше его, не так давно овдовела, с двумя мальчиками-близнецами. Будто бы она – бывшая жена начальника общежития мореходного училища, в котором он жил несколько лет во время учебы. Разведали и огласили, что он привозит на берег из каждого плавания не менее десяти стихотворений, но почему-то никогда не отправляет их любимой. Может быть, боится быть отвергнутым. Опасается насмешек. Или по складу характера таков, что до поры до времени предпочитает страдать, до последнего скрывает чувства, пока не придавит, пока не прижмет нестерпимо или пока неожиданно не отпустит. К этому кое-кто добавил, что у тайной дамы волосы цвета темного нешлифованного янтаря и еще имеется родимое пятно в форме маленького крыла чуть ниже левой ключицы. Иногда утомленные качкой, измученные штормом, пропахшие рыбой, продрогшие каждой клеточкой тела матросы и рыбаки наперебой упрашивали и грубовато требовали, задирая и пихая в плечо, чтобы он почитал стихи, а не то угрожали разыскать, отнять заветную тетрадку и устроить чтения вслух всей командой.
Чувствуя нарастающее любопытство и почти звериный азарт, он прятал тетрадку в коридоре нижней палубы, за вторым от лестницы спасательным кругом. Он писал в нее редко, в основном по ночам, когда только-только зарождался обещавший окрепнуть к утру ветер-предвестник. Он писал в предчувствии урагана, ощущая повсюду растревоженное, окутанное обозленными штормами море. Запирался в душевой, выводил ручкой под мерное капанье крана, в мутном свете единственной мигающей лампочки: «Уважаемый господин чудотворец, здравствуйте!»
Послания складывались у него в течение всего дня, по крупицам, среди беготни, криков и перебранок. Он носил их в себе, будто полупрозрачных мерцающих мальков, выловленных на мелководье. А потом, улучив удобный момент, вылавливал и записывал. С каждым таким посланием страх моря чуть-чуть покидал его. Или трепещущий простор вод, учуяв его слова, все же чуть уступал, неохотно подчиняясь его воле.
Несколько месяцев спустя он начал иногда забывать, а потом умышленно оставлял коричневую тетрадку на берегу, чтобы ее не выкрали, чтобы случайно не прочитали его послания. За всю свою жизнь в городке он старательно перепрятывал тетрадку несколько раз, пока не забыл, где она. Возможно, его послания, однажды пойманные и сохраненные на страницах, просто исчезли, когда необходимость в них пропала. С тех пор по ночам, растянувшись на койке каюты, стараясь не прислушиваться к храпу, вздохам и покрикиванию команды во сне, он внимательно и тревожно вглядывался перед собой в колышущуюся темень. Ощущал море каждой клеточкой тела, предчувствовал крепнущий, звереющий шторм и шепотом наговаривал новые послания на невидимые магнитофонные ленты, целые бобины которых хранились с тех пор в его памяти многие годы: «Уважаемый господин чудотворец, здравствуйте! Докладываю: я – в полном порядке».
Однажды, когда он нашептывал одно из своих посланий на самой середине моря, еще совсем чужая, еще незнакомая Лида до позднего вечера задержалась в лицее. Ученики и учителя разошлись по домам, уборщицы ушли, ночной сторож должен был объявиться к полуночи. Она оказалась совсем одна в просторном здании с гулким эхом и высоченными потолками. И вдруг почувствовала себя неуязвимой в этом темном особняке бывшего госпиталя, похожем на крепость из массивных серых камней.
После университета Лида несколько лет преподавала в лицее ботанику и дважды в неделю по вечерам читала лекции для цветоводов. В тот вечер, за час до начала лекции, рассеянно прислушиваясь к телефону, укутавшись в растянутую шаль, еще не его Лида, еще чужая рыжеволосая девушка задремала на проходной, за столом ночного сторожа при свете тусклой настольной лампы, освещавшей синий сумрак вестибюля. Окутанная запахами мела и пыли. Окруженная дребезжащей тишью безлюдных коридоров, затаенной немотой запертых до утра классов. Она дремала, ощущая кожей вытесанные из прибрежной скалы камни стен, приглушающие звуки, притупляющие тревоги. Вполне возможно, эти серые камни и в самом деле могли обращать время и тревоги вспять, лишая их сил. Прочувствовав насупленную мощь этого здания, она впервые в тот вечер неожиданно забылась, отвлеклась, все отпустила. И душа ее на несколько минут обрела легкость перышка.
За полгода до этого Лидин отец ковылял из забегаловки, куда он ежедневно относил пенсию и все, что удавалось одолжить у соседей. Он возвращался около полуночи, хватаясь огромной бурой ручищей за деревья, заборы и фонари, чтобы удержаться на ногах и все же добрести до дома. Вполне возможно, он шатко ступал по набережной реки, пьяный, затуманенный, уверенный в том, что бредет по палубе корабля, угодившего в шторм. Он хмуро и неохотно объяснял это тоской по морю, от которого его беспощадно отлучили, как отработанную, поломанную, никому не нужную рухлядь. Он часто жаловался соседям, прохожим, булочнику, всем подряд, что его, еще молодого, полного сил, жестоко высадили с корабля. Сбросили, будто мешок, набитый тряпьем. Пихнули в кулак свернутый стольник и выпроводили на берег – стариться, рассыпаться, медленно гнить в маленьком безлюдном городишке, где ему тесно, где ему некуда пойти и не с кем поговорить по душам. Вскоре за пьянство его уволили со склада, который он сторожил всего несколько месяцев. Так и не сумев найти новую работу, пристыженный и озлобленный, он целыми днями маялся по дому, срывая зло на дочерях. Иногда всхлипывал и даже плакал, утверждая, что все еще чувствует под ногами море, его нежные переливы, его зыбкую дрожь.
От знакомых и соседей впоследствии скрыли, что в ту ночь по пути домой отец уснул на чугунной скамейке набережной, сжавшись, как бездомный пес под вихрями снежинок. Через три дня он умер в больнице от воспаления легких, оставив жене и дочерям в наследство свои многочисленные долги и несколько залатанных на локтях тельняшек, не годившихся даже на половые тряпки. Огромный по тем временам долг каменной глыбой взгромоздился на хребты его женщин, отчего совсем скоро каждая из них стала ссутуленной и печальной. От навалившейся тяжести отцовского долга Лида в ту осень перестала петь. Она почти забросила вышивание. Она стала одеваться в серое, будто превратилась в тень своих неожиданных и непосильных бед. Этот камень-долг давил, даже когда она спала, нагоняя в ее сны промозглый речной туман. Всю ту осень Лида постоянно мерзла, начисто растеряла мягкие ямочки на щеках и золотые искорки-рыбки, мерцавшие в ее глазах с самого детства.
Дождавшись сумерек, они с матерью каждую среду бегали в ближайший ломбард. Стараясь незаметно проскользнуть по темным улочкам, торопливо носили туда ковры, настольные лампы, выходные платья недолгой счастливой молодости матери, а еще – мореходные книги отца, фарфоровую супницу из Германии, несколько пивных кружек. Потом они отнесли в ломбард мельхиоровые вилки и ножи, которые когда-то лязгали за свадебным столом, а после всего несколько раз извлекались из буфета на Рождество. Они отнесли в ломбард отцовские кители, наручные часы, запонки, компасы, астролябию и зажимы для галстуков. Иногда Лида ездила в ломбард на соседском велосипеде, который скрипел на всю округу, неистово тарахтя по брусчатке. Иногда Лиде начинало казаться, что на самом деле они предательски носят в ломбард кусочки прошлого, отламывая, отщипывая и безжалостно откалывая от него то тут, то там, не оставляя ничего на память, растрачивая все, что у них только и было в жизни. Возможно, именно поэтому от самой Лиды той осенью осталась только настороженность. Бескрайняя стыдливая тяжесть. И неловкость человека, скованного тесным и неновым костюмом учительницы ботаники, вынужденной брать по пять, а то и по восемь лишних уроков в неделю.
В тот вечер в пустынном лицее она впервые после смерти отца наконец забылась, рассеялась, задремала как прежде: без тяжести, без отчаяния. Только тишина дребезжала повсюду, только застоявшаяся каменная прохлада стен холодила и нагоняла прозрачные невесомые видения, только серо-зеленый сквозняк вился в пустых коридорах. Умиротворенная, доверившаяся позднему вечеру, она на несколько минут растеряла себя в вязкой, теплой топи сна. А потом кто-то погладил ее по ладони. Совсем легонько потянул за рукав накинутой на плечи шали. Очнувшись, задохнувшись от неожиданности, еще совсем чужая Лида ожидала увидеть в вестибюле робкого цветовода, решившего заглянуть пораньше, как всегда притащив луковицы гиацинтов или усы клубники ей в подарок. Она ожидала увидеть Пашку-отличника, посещавшего лекции со своей маленькой сгорбленной бабушкой, озадаченной тем, как лучше хранить луковицы тюльпанов и стоит ли выкапывать георгины под зиму. Но вместо них в вестибюле оказался незнакомый старик. Он был в мятом и выцветшем дождевике до пят. Седой, с бородой и длинными перепутанными волосами, он стоял между столом ночного сторожа и входной дверью, запертой изнутри на тугую ржавую щеколду. Незнакомый старик, неизвестно как оказавшийся здесь, нерешительно переминался с ноги на ногу и нежно разглядывал Лидино лицо, как если бы она была только-только проснувшейся пятилетней девочкой. Он ничего не говорил, ни о чем не спрашивал, даже не улыбался. И смотрел на нее – ласково, жалостливо. «Странный и непростой», – вот и все, что Лида отважилась подумать. А потом ее насквозь обожгло незнакомое немое волнение, от которого она растерялась, почти растворилась, не умея найти слов, не в силах собой управлять. Она замерла и тоже смотрела на него – покорно, доверчиво, – как будто и вправду ненадолго стала угловатой и пугливой пятилетней пигалицей с веснушками и скрипучими капроновыми бантами на тоненьких рыжеватых косичках.
Через неделю после этого случая по городку метался беспокойный мартовский ветрище. Спеша на большой пятничный рынок, прорываясь бочком, чтобы ветер не хлестал по лицу, Лида заметила посреди площади, на брусчатке, пеструю трубочку, похожую на самокрутку. Почему-то остановилась. Оглядевшись по сторонам, подобрала юбку, опустилась на корточки. Пестрая трубочка оказалась скрученной из четырех смятых купюр. Кто-то скрутил их туго-натуго и перетянул черной резинкой. Через некоторое время еще незнакомая, еще не его Лида металась по площади и окрестным улочкам, выспрашивая прохожих, не потерял ли кто-нибудь «вот это». И распахивала ладонь, на которой лежали растрепанные, чуть подмокшие деньги. Старики внимательно заглядывали ей в глаза. Разрумяненные на ветру тетушки с добродушной лукавинкой улыбались и качали головами.
На следующий день они с матерью долго препирались, но потом все-таки успели перед самым закрытием выкупить из ломбарда отцовский китель и запонки с ониксом – так от него осталось хоть что-то на память. Потом они раздали половину своего непосильного долга. Найденных денег как раз хватило. И тогда мягкие ямочки снова возникли, прорисовались на Лидиных щеках. Две пугливые золотые рыбки снова стали иногда вспыхивать и мерцать в ее глазах, когда она пела и засматривалась в окно. Лида всю жизнь непоколебимо верила в тайную связь между странным и непростым стариком, явившимся ей вечером в полутемном лицее и найденной через несколько дней трубочкой из мятых купюр, которые избавили их от отцовского долга. Она была убеждена, что эти события связаны. Она знала, что это именно так, а не иначе.
Когда из городка провожали первый паром до Стокгольма, на набережной играл духовой оркестр. Туда-сюда чинно прогуливались принаряженные парочки. Толпились любопытные. Бегали мальчишки. Тут и там мелькали тележки мороженщиков и лотки засахаренного миндаля, окутанные жженым запахом карамели. Именно в тот день капитан впервые заметил среди стайки смешливых подруг в препоясанных шерстяных платьях и цветастых юбках невысокую рыжеватую девушку. Несмотря на скромное серое платье, почувствовал окружающее ее облачко мягкого медового сияния, на которое ему захотелось лететь сквозь ночь, плыть сквозь шторм. Он с первого взгляда издали разглядел ямочки на ее щеках. Запомнил легкую танцующую походку. Захотел запустить пальцы в эти янтарно-медовые волосы. Он затаил внутри ее улыбку – в крошечном пузырьке света, неожиданно возникшем в его сердце и обосновавшемся там безболезненно, бессловесно – до самого их знакомства.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?