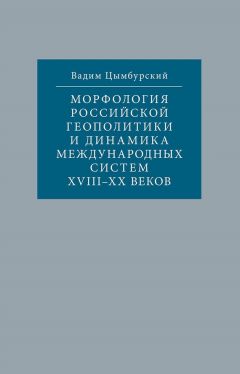
Автор книги: Вадим Цымбурский
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
В коалиционных войнах европейских держав против революционной Франции и Наполеона I в значительной степени возродилась старая конфигурация: к 1813 г. французам противостоял – при подмоге Англии – весь германский восток «Европы Карла Великого» при восстановившемся влиянии Австрии, но в то же время при обозначающемся первенстве ее союзницы России. В этих войнах наиболее важными моментами оказываются отказ Австрии от титула общегерманской Священной Римской Империи и впервые обнаруженная Англией в 1807–1811 гг., после разгрома Наполеоном германских государств и принуждения России к Тильзитскому сговору, способность какое-то время в одиночку поддерживать европейскую биполярность. Итак, за 150 лет формально сохранившегося Вестфальского порядка европейская конфликтная система преобразуется в двух аспектах: становится очевидным, что роль Австрии в случае ее выпадения из системы могли бы занять либо Россия, либо Пруссия; вместе с тем Англия, начав с роли крупнейшей «державы-балансира», позже достигает ранга «запасного центра». Этот расклад и отразила новая конфигурация Европы, узаконенная в 1815 г. Венским конгрессом.
Позднее, с отстранением России от западноевропейских дел после Крымской войны (которая сама по себе не объясняется динамикой собственно европейской системы, но только с учетом надстроенного самостоятельного ритма системы «Европа-Россия»), традиционный восточный центр Европы, демонстративно поддержав войну с Россией, ликвидируется под прусскими и французскими ударами, и гегемония над германским пространством смещается в Берлин. Вместе с тем франко-прусская война 1870–1871 гг. обнаруживает усиливающееся милитарное ослабление Франции, которой больше не суждено было ни одной европейской войны выиграть в одиночку.
В последующие 70 лет возвысившийся Второй рейх берет на военно-политический буксир Австро-Венгрию (а Третий рейх отчасти прямо инкорпорирует ее земли, а отчасти включает их в свой гроссраум). На западе роль приатлантического центра, противостоящего германскому «Паневропеизму», всё явственнее переходит к Англии, а к концу Второй мировой войны распределяется между Лондоном и Вашингтоном: впервые в истории биполярность Запада прочно воплощается в поверхностной структуре его конфликтной системы как излюбленное геополитиками противостояние силы континентальной и морской. Но это отношение комбинируется с напряжением между двумя историческими кандидатами на «австрийское» место в Европе: между Германией и Россией. Объективно их вражда с возвращением России после первой «евразийской интермедии» в европейский расклад, позиция ее относительно возвысившегося Второго рейха обретает характер спора за австрийское наследство, призванного решить – какая из держав окажется основным восточным центром европейского субконтинента.
Итак, тенденции, поместившиеся между Вестфальским и Венским конгрессами (Россия и Пруссия как потенциальные «заместители» Австрийской империи, Англия как еще один возможный «центр-заместитель», конвертировали биполярность Европы в оппозицию Океан – Суша), полностью материализуются к исходу следующего 150-летия, с особой броскостью – во Второй мировой войне. Западный центр сдвигается в океан, за пределы собственно Старого Материка, а возникший в XVIII в. раскол внутри восточного центра (в его поверхностном отношении) преобразуется в спор между победившими соперниками австрийцев в германском ареале и силой, что поддерживала долгое время Австрию из глубин материка, с другой стороны балтийско-балкано-черноморского порога Европы, а с эпохи Священного Союза представавшей в восприятии многих австрийцев кошмаром наползающего «панславизма».
Резюмируя всё сказанное, мы можем выделить в истории Запада с XIV по середину XVI в. два 300-летия, проникнутых каждое сквозным сюжетом, связанных с неким вариантом организации этого политического ареала. Причем, каждое из этих 300-летий само распадается на две 150-летние эпохи. На протяжении первого 150-летия каждой 300-летней эпохи (условно – «юги») новый образ системы Запада закладывается как тенденция, на протяжении второго он материализуется кульминацией и достигает тупика. Так с середины XIV по конец XV в. обе империи, восходящие к двум частям «Европы Карла Великого», пережив кризис, восстанавливаются в виде мощных территориальных образований, готовых вступить в борьбу за свое видение Европы. С 1494 по 1648 г. Европа переживает эту «битву гигантов». С середины XVII по начало XIX в., в войнах «Вестфальской» эпохи, исчерпавшей силы Австрии и, наконец, надломившей Францию, восходят наряду с этими традиционными центрами новые силы, локализованные уже за восточным и западным пределами «Европы Карла Великого»: Англия, Пруссия, Россия. С 1814 по 1945 г. эти страны постепенно становятся лидерами северо-западной Евро-Азии, придавая новое воплощение европейской «расщепленной биполярности»; основными воплощениями приатлантического и континентального геополитических ядер становятся Англия (с ее американским тылом) и Германия, а Россия, оспаривающая у Германии ее статус восточного центра, на этом пути смыкается с атлантическими силами, подобно тому, как сама Пруссия при восхождении долго блокировалась с Парижем против Вены.
В этой ретроспективе Ялтинско-Потсдамская система выглядит предельным развитием европейской конфликтной системы Нового времени. Страны, в разное время представлявшие приатлантический ее центр – Англия и Франция, вошли в поле Северо-Атлантического блока с его заокеанским ядром. С другой стороны, по нейтрализации коренной Австрии ее славянские и венгерские земли попали в «тотальное поле» России-СССР вместе с Пруссией и Саксонией – протестантским ядром Второго и Третьего рейха. Можно утверждать, что биполярность Ялтинской системы генетически восходила к австро-французской биполярности «довестфальской» Европы, а «германо-английская» фаза воплощения этой биполярности представляла промежуточную ступень в ряду ее трансформаций, ведущем от начального состояния, когда оба центра пребывали в геокультурных пределах «Европы Карла Великого», – к тому конечному, когда они оба смещаются вообще за пределы Европейского полуострова, тем не менее пребывающего основным полем их противостояния.
Вместе с тем Ялтинская система была не просто предельным выражением глубинной европейской биполярности, но в то же время выражением ее крушения и перерождения в принципиально иную структуру. Ведь с конца XV в. по 1945 г. это базисное членение, в тех или иных его преломлениях и превращенных формах, характеризовало сам романо-германский мир, «ядровый» ареал западной цивилизации. На основе такой разделенности «коренного» Запада возникла в XVIII в. система «Европа-Россия», допускавшая для России одну из трех возможных функций в Европе: либо просто поддержку германскому (восточному) центру в его тяжбе с центром западным, либо покровительство восточному центру, выглядящее его поглощением, либо борьбу за роль восточного центра с европейским государством, исполняющим функцию такого центра, при возможном конъюнктурном союзе с приатлантическими силами. В «ялтинскую эпоху», с сокрушением Германии как военной силы, Россия добилась превращения в признанный восточный центр европейского пространства, но этот центр был вынесен за пределы коренной Европы романских и германских западно-христианских народов, почти целиком оказавшейся под защитой НАТО. Под контролем же СССР пребывали определенно пороговые земли и народы, исторически прикрывавшие Европу от натиска с востока, а теперь превращенные в плацдарм такого натиска. Вхождение в «поле» СССР Восточной Германии мало что изменило в этой ситуации из-за приграничного положения этих земель, разделенности Берлина и т.д. Возможность использовать «свою» Германию как особое ядро романо-германского мира, опирающееся на Россию-СССР и конкурирующее с «трансатлантической Европой», НАТО, по многим причинам, не была актуализирована. ГДР вместе с западнославянскими, венгерскими, румынскими землями осталась «приделом» поля, собранного вокруг грозящего Западу евро-азиатского центра.
Фундаментальная трансформация европейской биполярности в «ялтинскую» эпоху определялась тем, что восточный центр был вынесен за пределы Западного мира, отождествлен с его противником. Реализована эта трансформация была понятно как: формой нового воплощения этой биполярности явилась существовавшая с XVIII в. система сцепленных цивилизационных сообществ «Европа-Россия». В рамках возникшей конфигурации существование этой системы перестает определяться валентностями, которые ранее несла внутренняя разделенность Запада. Теперь отношения в системе «Европа-Россия» фактически становятся формой отношения «The West and the Rest» – «Запад и противостоящее ему "иное"»; и «Россия-СССР» выступает основным олицетворением враждебного «иного».
В былые времена все «затемнения» биполярности Запада были связаны с осложнением отношений между поверхностной расстановкой сил и глубинным паттерном ключевых географических позиций. Сейчас сам этот паттерн оказался изжит. Более того, с 1960-х гг. «ялтинская» эпоха оказалась пронизана мощным китайским вызовом в адрес России-СССР, оспаривавшим ее право выступать в глазах Запада основной представительницей «иного» в рамках схемы «The West and the Rest». Отказ России-СССР в годы «нового мышления» от поддержания «ялтинского» порядка означал ее отказ от роли «иного» в этой схеме. Не опираясь более на глубинную биполярность Запада и перестав служить выражением оппозиции «Запад и иное», система «Европа-Россия» утрачивает свою функциональность и жизненность – что во многом оказывается подоплекой отчаянных поисков «российской самоидентичности» в последнее десятилетие[15]15
Далее в рукописи – абзац, завершение которого осталось в не найденных ее частях. Мы попытались реконструировать окончание (оно – в ломаных скобках) последней фразы дошедшего до нас текста: «Среди геополитических прогнозов, высказанных в 1990-х на тему „будущее мира и Запада“, два выглядят наиболее любопытными. Прогноз И. Валлерстайна [Валлерстайн 1997] предполагает разделение Северного полушария на два гроссраума: тихоокеанский, с американо-японским ядром, и евро-азиатский, под эгидой объединенной Европы. Валлерстайн допускает даже возможность <военного лидерства России в этой объединенной Европе при сохранении Европой безусловной экономической гегемонии в этом новом альянсе»). – Примеч. ред.
[Закрыть].
§ 4. Длинные волны европейского милитаризма и их влияние на международную политику (переосмысление модели Куинси-Райта)
Куинси Райт установил, что в истории Запада, начиная с «осени Средневековья», большие милитаристские стили (типы войны и военного строительства) сменяются со средней периодичностью в 150 лет. При этом он различал периоды «первичного усвоения огнестрельного оружия и религиозных войн» (якобы 1450–1648 гг.), «профессиональных армий и династических войн» (1648–1789 гг.), наконец, «войн индустриализации и национализма» (с 1789 г.). Очевидно, что под этим углом зрения период с 1789 по 1914 гг., в отличие от периодизации Тойнби и Голдстейна, выглядел единой эпохой. Сам Райт считал 150-летнюю амплитуду всего лишь средней величиной, допускающей в конкретных случаях существенные отклонения. Так, для фазы, начавшейся в 1789 г., он допускал сокращенную продолжительность, полагая, будто в 1914 г. первая мировая война открыла новый «авиационно-тоталитарный» период. Однако, через три года после выхода работы Райта бомбардировки Хиросимы и Нагасаки скорректировали этот тезис: обе мировые войны перед лицом атомной эры образовали скорее конец «индустриально-национальной» эпохи в военной политике. «150-летняя амплитуда Райта оказалась выдержана строже, чем он сам изначально предполагал» [Цымбурский 1996, 28]. Не случайно Дж. Голдстейн, корректируя Райта, вслед за «профессиональными войнами» 1648–1789 гг. датирует период «национальных» войн 1815–1945 гг., а к 1945 г. относит начало войн «технологических» [Goldstein 1988, 285]. Однако, похоже, что периодизация Райта может быть скорректирована и с другого конца. Эпоха «первичного усвоения огнестрельного оружия и религиозных войн», каковую Райт сугубо условно начинает в 1450 г., а Голдстейн, переименовав в фазу «наемнических войн», отодвигает (под вопросом) даже до 1350 г., по мнению других военных историков, разделяется на две стилистически различающихся волны – именно 150-летней продолжительности [Разин 1957, 423, 544]. Известно, что огнестрельное оружие впервые «заявляет» о себе на Западе примерно с середины XIV в. в первых битвах Столетней войны [Дельбрюк 1938, 33]. Однако в течение последующего 150-летия в Европе всё еще живет феодальный тип военного строительства: войско выступает соединением конного рыцарства со вспомогательным контингентом лучников или копейщиков; экипированный рыцарь остается главной силой войны, несмотря на то, что в войнах этого времени (например, в гуситских) и сами рыцари и их замки несут все более сокрушительные потери от стрелков и артиллеристов. Это время можно назвать «эпохой» рыцарских войн с первоначальным усвоением огнестрельного оружия и датировать его 1340 – началом 1490-х гг. Первыми же войнами с массированным использованием наемных солдат (ландскнехтов) явились Итальянские войны, начавшиеся в 1494 г. и утвердившие данный милитаристский стиль вплоть до середины XVII в., когда по ходу Тридцатилетней войны обозначился переход к новому стилю – по Райту и Голдстейну к «войнам профессиональным» (о смысле этих терминов скажу чуть ниже). Итак, с середины XIV в. по середину XX в. на Западе сменяются четыре большие милитаристские эпохи с безукоризненно соблюдаемой длительностью 150 лет, при колебаниях не более нескольких лет в ту или в другую сторону. Сейчас же трудно сказать: исчерпался ли этот ритм, или мы живем при очередной, пятой волне (1340–1494; 1494–1648; 1648–1792; 1792–1945; 1945 – ?)
В ряде публикаций я попытался возвести эти наблюдения историков и политологов на уровень исторической и политической философии, описав схемы больших милитаристских стилей в виде колебаний между двумя эталонами военной победы, отвечающими двум обобщенным состояниям материального базиса войны, иначе говоря, – как периоды примерно в том же смысле, в каком говорят о периодах маятника. При таком подходе европейские «великие войны» оказываются фазами развертывания этих сверхдлинных военных циклов (далее сокращенно СВЦ). Отмечая, что каждое 150-летие должно было охватывать примерно одинаковое число поколений, то есть, как и Тойнби, используя их смену в качестве предположительного механизма становления и смены милитаристских циклов (см. о «поколенческой мотивации исторических ритмов» в кн.: [Савельева, Полетаев 1997, 360–371]), вместе с тем, я, в споре с тойнбианской версией, писал: «На мой взгляд, речь должна идти не о поколениях простаков, то учиняющих великую войну, то счастливо от нее отдыхающих с тем, чтобы наступать на одни и те же грабли вновь и вновь, но скорее о поколениях военных (и политических) лидеров, разрабатывающих в войнах определенный милитаристский стиль как способ достижения в борьбе политических целей, доводящих этот стиль до крайних, тупиковых импликаций, а затем, в стремлении вырваться из созданного тупика, пересматривающих этот стиль на основе обновленной технологии борьбы и альтернативного эталона победы, и тем самым полагающих начало новому циклу» [Цымбурский 1996, 28].
О каких конкретно двух эталонах победы и двух состояниях материального базиса войны идет речь? Два эталона победы были впервые описаны К. Клаузевицем, который предпослал своему итоговому труду «О войне» заметку, определяющую лейтмотив всей этой работы. По Клаузевицу, «целью войны может быть сокрушение врага, т. е. его политическое уничтожение или лишение способности сопротивляться, вынуждающее его подписать любой мир, или же целью войны могут являться некоторые завоевания… чтобы удержать их за собою или же воспользоваться ими как полезным залогом при заключении мира». Клаузевиц был уверен, что хотя «будут существовать и переходные формы между этими двумя видами войны, но глубокое природное различие двух указанных устремлений должно всюду ярко выступать» [Клаузевиц 1937, т. 1, 23]. Показывая разницу между двумя выявляемыми идеальными типами войны на всех уровнях – от политики держав до боевой тактики, Клаузевиц вместе с тем стремился показать, как в истории сменяются эпохи, проникнутые доминированием той или иной из этих установок на «слом» («уничтожение») противника или на получение конкретных уступок с его стороны. В частности, переход от «профессиональных войн» XVII-XVIII вв. к «грандиозным и мощным», по Клаузевицу, войнам Французской революции и Наполеона (и также всего XIX и первой половины XX в.) он объяснял сменой эталона победы благодаря новой революционной и националистической политике, каковая будто бы раскрепостила войну и придала той «абсолютный» облик [Клаузевиц 1937, т. 2, 356, 379, 384 и сл.].
С другой стороны, в XIX в. немецкий военный писатель Ф. фон Визелен выделил две непременные задачи армии в борьбе. Одна из них состоит в самосохранении, в продолжении своего существования, другая – в истреблении противника [Фон Визелен 1924]. Очевидно, что эти задачи опираются на базисные возможности сторон в конфликте: возможность мобилизовать для борьбы материальные и, в частности, людские ресурсы и возможность истреблять мобилизованные силы другой стороны. Исходя из этой посылки, и был выдвинут тезис о том, что два эталона победы по Клаузевицу отвечают преобладанием у армий в ту или иную историческую эпоху одной из функций фон Визелена. «Когда выполнение одной из этих функций гарантировано, господствующей в их поведении становится другая, негарантированная функция. Если благодаря размаху мобилизации их самосохранение в обозримом времени выглядит бесспорным, они могут, не щадя сил, обратиться ко взаимному истреблению. Когда же возможность именно взаимоуничтожения им гарантирована, то для каждой из них самосохранение становится важнейшей сверхзадачей. Соответственно, в отношении эталона победы, «когда баланс ключевых возможностей склоняется в сторону уничтожения и стороны способны легко истребить друг друга за короткое время, тогда победа может быть только воздействием на волю противника, вынуждающим его к не имеющим для него жизненного значения уступкам. На эскалацию целей войны накладывается ограничение: угрозы выживанию противника и тому, что считается его основными приоритетами, попадают под запрет… Наоборот, преобладание в раскладе конфликтных возможностей мобилизации над уничтожением приравнивает эталонную победу к "отнятию у противника способности сопротивляться", к состоянию, когда он "подпишет любой мир". Такая война может искушать политика практически неограниченным повышением планки целей, – но обещает их осуществление лишь на исходе борьбы» [Цымбурский 1996, 33] (ср. [Цымбурский 1994, 10 и сл.; 1996а. Сергеев, Цымбурский 1990, 102 и сл.]).
Важнейший результат моих исследований тех лет состоял в следующем: было показано, что каждый из 150-летних периодов Куинси Райта, описывающих восхождение, господство и самоизживание в вооруженной борьбе милитаристских больших стилей Запада, соответствует одному из двух очерченных раскладов конфликтных возможностей и надстроенному над ним эталону победы, уровню военных целей и типу силовой политики. Каждый эталон победы может рассматриваться как «идейная проекция» одного из таких раскладов, воплощением же эталона победы, сообразно с технологическими и социальными средствами эпохи, выступает большой милитаристский стиль. Смена одного периода Райта другим означает использование политической и военной элитой наличных технологических средств для перехода от одного расклада конфликтных возможностей к другому, противоположному ему. Возникает потребность в таком переходе благодаря тому, что наличный эталон победы себя исчерпал как форма достижения политических целей, а воплощавший его большой милитаристский стиль в своем предельном самораскрытии дошел до концептуального и прагматического тупика.
О том, как происходит кризис того или иного эталона победы, я скажу через несколько страниц. Пока же, чтобы подтвердить вышесказанное, обрисую достаточно сжато характер выявленных 150-летних периодов с обозначенной точки зрения, делая упор на структуру конфликтных возможностей, выразившуюся в великих войнах тех эпох. Заранее отмечу, что периоды 1350–1494 и 1494–1648, приходящиеся на Позднее Средневековье («Осень Средневековья», по определению И. Хейзинги) и Возрождение – те периоды, которых по-настоящему не выявили ни Райт, ни Голдстейн, – я рассматриваю именно как «протоциклы» А и В, имея в виду общий характер их военного строительства и технологий, переходный между европейским феодализмом, когда эти «райтовские» волны не наблюдаются, и Новым временем, когда они становятся неоспоримо очевидны, подтверждаясь свидетельствами Клаузевица и многих других военных и политических писателей (обзор этих свидетельств см. в моих вышеуказанных работах).
Как и во многих иных аспектах западноевропейского цивилизационного процесса «пусковой» фазой для европейских СВЦ Нового времени видится «великая депрессия» «Осени Средневековья», господствовавшая здесь с середины XIV в. на протяжении всего XV в. (кроме Италии). В ее рамках осуществляется переход Запада от универсалистской парадигмы «христианской империи» («христианского мира»), типичной для зрелого Средневековья, к парадигме «Европы» как группы территориальных государств, связанных культурной близостью и общностью исторического опыта, связанных борьбою за гегемонию и баланс в рамках романо-германского субконтинентального пространства.
Экипированный рыцарь даже в классическое Средневековье был весьма дорогостоящим средством войны, экономическая же депрессия подавляла возможности мобилизации рыцарства, – и возможности уничтожения начинают брать верх: в годы Столетней войны английские лучники громят французскую рыцарскую конницу, в гуситских войнах артиллерия таборитов сокрушает воинство Священной Римской империи. Отсюда особенности войн этой фазы: они проникнуты бесконечными компромиссами, соглашениями и сделками, налицо частый разрыв между заявленными масштабными сверхцелями и реально преследуемыми интересами. Особенно показательна Столетняя война: начатая под лозунгом возведения английского короля на французский престол, казалось бы, грозящая жизненным интересам французских владык, она сводится во второй половине XIV в. к операциям с целью захвата некоторых богатых прибрежных областей Франции, за которые англичане выражают готовность отказаться от притязаний на Париж [Palmer 1971. Le Patourel 1971]. Лишь внутренняя гражданская война во Франции и развал этого государства побудили англичан в 1415–1430 гг. испробовать реально проект англо-французской династической унии (т. н. «Ланкастерской Франции»), а с провалом этого проекта Англия пошла на мир, сохранив за собой важнейший порт Кале. О войнах тех же лет в Италии, где Милан пытался создать свою державу, позднее в XVI в. писал Н. Макиавелли, расценивая их по меркам уже следующей милитаристской фазы: «Подобные войны велись вообще так вяло, что начинали их без особого страха, продолжали без опасности для любой из сторон, и завершали без ущерба…. Победитель не слишком наслаждался победой, а побежденный не слишком терпел от поражения, ибо первый лишен был возможности полностью использовать победу, а второй всегда имел возможность готовиться к новой схватке» [Макиавелли 1987, 182, 226]. Наниматели полководцев-кондотьеров обвиняли их в том, что порой, подготовившись к сражениям, те решали их исход без боя, по обоюдному согласию сторон, на глаз скалькулировав их численность, качество и позиции.
В конце XV в. в строительстве европейских армий происходит переворот: под впечатлением от успехов швейцарского ополчения, правители континентальной Европы начинают класть в основу вооруженных сил вместо рыцарей-профессионалов массы пехотинцев-наемников, часто набиравшихся из деклассированного сброда в расчете на будущую добычу. Этот «прорыв пехоты» вместе с преобразованием рыцарства в регулярную кавалерию стал триумфом возможности мобилизации над уничтожением, проявившимся в Итальянских войнах Франции с обложившими ее Священной Римской Империей и Испанией, образовавшими сверхдержаву Габсбургов. «Швейцарцев и ландскнехтов после того, как они были сорганизованы, можно было легко численно наращивать массами случайного сброда, а теперь бой решался напором массы» [Дельбрюк 1938, т. 4, 102]. Правда, нестойкость самоснабжающихся армий заставляет полководцев не слишком злоупотреблять такими сражениями, широко действуя измором и разоряя оккупированные земли. Но непрестанный приток наемнических контингентов позволял политикам высоко поднимать планку милитаристских целей, за которые велась реальная борьба; будь то стремление Габсбургов сколотить территориальную панъевропейскую монархию: от Карпат до Атлантики, от Балтики по Северную Италию, или попытка Франции собрать меридиональную франко-итальянскую империю, рассекающую Европу с севера на юг. Если XV век знал лишь одну войну по религиозным мотивам – 15-летнюю гуситскую на европейской окраине, то протоцикл В заполнен свирепыми религиозными битвами, переплетшимися с войной сверхдержав. Пиком и тупиком этого цикла явилась Тридцатилетняя война, где только Священная Римская империя потеряла до 20% солдат (процент невероятно большой на фоне всех иных известных войн на конец XIX в.), а потери мирного населения достигли 15 млн. [Урланис 1994, 515].
Во время этой страшной войны шведский король Густав Адольф впервые применяет в своей армии ряд технико-тактических новаций, которые, распространяясь по всей Европе, позволяют уничтожению резко опередить мобилизацию: легкие пушки, легкие мушкеты и сплошная стрельба мушкетеров, стоящих в три шеренги, когда первая стреляла с колен, вторая – нагнувшись, третья – стоя во весь рост. Под впечатлением этой новой техники боя, абсолютистские режимы второй половины XVII и XVIII вв. переходят от наемных армий, набиравшихся на случай войны, к ограниченным высокопрофессиональным армиям на постоянном жаловании, дорогостоящим и насчитывающим в среднем 1–2% от численности населения государства, не рассчитанные по своей дороговизне на быстрое разрастание в условиях военных действий. Весь СВЦ (1648–1792) отмечен доминированием огневой мощи над мобилизационными возможностями режимов. В армии Фридриха II стрельба повзводно позволяет батальонам давать до 10 залпов в минуту, с хорошей точностью попадания до 100 шагов, поднимая перед собою перекатный вал огня [Свечин 1922, 52. Дельбрюк 1938, 232 и сл., 248 и сл.]. В войнах этого цикла потери за несколько часов сражения могли достигать 30%, а в атакующей армии – до 50%. Солидная европейская армия в принципе могла быть уничтожена за день сражения, но, как правило, с такими же последствиями для противника. Всё это вело к тому, что после битвы приходилось укомплектовывать армию заново – причем, армию профессионалов [Урланис 1994, 513. Харботл 1993, 235, 502].
Каков же эталон победы соответствует такому раскладу конфликтных возможностей? Эксперты отмечают, что для этого цикла типично отождествление победы с «почетным миром». А мир, по словам маршала конца XVIII в. Р. Монтекукколи, считался почетным, «когда он полезен и когда ты со славой достиг цели, ради которой начал войну» [Montecuccoli 1899, 374]. Иными словами, победа приравнивалась к удовлетворению конкретных притязаний, из-за которых началась война. Стратегия стремится наиболее надежными средствами склонить противника к уступкам, убедив противника в том, что складывающееся положение для него более неблагоприятно. Из-за кровопролитности сражений интенсивность борьбы столь низка; по подсчетам статистиков – между 0, 23 и 1, 4 боевых столкновений за месяц, включая и мелкие схватки [Урланис 1994, 528–530]. Как крупнейшие военные авторитеты (маршалы Монтекукколи, А. Тюренн, Мориц Саксонский, король Фридрих II), так и воинские уставы той эпохи единодушны в недоверии к битвам как непредсказуемым по исходу кризисным пикам в развитии войны, разрывам в нормальном стратегическом процессе и рекомендуют к ним прибегать лишь в особых специально обсуждаемых случаях [Дельбрюк 1938, 267 и сл. Montecuccoli 1899, 159. Frederic II 1856, 83 и сл.]. В популярных военных трактатах, например, в трудах участника Семилетней войны генерала Ллойда, бой трактуется как затратное и несовершенное средство выявить сравнительные достоинства армий и их позиций, которое хорошо бы заменить точным математическим расчетом [Ллойд 1924, 38].
В стремлении добиться совершенного управления армией командующие пытаются избегать любого самоснабжения, обеспечить ей потребительскую автономию, всецело ее довольствуя из армейских магазинов. А потому постепенно начинают рассматривать любые «контрценностные» действия типа разорения неприятельских и собственных сдаваемых противнику территорий как бесцельное варварство и приходят к типу военных действий, минимально затрагивающих штатское население [Клаузевиц 1937, т. 2, 354]. Понятно, что при этом теоретики войны декларируют неприязнь к чересчур крупным армиям: их управляемость кажется сомнительной, слишком зависимой от привходящих факторов [Дельбрюк 1938, т. 4, 331 и сл.]. На этом увлечении управляемостью и последовательностью стратегического процесса, на неприязни к битвам – бифуркативным разрывам в этом процессе – утверждается практика войны как «несколько усиленной дипломатии, более энергичного способа вести переговоры, в которых сражения и осады заменили дипломатические ноты» [Клаузевиц 1937, т. 2, 353]. А в основе основ, конечно же, убеждение в ограниченности возможностей мобилизации перед возможностями уничтожения – солдат-профессионал дорог и уязвим.
С войн Французской революции картина меняется на 150 лет – и радикально. Промышленный переворот, обеспечив постоянный экономический рост, позволяет государствам Запада высвобождать всё больше ресурсов на нужды войны. А социальные и политические перемены приводят к утверждению по всей Европе режимов с расширенной социальной базой, которые оказываются способны превратить войны из «предприятий правительств… на деньги, взятые из своих сундуков» [там же, 351] в дело наций, обращающих свои силы на достижение победы. Уже в 1813–1814 гг. набор рекрутов в армию Наполеона составил 1250 тыс. чел., т. е. более 5% населения. «Народные войны» в России и Испании против Наполеона и блестящие действия прусского ополчения – ландштурма в 1813 г. показали политикам всю перспективность идеи «вооруженного народа». Во второй половине века эта идея повсеместно возобладала в европейском военном строительстве, воплощаясь во всеобщей воинской повинности и в вытеснении профессиональных армий – армиями кадровыми, многократно увеличивающимися в преддверии начала войны [Свечин 1923, 56–85]. В результате уже в Первую мировую войну страны Антанты двинули на поле боя 10–17% граждан, а Германия и Австро-Венгрия – 17–19% [Мировая война 1934, 12]. Прирост армий в эти 150 лет постоянно обгоняет даже в мирное время рост населения. А в результате, несмотря на столь же непрестанные совершенствования техники уничтожения (правда, сильно амортизированное прогрессом медицины и изменениями в тактике: рассыпным строем, зарыванием в окопы), мобилизационный потенциал увеличивается быстрее: потери личного состава с 30–50% в XVIII в. падают до 1–2% к началу XX в [Шлиффен 1938, 360], а в мировых войнах постоянно с лихвою перекрываются притоком новобранцев.






























