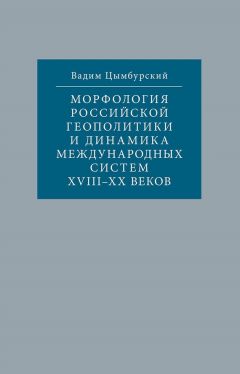
Автор книги: Вадим Цымбурский
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
§ 3. Ритмы международной конфликтной системы Запада и их воздействие на российскую геополитику
Чего не может объяснить теория стратегических циклов России XVIII-XX вв.И в то же время теория стратегических циклов России, переживаемых с начала Петербургского периода, сталкивается с существенными трудностями при истолковании ряда важных явлений, которые она, определенно, должна учитывать, ибо они явно повлияли на движение нашей геополитической мысли. У этой теории обнаруживаются некие границы применимости. Но я постараюсь сейчас показать, что ее ценность, помимо прочего, состоит в том, что на этих границах применимости, сталкиваясь с необъяснимыми из нее возмущениями в моделируемом ею процессе, – она, по крайней мере, намечает направление, в котором надо искать их разгадку. Она подсказывает, какой другой теорией ее следует дополнить, чтобы снять эти трудности, – и мы можем убедиться в справедливости ее подсказки.
Прежде всего, эта теория сама по себе не может объяснить, почему выделяемые ею циклы при однотипности своей событийной канвы так резко различаются продолжительностью как сюжета в целом, так и отдельных гомогенных ходов и фаз. Цикл I длился 180 лет, цикл II – лишь 30 с небольшим. Ход А в цикле I занял 85 лет, в цикле II – примерно десять, в цикле III – меньше двух лет. Первая евразийская интермедия охватила примерно 50 лет, а вторая – около 15. И т. д. Вообще-то, все известные в истории циклические и волнообразные колебания, по-видимому, можно разделить на две категории: одни характеризуются постоянством периода, другим же присуща повторяемость событийной схемы при хронологической неравномерности в реализации ее алгоритма. Стратегические циклы России (которые в другом ракурсе могут рассматриваться и как циклы системы «Европа-Россия») принадлежат ко второму роду колебаний. Как я писал несколько лет назад: «Из той или иной точки цикла в принципе легко можно представить, как сюжет должен развиваться дальше. Но поскольку однотипные фазы могут то сжиматься, то растягиваться во времени, оказываются совершенно не предсказуемыми сроки, в которые следует ожидать наступления тех или иных предусмотренных фабулой цикла перипетий» [Цымбурский 1997а, 63]. Тогда же я сказал, что исключительно внутренними факторами отечественной истории объяснять эти растяжения и сжатия фаз затруднительно. Даже в тех случаях, где эти факторы налицо, сама их актуализация оказывается обусловлена общей динамикой цикла. Таков пример с революциями 1917 г., выбросившими Россию из Антанты и открывшими «зеленый свет» иностранной интервенции. Очевидно, что эти революции были в огромной мере подготовлены застоем на фронтах, толками в политических кругах о немецком шпионаже «на самом верху», о склонности режима к сепаратному миру – общественной усталостью от войны [там же]. Если брать эти события в контексте более широком, заметим, что в интервале между 1907 и 1945 гг. все ходы в циклах разительно – на один-два порядка – «ускоряются» по сравнению с протеканием цикла I, так что это «ускорение» оказывается общим свойством данного временного отрезка, проявляющимся через множество причин, поводов, мотиваций.
В рамках предложенной теории можно лишь констатировать временную неравномерность циклов как их имманентную особенность, объяснить же данное явление эта теория не может. Между тем оно несомненно и сильно сказалось на нашей геополитике: ибо ясно, что из двух гомологичных фаз в разных циклах та, что длилась, к примеру, 30 лет, представляла гораздо больше возможностей для имагинативной проработки и геостратегического воплощения чем та, которая, при смысловой изоморфности, длилась год или два, не дав идеологам и ученым времени по-настоящему осознать себя и эксплицировать в качестве эпохальной ситуации.
Однако недостаточность теории проявляется и в иных аспектах. Некоторым очень ярким перипетиям имперской стратегии теория стратегических циклов не может дать однозначного истолкования. Например, как интерпретировать в ее свете российскую внешнюю политику 1870-х, странно деформирующую течение первой евразийской интермедии: русско-германские военные договоренности 1873 г., создание Союза трех императоров, давление Петербурга на Берлин во время германо-французского кризиса 1875 г., показавшее миру всю степень зависимости Германии от восточного партнера, русское наступление на Балканах, обставленное договоренностями с Австрией и немецкой моральной поддержкой – а затем крах этой политики на Берлинском конгрессе, где Австрия предстала одним из наших антагонистов, а Бисмарк – не заинтересованным в нашем успехе «честным маклером». Как объяснить этот ход? Я два раза разбирал его в моих работах.
В первый раз я толковал его как «коду» или «довесок» первого европохитительского четырехтактника, а решения Берлинского конгресса – как «второе издание» Парижского мира 1856 г. [Цымбурский 1995]. В другой раз я рассматривал его в качестве неудачной, абортивной попытки России изжить до срока евразийскую интермедию и проскочить в фазу А нового цикла на правах союзницы формирующегося германо-австрийского центра коренной Европы [Цымбурский 1997a]. Я и сейчас убежден в единственной правомерности второй интерпретации, но сама по себе теория стратегических циклов России (или лучше: системы «Европа-Россия») не позволяет ни сделать доказательный выбор между двумя решениями, ни объяснить, почему попытка Империи открыть в 1870-х новый цикл оказалась провальной.
Я отмечал в другом месте, что для этой теории в ее первичной формулировке оказалась белым пятном огромная полоса имперской истории, а именно – политика царствования Екатерины II [Цымбурский 1998а]. По логике изложенной модели всё это царствование составляет часть хода А в первом стратегическом цикле, того хода, когда роль России в отношении Запада сводилась к союзнической поддержке одного западноевропейского центра силы против другого. Но если это вполне описывает положение России в Семилетнюю войну 1756–1763 гг. и точно так же вполне применимо к итало-швейцарскому походу Суворова в 1799 г., то лежащая между этими датами прославленная эпоха отвечает ей лишь с большой натяжкой. Главными стратегическими ходами Екатерины II оказываются войны с Турцией и разделы Польши, отношения же с крупными европейскими державами Австрией и Пруссией перекомпоновываются в зависимости от отношения каждой из них к турецкой игре Империи. Это время можно было бы оценить как некий разрыв в фазе А, если бы не та поразительная черта эпохи, что европейский статус России при Екатерине II не сводился к проживанию процента с капитала, нажитого при Елизавете Петровне в войнах за австрийское наследство и Семилетней, но непрестанно возрастал, давая канцлеру Безбородко повод похваляться тем, что без российской воли в Европе тех дней якобы не выстрелила ни одна европейская пушка [Ключевский 1989, 312]. Вес России на Западе в те дни определялся успехами вне пространства Запада (хотя и приближающими ее шаг за шагом к этому пространству). Потому теория стратегических циклов должна <была> быть существенно скорректирована, чтобы ухватить особое качество геополитических проектов екатерининского времени.
Если же говорить о временах более близких и, в общем, выходящих за пределы моего анализа, надо сказать, что описанная модель очень однобоко представляет положение и стратегию России-СССР в ялтинскую эпоху. Она расценивает это время только как очередной наш геополитический «европейский максимум» (что, в общем, отвечает хотя бы нашей германской политике той эпохи), но игнорирует моменты иного рода, скорее отвечающие – странным образом – духу «евразийской интермедии»: интенсивную политику в «третьем мире», создающую пророссийские пространства за пределами Евро-Атлантики и ей в противовес; противостояние с Китаем, порождающее в массах чувство «китайской опасности»; демографическую «исламизацию» СССР; прививка на советской почве идей эмигрантов-«евразийцев» в модифицированной версии Л.Н. Гумилева; вообще созидание «социалистического мира» как особого, незападного, «второго мира». Как объяснить – странное переплетение признаков «евразийской интермедии» и «европейского максимума», определяющее геостратегический образ СССР «ялтинского» времени?
И в связи с этим самый главный вопрос: можно ли таким образом дополнить и скорректировать теорию, чтобы она объясняла как неравномерность протекания стратегических циклов России, так и те возмущения в протекании, которые выходят за рамки в вариативности воплощения циклов и отдельных ходов как описанных идеальных типов? И, как уже говорилось, именно здесь, – где кончаются объяснительные возможности теории в ее первоначальном виде, – она подсказывает, в каком направлении вести дальнейший поиск.
Ведь ритм описанных циклов на самом деле определяется взаимодействием двух стратегически сцепленных сообществ. Когда-то, в 1995 г., я трактовал эти циклы в морализаторском ключе, видя в них безуспешные попытки России утвердиться в западной истории, преодолеть цивилизационную и пространственную отдельность – и терпящей раз за разом неудачи из-за «кризисных эффектов» и отторжения, возбуждаемых российским «наползанием» на Западе. При этом недооценивались данные, рисующие нам эти циклы в ином ракурсе. Например, то, что «на разных ступенях наших "похитительских циклов" мы видим разницу в реакции Запада. Реакция прямого отбрасывания России, типичная для хода D в каждом цикле и для начала евразийских интермедий, сменяется к концу интермедии и во время хода А в следующем цикле стремлением тех или иных евро-атлантических государств утилизовать в своих видах эту напрашивающуюся в игру чужеродную силу: напомню, франко-русский договор 1891 г. и создание Антанты, соответственно германский и англо-французский зондаж России-СССР в конце 30-х. Между прочим, цикличностью собственных ответных отношений Запада к России может мотивироваться замечательная терпимость демократий к сталинскому режиму "осажденной крепости" (в 1930-х гг. – В.Ц.), сменяющаяся с середины 40-х, по ходу С, совсем иным отношением к СССР – сокрушителю Третьего Рейха» [Цымбурский 1995, 248 и сл.]. Развивая эту тему, я писал в 1997 г. о перемене отношений по ходу цикла между «цивилизацией-хозяином» Западом и «цивилизацией-спутником» Россией. «Ускоренное послепетровское втягивание новообразованной Империи в военную политику мира за балтийско-черноморско-адриатической полосой должно объясняться… тем, что Запад… после войны за Испанское наследство приоткрывается для наращения своего слабеющего восточного (австрийского. – В. Ц.) центра силами России. … В своем взаимодействии эти сцепленные сообщества вырабатывают устойчивую схему «европохитительского» цикла, и показательно, что эта схема в некоторых фазах цикла направляет поведение не только цивилизации-спутника, но и народов цивилизации-хозяина. К примеру, практически все западные вторжения этих веков в Россию либо изначально имеют форму больших коалиционных походов, представительно символизирующих солидарность цивилизации в столкновении со спутником-антагонистом («нашествие двунадесяти языков», Крымская коалиция, интервенция Антанты), либо, по крайней мере, как в случае с Гитлером, интервент старается … разыграть существование «антирусского европейского фронта» от Швеции до Испании» [Цымбурский 1997a, 68]. Характерно, что сплоченность Запада против России, лишь имитируемая по ходу В одной из борющихся в Европе сил и оспариваемая ее противниками, делающими ставки на русского союзника, становится подлинной реальностью во время ходов С и D, когда перед лицом европейского «геополитического максимума» России внутренние диссонансы евро-атлантического сообщества отодвигаются на второй план перед сопротивлением «угрозе с востока».
Переосмысляя описанные циклы нашей Империи как собственные циклы системы стратегически сцепленных цивилизаций «Европа-Россия», я полагаю, что движущим фактором их сюжета является реагирование России на конъюнктуры, возникавшие внутри западного сообщества вследствие его конфликтной разделенности, трактовка русскими этой разделенности как вызова, судьбоносного для их стратегического самоопределения в мире. Поэтому естественно предположить, что неравномерность движения циклов и возмущения в нем каким-то образом порождались особенностями функционирования конфликтной системы Запада, неоднородностью ее военно-политического времени. Сталкиваясь с вопросами, на которые она в своих рамках не находит ответа, теория циклов системы «Европа-Россия» подсказывает: для большей полноты и корректности в осмыслении российской геополитики она, эта теория, должна быть дополнена (и соединена с) работающей моделью собственно западного милитаризма в Новое и Новейшее время.
Конфликтная система Запада в XVI-XX вв. и роль России в ее трансформацияхЛюбой международный баланс сил имеет географическое измерение. Он реализуется в рамках определенной группы государств или международной системы. Если речь не идет о системе мировой, охватывающей всю планету, то группа государств, связанных балансом сил, всегда охватывает некий регион в пространстве обитаемого мира (ойкумены). Более того, чтобы в регионе какое-то время могла функционировать автономная международная система с собственным балансом сил, она должна в некий момент обособиться в мировом раскладе. Отношения образующих его государств должны составлять вполне автономную структуру (в обычном понимании структуры как совокупности элементов, где статус каждого элемента определяется его отношением ко всем остальным). Трудно говорить о балансе сил и о какой-то устойчивой международной системе на пространстве, открытом внешним воздействиям и в зависимости от них постоянно изменяющем свой политический облик, скажем, из-за движения кочевых орд (самое большее, можно выделять отрезки политического времени, когда это пространство может быть мыслимо как относительно автономное, и для них говорить о некоем подобии региональной системы).
Относительной региональной округленности международных систем не мешает то, что отдельные государства могут входить не в одну систему, участвовать более чем в одном балансе. Автономность политических регионов с их системами выражается в том, что противники некоего государства, принадлежащие к разным конфликтным системам, практически никогда не действуют в прямом союзе. В таких случаях можно говорить о том, что международные системы обладают особыми конфигурациями, хотя и соприкасающимися или даже пересекающимися по перифериям. Внутри таких регионов выделяются центры сил – государства, способные в его рамках успешно противостоять любому другому государству (в используемой далее терминологии такая группа центров образует ядро международной системы региона – собственно его конфликтную систему).
Если обратиться к конфликтным системам, функционировавшим в западной Евро-Азии во второй половине II тыс. до н. э., обнаруживаем их важное качество: для этих систем выделяется устойчивый набор геополитических ролей, воплощенных в конфигурации региональных силовых центров. За время жизни системы те или иные ее великие державы могли претерпевать подъем, деградацию и закат, но система, пока была в силе, обладала определенной инвариантной устойчивостью, выраженной в соотношении ключевых геополитических ролей. В этой связи я предложил различать поверхностную структуру конфликтной системы, или конкретный набор великих держав, и структуру глубинную – расстановку воплощаемых этими центрами геополитических позиций. Когда поверхностная структура терпит кризис из-за заката того или иного центра, система пытается восстановиться, выдвигая или «притягивая» (приглашая) извне какое-то государство на вакантную геополитическую роль. Если это не получается, системе грозит кризис, члены системы вступают в борьбу за присвоение вакантной геополитической позиции. Тот, который в этом преуспевает, сосредоточивает в своих руках всё большее число ключевых ролей системы. Он начинает притязать на статус имперского центра, контролирующего регион как свое Большое Пространство. Баланс переламывается, организуемая им система клонится к закату.
Для России имперской эпохи, как видно из сказанного, важнейшей, наиболее притягательной конфликтной системой западной Евро-Азии стала система европейская. Сделав при Петре I ставку на присоединение к европейскому цивилизационному сообществу, Россия ищет способа достичь постоянного влияния на жизнь этого сообщества – и таким способом для нее становится обретение престижной функции в конфликтной системе Запада. Она быстро этого добивается, поскольку международная конъюнктура эпохи чрезвычайно в этом благоприятствовала русским.
Предпосылки оформления европейского пространства в качестве целостной и автономной конфликтной системы очевидны. Европа представляет собой огромный полуостров, в жизни которого с середины I тыс. н. э. доминируют романские и германские народы. Королевство франков и выросшая из него империя Карла Великого были первой попыткой организовать основную часть этого пространства как политическую целостность. На руинах империи к X в. складываются два сообщества, восходящих к двум то обособлявшимся, то соединявшимся воедино частям франкского пространства – Австразии (на востоке) и Нейстрии (на западе). В IX-X вв. восточную часть, лежащую в глубине Центральной Европы, потрясло нашествие венгров из степей Евро-Азии, а часть западную, выходящую к Атлантике, – удары норманнов с океана. С преодолением и изживанием этой внешней угрозы, по мере христианизации и «приручения» становящейся католической Европой венгров, норманнов и части славян, по сторонам условной европейской оси, протянувшейся от Фландрии через Бургундию, Швейцарию и Италию (в IX в. эта ось составляла лежащее между Австразией и Нейстрией владение Лотаря, внука Карла Великого, позднее на ней сложится пояс европейских городов, относительно независимых от территориальных центров Запада), консолидируются два ядра европейского мира – Священная Римская Империя и Французское королевство. Оба они стремились к контролю над землями европейской оси, особенно над Италией, а время от времени политики средневекового Запада (например, король Франции Филипп Красивый) и его идеологи (Данте) выступали с проектами их соединения в одну «сверхдержаву».
Между тем, на входе полуострова Европы от Балтики до Адриатики в конце I – начале II тыс. н. э. располагались земли народов отчасти языческих (прибалты), отчасти воспринявших христианство в его византийских и римских изводах (славяне, венгры, валахи), но исторически не входивших в Европу Карла Великого и не притязавших на продолжение ее государственной традиции. Эти земли с возникающими на них государствами образовали обширное «предполье» Запада, защищавшее его от новых восточных вторжений. Если попытки арабов беспокоить ее со стороны Пиренейского и Апеннинского полуостровов остались локализованы в пределах этих отростков Европы, то наступление монголов в XIII в. и турок-османов в XIV-XVII вв. захлебнулись во многом усилиями народов балтийско-черноморско-адриатического буфера. Таким образом «коренная» Европа имела возможность оформиться как самодостаточное бинарное пространство, лишь в небольшой степени возмущаемое внешними потрясениями.
Во второй половине XIV-XV вв. оба ядра Европы переживают потрясения, как бы напоминающие о варварских катаклизмах кануна каролингской эпохи: на западе это вылившиеся в Столетнюю войну имперостроительные претензии английских королей – потомков норманнов, на востоке – приближение турок, гуситские восстания в Чехии, вызов венгров, одно время даже овладевших Веной. Из этих кризисов обе державы выходят в виде мощных территориальных образований с большими возобновленными претензиями на европейской оси. Складываются основания для превращения бинарного геокультурного сообщества в биполярную конфликтную систему.
Оба силовых центра европейской системы Нового времени первично возникли на континенте. Это надо подчеркнуть, ибо есть иное популярное мнение на этот счет. Ряд авторов – И. Валлерстайн, Дж. Модельски и У. Томпсон, Дж. Голдстейн и др., выделяя в западной истории т. н. «циклы гегемонии», понимают под таковой исключительно гегемонию морскую, колониальную и торговую. Ряд гегемонов у них составляют Венеция, Португалия, Нидерланды, Англия и США. Как правило, Священная Римская Империя XVI-XVIII вв. с обретенным в кризисах «осени Средневековья» австрийским ядром вообще не входит в их списки. Что же касается Франции, Германии и России, то им отводится место континентальных претендентов, безуспешно пытавшихся бросать вызов хозяевам моря и торговли, ставшим с XVIII в. также зачинателями промышленных революций. Я не буду обсуждать отдельных версий этого подхода, но обращу внимание на его общий и принципиальный просчет. Отождествляя морское лидерство с преобладанием в западном мире, все эти авторы не видят того, что на самом деле эти две роли в истории очень редко исполнялись одними и теми же странами. Более того, похоже, что очерченный выше расклад Европы к началу Нового времени исключительно способствовал той дифференциации функций, когда именно страны, находившиеся несколько на обочине континентального баланса, брали на себя с наибольшим успехом и по преимуществу морскую экспансию и утверждение позиций европейской цивилизации на других континентах, за пределами ее географического дома. Ни Венеция, ни Португалия, ни Нидерланды, ни Англия XVIII в. не только не были «хозяевами» Европейского субконтинента, но на это даже не притязали. Португалия в XVI-XVII вв. сто лет была поглощена входившей в Габсбургский блок Испанией, а Нидерланды, с большим трудом оторвавшиеся к началу XVII в. от Испанской империи, в конце того же века спаслись от Людовика XIV, во многом благодаря защите со стороны Австрии и всей Европы, напуганной имперским размахом французов. По XIX в. «хозяева моря» не были центрами военной мощи, положение меняется лишь с выдвижением на последнюю роль Англии, а затем США. Но моделировать по образцу последнего XX в. милитаристскую динамику более ранней Европы неисторично и незаконно.
Приведу ценные свидетельства на этот счет. В 1730-х гг., когда Англия, создав свою первую морскую империю, по приведенному мнению, переживала пору своей гегемонии, ее политический деятель и идеолог лорд Болингброк обосновывал доктрину баланса сил, утверждая, что в условиях противостояния двух великих держав – Франции и Австрии – государства слабейшие, в том числе Англия, должны заботиться о равновесии между этими гигантами, примыкая к тому из них, который в этот момент выглядит слабее против явно пребывающего на подъеме. Владычица морей Англия, по Болингброку, оказывалась балансиром, вспомогательной силой в тяжбах других за их главенство в континентальной Европе [Болингброк 1978, 90].
Первичный образ европейской конфликтной системы определяется противостоянием Франции, то есть силового центра, соседствующего с Северной Атлантикой, и Священной Римской Империи (Австрии) с ее базой между Рейном, Дунаем и Карпатами. Напротив, Англия, пытавшаяся в позднее Средневековье (XIV-XV вв.) выступить как континентальная сила, забирая под себя французское пространство, после неудачи в Столетней войне, а особенно после утраты в 1557 г. последней опорной точки во Франции – порта Кале, решительно поворачивает от континента к океану, самоопределению в качестве сугубо морской силы. В Итальянских войнах Габсбургов и Валуа впервые столкнулись два панконтинентальных проекта: попытка Франции поставить под свою власть основную часть меридионального «пояса городов» (европейской оси) от Бургундии до Неаполя и строительство Карлом V «Пан-Европы» от Средиземноморья до Балтики и от Карпат до Атлантического океана с двойным выходом к нему – испанским и фламандско-нидерландским. Законченной французской альтернативой «Пан-Европе» Габсбургов становится к началу XVII в. т. н. «Великий план» Генриха IV и его канцлера Сюлли, видевших Европу будущего конфедерацией под главенством французского короля.
Так конституировалась конфликтная система, просуществовавшая до середины XX в., несколько раз менявшая поверхностную структуру при сохранении структуры глубинной, пока на переходе к Ялтинскому порядку, как я попытался показать в одной своей работе [Цымбурский 1997a], мутация не охватила саму фундаментальную геополитическую подоснову этой системы. В ее истории выделяются три вехи, разделенные 150-летними интервалами. Вестфалия 1648 г., Вена 1815 г., Ялта и Потсдам 1945 г., каждая из которых не столько переводила поверхностный расклад системы в новое состояние, сколько узаконивала перемены, уже состоявшиеся в промежутке (к числу таких вех я не отношу Версаль 1919 г.: существенно изменив облик Центрально-Восточной Европы, этот конгресс, в общем, сохранил для «коренного» Запада силовой расклад, существовавший к началу XX в., с одним лишь нюансом – выкинул из него раздробленную Австро-Венгрию и создал повод для замещения ее в роли германского сателлита на юге муссолиниевской Италией). Курьезным образом эпохи в истории системы обозначаются по вехам, зафиксировавшим именно то состояние, которое в эту эпоху изживалось («вестфальская», «венская» и «ялтинская» эпохи – это, собственно, времена преобразования порядка, зафиксированного в Вестфалии, Вене и Ялте).
Вся «предвестфальская» эпоха, от начала Итальянских войн по конец Тридцатилетней, отмечена биполярным антагонизмом сил, борющихся за свою Европу – и, подводя итоги страшной войны на измор, мир 1648 г. зафиксировал неспособность ни одного из центров добиться своих целей. Между тем, за то же «предвестфальское» 150-летие по соседству с Европой оформляются три другие конфликтные системы западной Евро-Азии, строение которых в последующие века повлияло на геополитику России. С созданием в начале XVI в. иранской империи Сефевидов Турция получает постоянного противника в Закавказье и на Среднем Востоке (условно, в русском ракурсе, я буду говорить о каспийской конфликтной системе). В Восточном Средиземноморье и на Балканах константой оказывается габсбургское и венецианское противостояние Османской Порте (утверждается региональная балкано-средиземноморская система). XVI век отмечен энергичными попытками политиков состыковать поверхностные расклады этих трех систем: в 1540–1550-х гг. французы действовали против габсбургских войск, опираясь на турецкий флот, а австрийские императоры пробовали установить контакт с шахами Ирана. И, тем не менее, при всех сохранившихся турецко-французских симпатиях, три системы после Итальянских войн функционировали раздельно, каждая по логике своего основного биполярного противостояния, хотя в то же время состояние внутри каждой из них оказывало косвенное влияние на конъюнктуру соседних систем (скажем, войны с Ираном отвлекли турок от средиземноморских дел и т.п.). Наконец, к середине XVI в. складывается система балто-черноморская, представлявшая образование подлинно многополярное не только на поверхностном, но и на глубинном уровне, в отличие от всех систем, рассмотренных до сих пор. Участие в этой системе во многом определило всю историю России и ее геополитического проектирования. Но об этом – в следующих главах.
Пока вернемся к Европе. В западных трудах фаза от Вестфальского мира до Великой Французской революции часто трактуется как классическое время многополярности. Верно ли это? В терминологии X. Моргентау, скорее, следовало бы говорить о переходе от строгой биполярности к системе двух блоков с устойчивыми ядрами (Францией и Австрией) и постоянным междублоковым перераспределением меньших союзников, причем до «дипломатической революции» 1756 г. австро-французское противостояние оставалось опорной матрицей системы. К началу XVIII в. Англия (к тому же вскоре получившая Ганновер как постоянную базу в Германии) возвращается в расклад Европы в новой принципиальной роли державы-балансира, бросая свой потенциал то на австрийскую, то на французскую чашу европейского расклада, в основном – на австрийскую, в стремлении не допустить краха традиционного восточного центра перед лицом продолжающих крепнуть французов. В ответ Франция пестует сперва Швецию, а после ее разгрома Петром I – Пруссию, как антиавстрийского агента к востоку от Рейна и поощряет вырастание Берлина в мощный центр Срединной Европы. Смысл «дипломатической революции» середины XVIII в. состоит в том, что перед лицом сближения с пруссаками страшащейся за Ганновер Англии слабеющая Австрия становится в фарватер Франции – западного центра, чтобы противостоять прусскому напору и претензиям Берлина на центрально-европейское главенство.
Происходит то, что можно назвать кризисным расщеплением восточного центра в поверхностной структуре европейской конфликтной системы. Попытки Англии после Семилетней войны вернуть Европу к старому раскладу «Вена + Лондон против Парижа» не нашли у австрийцев поддержки: они ориентировались на Францию, подозрительно следя за пруссаками, – так что Франция после 1763 г., хотя и отдавшая Англии значительную часть своих колоний, оказывается континентальным гегемоном, привязав к себе давнего антагониста, сделав его частью своей сферы влияния. Вместе с тем французы обретают недруга в лице взращенной ими самими Пруссии. Глубинный восточный центр Европы в его поверхностной репрезентации расщепляется на традиционного лидера – Австрию и претендента – Пруссию. И при этом, в зависимости от силовых группировок, по крайней мере, одна из двух сил, притязающих представлять западный центр, – либо Австрия, либо Пруссия – в каждый конкретный момент выступает олицетворением суверенности Срединной Европы и противницей центра приатлантического, французского. С точки зрения глубинной структуры позиция Франции оказывается преимущественной, ибо противостоящий ей геополитический дом разделяется в распре.
На фоне этих событий надо осмыслить процесс притяжения России XVIII в. к конфликтной системе Запада. Механику этого притяжения, связанную с судьбами балтийско-черноморской системы в XVIII в., я обрисую ниже, в гл. III. Пока лишь констатирую, что фактором, обеспечившим геополитическое втягивание России в Европейский мир, стало ослабление его традиционного восточного центра – Вены и активная русская поддержка этого центра как против Франции, так и против прусского центра – претендента. Лишь становление прочного франко-прусского альянса, перспектива перерождения Австрии во французский придаток на востоке возникающей униполярной Европы, побуждает Россию периода т. н. «Северного концерта» (1763 – конец 1770-х) поддержать альтернативный германский центр – Берлин, и, в частности, воспрепятствовать австрийцам во время войны 1777–1778 гг. за Баварское наследство поглотить Баварию.






























