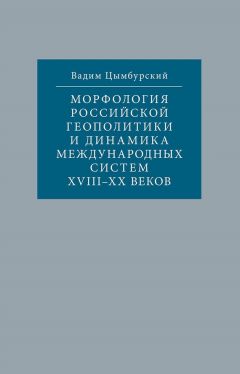
Автор книги: Вадим Цымбурский
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 38 страниц)
VII
Начало этой фазы отмечено крупнейшим шагом, который можно отнести уже к сфере концептуальной геополитики: я говорю об акте русского географического конструирования Европы. М. Бассин связывает выделение Европейской России со стремлением уподобить возникающую империю колониальным империям европейцев, но едва ли это правильно. В начале XVIII в. образ России-империи был ориентирован не на Испанию и Португалию с их владениями, но прежде всего на воспоминания о Римской державе, а в современности – на пример Священной Римской Империи германской нации, прежде всего на державы континентальные, без ясного разделения на европейскую метрополию и заморские колонии. Думаю, дело в другом. Неопределенность европейского представления о западных границах материка, произвольные попытки проводить эти границы по тем или иным, часто искусственно связуемым участкам восточноевропейской и сибирской речной системы от Двины до Оби (отмечу оригинальную попытку И. Гмелина выделить «Европу до Енисея») оборачивались полной неопределенностью относительно российской причастности к европейскому миру. На этом фоне традиционная донская граница получила преимущество хотя бы исторической укорененности. Однако с принятием этой границы основной массив России оказывался за пределами европейского мира, Россия как бы цеплялась за узчайшую его каемку, массой своей опускаясь в Азию. Так получалось, если всерьез принимать донскую границу Европы, остававшуюся для русских к тому же границей чисто книжной, произвольно деформирующей их географические интуиции. Напомню здесь карту России Я. В. Брюса и Ю.А. Менгдена, напечатанную по указу Петра I Я. Тессингом в Амстердаме в 1699 г. Изгиб Дона оказывается крайней восточной границей карты, Смоленск и Москва попадают на ее северную окраину. Таким образом, в поле внимания европейцев оказывается крохотный кусочек русского пространства. Таким образом, введение России в Европу ставило задачу более приемлемого для русских переопределения восточных пределов Европы.
Эта задача, собственно, была решена В.Н. Татищевым и консультировавшимся с ним в 1720 в Тобольске и в 1726 в Стокгольме шведом Ф.-И. Страленбергом. За основу разделения материков берется Урал (Великий Пояс), т. е. рубеж, на континенте давно известный русским, отделяющий доуральскую равнину от Сибирской. Еще в XV в. русские различают пространства «до Камня» и «за Камнем». Таким образом, привычное для русских членение обживаемого ими пространства используется в целях совершенно не русской до XVIII в. задачи географического конструирования Европы, так что в Европу попала вся до того времени «ядровая» Россия. Надо иметь в виду, что базой петровских реформ в экономике (петровской индустриализации) послужила эксплуатация лесных богатств Урала (древесный уголь) – база для металлургии. Несомненно, этот сдвиг стоит за обостренным интересом Татищева к природе Урала – отсюда наблюдения за особенностями доуральских и зауральских пространств, служащие ему аргументами в конструировании рубежа Европы (водораздел породы рыб и т. п., а особенно сравнение ареалов распространения дуба и кедра (кедровой сосны)). Позднее даже евразийцы, стремящиеся связать доуральскую и зауральскую Россию, будут вынуждены признать главное различие этих массивов – резкий сдвиг за Уралом хвойных лесов к югу, к границе степей, с выпадением лиственных лесов. Вопрос о границе Европы к югу от Урала остается спорным. Страленберг проводил ее по реке Урал через Каспий и по предгорьям Кавказа; Татищев то с ним соглашался, то предпочитал вести границу по низовьям Дона, затем по р. Камышинке, по рекам Волге и Самаре к Уралу. Здесь всё произвольно, ибо русская интуиция не усматривала на этом пространстве ясных членений.
Итак, пафос Европы как части света, которая «по обилию, наукам, силе и славе, якоже и умеренностию воздуха безспорно… преимуществует» над всеми прочими частями света, в текстах Татищева оказывался поддержан включением исторической ядровой России в это пространство, да еще на основах, отвечающих исконно русскому критерию членения этих протяженностей. Бассин прав, когда с этими трудами связывает появление «Атласа Всероссийской империи» Ив. Кирилова, а затем и «Атласа Российского» Академии наук (1745), в которых Уралу принадлежит ключевое положение как центральному шву, соединяющему как бы приравненные друг к другу два российских массива. Новая конструкция внедрялась медленно: еще Ломоносов принимает Дон за рубеж России, а Екатерина II в 1760-х называет свою поездку по Волге «путешествием в Азию». Тем не менее, модель Татищева-Страленберга утверждается к концу столетия именно потому, что отвечает геополитическому заданию утверждения России в европейском пространстве: она обслуживала тезис Екатерины II о России как «европейской державе». Между прочим, сама Екатерина в обосновании этого тезиса опиралась на климатическую теорию Монтескье. Как известно, в центре этой теории лежит различение северных народов как свободолюбивых и воинственных и южных – как изнеженных и податливых к деспотии. По Монтескье, главное различие между Азией и Европой в соотношении климатических типов, детерминированных климатом. В Европе плавный переход от севера к югу приводит к тому, что сосуществующие народы сходны по темпераменту, и нет оснований для деспотического господства северян над южанами. Азию он считал лишенной умеренного климатического пояса, и потому здесь наблюдается расцвет деспотизма северных завоевателей. Россия оказывалась в северном поясе вместе с Северной Европой, тем самым причислялась к свободолюбивым народам, хотя московская знать «и была обращена в рабство одним из своих государей, но в ней все-таки постоянно замечаются признаки неудовольствия, которое не встречается в климатах юга» [«Дух законов», кн. XVII, гл. 3 <[Монтескье 1955, 389]>]. Опираясь на эти выкладки, относящие Россию к народам северного типа, обитающим в условиях вне прямого соприкосновения с югом, т.е. не благоприятствующих развитию рабства, Екатерина II объясняла успех европеизации тем, что европеизировался, собственно, народ, по климатической онтологии уже принадлежавший к европейскому миру, ибо допетровские «нравы … совсем не сходствовали со климатом и принесены были к нам смешением разных народов и завоеваниями чуждых областей» (мы бы сказали – напором на Россию из глубин Евразии и в свою очередь евразийской экспансией России). «Петр Первый, вводя нравы и обычаи европейские в европейском народе, нашел тогда такие удобности, каких он и сам не ожидал». Итак, конструировалась климатически прилегающая к Европе исконная Россия, а отклонение от Европы объяснялось взаимодействием с соседними пространствами и народами, не принадлежащими к европейскому кругу. Собственно, это шло в одном направлении с конструированием Европы до Урала, вычленением из России пространства, вписывающегося в Европу, с опорой на Урал и Зауралье как базу этого самоутверждения.
VIII
Таким образом, в отношениях с Европой можно говорить уже о закладывании онтологии под геостратегические проекты, в отношениях к Азии и евразийским пространствам дело обстоит иначе. Как мы видели, сдвиг центра российской индустрии в глубь страны и на восток к Уралу парадоксально преломился в осмыслении Урала как мнимого «предела Европы» (парадоксальны наблюдения П.Н. Савицкого над тем, что «русский рудник» видится где-то на окраине «русского мира»). Если говорить о Сибири и Дальнем Востоке, можно отметить пафос описания, разведывания этих мест, идет увлеченная достройка карты России и смежных краев, прощупываются географические отношения и заключенные в них возможности вплоть до создания Российско-американской компании. И тем не менее, вся эта освоительная кампания очень редко обнаруживает намеки на политический смысл.
Общеизвестно увлечение Ломоносова северными проектами, его вклад в разработку структурной географии, позволивший ему предсказать ряд особенностей побережья Северо-Восточной Азии и тогда еще не разведанной Северной Америки. Можно вспомнить и то, что как противник норманнской теории происхождения русской государственности, Ломоносов активно отстаивал предполагаемую южнорусскую, степную версию происхождения русского народа, связывая его обозначение с именем скифов-роксоланов. И, однако, эти его увлечения не выливаются в какие-либо политические проекты, связанные с востоком. Мотивы приращения российского могущества Сибирью, усиления славы Империи через разыскания торговых путей остаются неразвернутыми намеками. Восточное пространство нуждается в доосвоении, детализации, достройке, но оно реально в XVIII в. не осмысляется как фактор политической, международной мощи. Когда же речь все-таки заходит в этом ракурсе, обнаруживаем опаску, связанную, прежде всего, с осознанием слабости позиций России на этом направлении; характерна инструкция Сената в 1732 г. Берингу: идти ему, Берингу «на морских судах… для проведывания новых земель, лежащих между Америкою и Камчаткою, также от Камчатского носа островов продолжающихся к Японии» для установления торгов и наложения ясака на народы, никому не подвластные; «токмо того накрепко остерегаться, чтоб в американские и азиатские такие места не зайтить, где уже владение европейских государей или китайского богдыхана и японского хана есть, чтоб не войтить в подозрение и не открыть бы к Камчатским берегам своим приездом пути, о котором они поныне не известны, а наипаче в нынешнем тамошнем малолюдстве чрез ту причину не заняли нужных пристаней».
IX
Основные тенденции этой эпохи: прорабатываются по преимуществу «системы», варианты союзов. В той или иной форме проблема отношения к европейскому бицентризму и вместе с тем – к пространствам балто-черноморского пояса. Вероятно, важнейшая тема – столкновение России с попытками создания западным центром т.н. «восточного барьера», который в это время, да и много позднее, виделся как нацеленный по одну сторону против России, против допуска ее в Европу, но также и против традиционного восточного центра. Запад Балто-Черноморья переосмыслялся в барьер, угрожающий Вене; но усиление стран барьера, к тому же сконфигурированных в виде союзников, означало вызов России, отбрасывание ее вглубь континента. Таким образом, сближались интересы России и восточного центра (Вены), Россия выступала на стороне восточного центра Европы, еще не имея с ним прямого соприкосновения, с целью предотвратить опасные для себя процессы в балтийско-черноморской полосе. Первая система – это система для России, отделенной от европейского пространства, сдвинутой вглубь материка и яростно противодействующей усилиям консолидировать запад БЧС (в целях окружения восточного центра – в видах отбрасывания России), стремящейся сохранить контроль над западом БЧС, но на особых условиях – не интегрируя их в Россию, но рассматривая восточный центр как собирателя этого пространства и, затем, яростно противодействуя попыткам субцентра – претендента выступить таким собирателем.
Вторая фаза – момент, когда западный центр возобладал, превратив старый восточный центр в своего сателлита. Коренная Европа на пороге монополярности. В этих условиях делаются попытки избегать ставки на центр-претендент, но фактически преобразовать балтийско-черноморскую периферию в целостное поле, противостоящее консолидированной «коренной» Европе. Фактически за противопоставлением юга и севера – оппозиция центра Европы и периферии с притягиванием Англии – державы балансира и «опрокидыванием центра». Провал, прежде всего, в связи с тем, что Турция – крупнейшая сила балтийско-черноморской зоны – не вписывалась в эту систему, и пространство осталось недоинтегрированно. Более того, прояснился фундаментальный факт – невозможность собрать БЧС против «коренной» Европы с Австрией, поскольку фактически Австрия уже втягивалась в БЧС на пустое место. И, однако, Северный аккорд исключительно важен как первая попытка представить метасистему «Европа – Россия» в виде баланса двух Больших пространств – собственно-европейского и около-европейского, из которых второе должно было быть собрано с опорой на Россию.
Третья система – т.н. «греческий проект» – отражала парадоксальную ситуацию, возникшую после Семилетней войны, когда цикл фактически заходит в тупик: в Европе – нежесткий униполь, но фактически наступает милитаристский паралич, и вся игра идет в Балто-Черноморье, расширенного за счет средиземно– и греко-дунайского пространства. Собственно, это время, когда система «Европа-Россия» приостанавливает деятельность и за счет государств-дицентров Центральной Европы оживает БЧС, возникает странное положение, когда балтийско-черноморская игра преподносится на глазах Европы и старые мотивировки («идем в Византию!») смешиваются с европейским антуражем классицизма. Беспрецедентность.
И, наконец, возобновление европейской милитаристской игры в условиях, когда Россия уже подошла впритык к членам новой БЧС – восточным субцентрам Европы, когда фактически была демонтирована та особая зона (старая БЧС), на использовании которой, ее обустройстве в интересах России основывались отношения последней к Европе. Рядом с Россией – Европа, и в ней идет война, причем западный центр движется к гегемонии, перенеся свою активность и в Средиземноморье, где Турция переосмысляется в подбрюшье Европы. Это момент, когда втягивание России в игру поднимает массу вопросов, сводящихся к альтернативе: либо бескорыстная игра ради поддержания структуры Европы – мера, влекущая существенные разочарования в следствиях бескорыстия, либо попытка выстроить для России автономное пространство игры за пределами европейского театра. План Ростопчина исходил из представления о Турции как пространстве вне Европы, тогда как на деле в это время она уже трансформируется в европейский «довесок». Более интересна та идея индийского похода, в которую Павел трансформирует замысел перенести игру в азиатские районы Старого Света вне Европы, причем Балканы, собственно, предстают как край полосы. Виток, при котором игра России происходит за пределами материковой Европы: Азия и море. Результат Суворовских походов – бесперспективность дальнейшего разыгрывания роли вспомогательной силы. Фактически уйти не получилось, оставалась лишь одна возможность – осмыслить войну как ведущуюся не просто в поддержку восточного центра, но нацеленную на реконструкцию востока Европы, за новый порядок.
Здесь прорезается некий общий сюжет, который будет повторяться в соответствующих фазах будущих циклов. Стимулом к вхождению России в игру на правах сателлита одного из европейских центров служит пафос приобщенности к европейскому сообществу. И, тем не менее, прямым мотивом к этой игре становится некоторая программа обустройства балтийско-черноморского околоевропейского пространства. Существенно для этой фазы – столкновение моделей обустройства БЧС как российского пространства с планами создания противороссийского «восточного барьера» на входе полуострова. В условиях, когда «политически промежуточных пространств не остается, характерно колебание между планами поворота на юг», действиями в диапазоне от Балкан до Среднего Востока, или поддержкой одного из центров, но в перспективе большой реконструкции Балто-Черноморья, с прилегающими участками Балкан и Ближнего Востока. Это – собственно балтийско-черноморская фаза нашего цикла, в том смысле, что основные игры – именно в этой полосе, европейская игра рассматривается как путь к реорганизации этого пояса, а евразийские ходы, в той степени, в какой они имеют политический смысл, – либо жесты разочарования, попытки нащупать альтернативную программу, либо подсказки со стороны европейского центра, не заинтересованного в российской игре на субконтиненте, и пытающегося переориентировать русских на юг. При этом опять же кризисным узлом оказываются Балканы и проливы, участок, который с точки зрения западных центров – подбрюшье Европы, но который так или иначе образует восточный фланг поля российской «альтернативной игры». В это время на западе – конкуренция сил, заинтересованных в притяжении России к игре в Европе, пусть даже под лозунгами обустройства в БЧС полностью или частично, и теми силами, которые пытаются удержать ее вне Европы, сооружением барьера или перефокусировкой. Фаза А цикла I демонстрирует ту значимость, которую в этих случаях играет вопрос о российской столице: центры, трактующие Россию как суверенную силу, которую следует развернуть прочь от Европы, поддерживают те формы национального протеста, которые связаны с отдалением от Европы, в частности, со сдвигом столицы на восток. Эпизоды: перенос столицы Петром II приписывают английским деньгам, французское лобби в начале 1740-х не только укрепляет фронт от Стокгольма до Стамбула, но и поддерживает национальное движение против засилья <немцев>, в том числе подыгрывает вариантам возврата столицы в Москву, видя в этих тенденциях залог разрыва России с восточным центром и уход ее по другую сторону «восточного барьера». Наоборот, для восточного центра, заинтересованного в российской поддержке, само по себе возвращение императорской резиденции в Петербург, силовое возобновление натиска на «восточный барьер» приравнивается к солидной субсидии от России или к выставлению с ее стороны союзного контингента.
Все в этом поле. На других участках лишь частные прорывы, которые обретут смысл в свете будущего опыта. Готовность в 1730-х уступить кавказские плацдармы Ирану – лишь бы предотвратить утверждение Турции на Каспии и в устье Волги, иначе говоря, разбухание юго-восточного центра БЧС с выходом в тыл России: Иран как объективный союзник России. Можно вспомнить и строительство Оренбурга – шаг, отсекающий башкирские области от пояса степей, отделяющий «Евразию вокруг России» от «Евразии внутри России», обеспечивая России доминирование над «внутренней Евразией». И, наконец, всплывающая в этом веке тема «Новой России», формирования дополнительного российского пространства у коренной России. Основатель Оренбурга Кириллов писал Анне Иоанновне о Сибири – «Новой России», созданной в ее царствование. Однако к концу века понятие «Новороссии» закрепляется за причерноморскими землями, отторгнутыми у Турции, – пересечением «старых осей» Балто-Черноморья. Альтернативы экспансии – вне системы «Европа-Россия» или на земли, «высвобождающиеся» при метаморфозе балтийско-черноморской системы. Вне Европы или в европейское подбрюшье, у входа в Средиземноморье. Последний вариант побеждает. Кризис, одоление кризиса, инициатива по реконструкции Европы.
X
Итоги эпохи
Особенность эпохи – на протяжении значительной ее части балтийско-черноморская международная система функционирует, не слившись с европейской. Более того, к концу столетия, когда БЧС обновляется и достраивается за счет Пруссии и Австрии, европейский стратегический пат обуславливает то, что эти государства функционируют не как члены европейской системы, но в качестве компонентов БЧС. Лишь в конце века, когда Запад охвачен новым милитаристским пиком, Россия оказывается впритык к Европе, сотрясаемой борьбой за гегемонию.
Таким образом, эпоха характеризуется тем, что восток Европы сливается с западом БЧС, германские государства начинают перерождаться в новый европейский буфер. Это быстро осознают политики и дипломаты господствующего центра – Франции: уже в 1762 г. граф де Брольи, руководитель «Королевского секрета» Людовика XV, писал о силах, которым предстоит сдерживать Россию у порога Европы: «В настоящее время глубоко оскорбленная Австрия, завтра, возможно, Пруссия, которая, хотя и пользуется Россией, чтобы закрепить свои завоевания, не может желать допустить такую державу в сердце Германии, и Турция, включая все Татарские племена, отнюдь не самое бесполезное орудие, которое можно использовать против Московитов» [Зорин 2001, 84]. Заметим, что ни Польши, ни Швеции нет в этом раскладе, а германские центры оказываются в одном ряду с Турцией и «татарскими племенами» на правах буферов Европы. В мае 1763 г. в Королевском совете Людовика XV обсуждается внешнеполитический курс: вывод – отказ от вмешательства в судьбы Польши, от восточного барьера против Австрии. Предполагается, что даже в случае раздела Польши баланс будет обеспечен взаимодействием Австрии, Пруссии, России и Турции [Соловьев XIII, 269–270]. Страны восточного центра всё больше в глазах приатлантического Запада выталкиваются в позицию нового восточного барьера, по мере того как старый барьер сломлен давлением России.
Как уже говорилось, геополитическая мысль России в эту пору воплощается почти исключительно в «системах», создаваемых наверху и претворяемых в реальную политику в планах межгосударственных союзов, отражающих процессы перестройки двух систем и процессы на их стыках. Общие схемы: союз со слабеющим восточным центром ради контроля над западом прежней БЧС (политика Остермана-Бестужева: «система Петра Великого»); попытка собрать север БЧС, включая Пруссию, в пространство вокруг России с опорой на Балтику, противостоящая консолидированным центрам (униполю) коренной Европы (Северный аккорд); воскрешение планов последних Московских царей в рамках ожившей новой БЧС, достроенной за счет германских государств. Поворот с начала новой милитаристской эпохи Запада, явное превалирование западного центра. В этих условиях наблюдается колебание между политикой искусственного взращивания восточного центра как авангарда России против Запада (Павел в 1798–1799, Александр по 1807) и отходом из Европы, попытками вступить в соглашение с западным центром, оставив между ним и Россией германские державы как буфера.
Но при этом, во-первых, мы видим, как центр Европы организует новую подстраховку против России, воссоздавая старый восточный барьер; во-вторых, земли старой БЧС переосмысляются в пространство Европы, тем самым Россия оказывается «обкладываема» с юго-востока. Все попытки договориться с лидерами Запада о размежевании сфер влияния, о конструировании особого Большого Пространства России кончаются тем, что Россия вынуждена иметь дело со стратегией отбрасывания ее от Балто-Черноморья.
Вначале это отбрасывание с опорой на национальную традицию, попытка возбудить в России отталкивание от Европы, оформить протест против петровского дела переносом столицы в Москву и т. д. (Вернуться к традициям московских царей можно было, лишь признав проигранной их игру.) К концу века отбрасывание России облекается в «евразийские» схемы (план Талейрана, предложение Наполеона российским императорам). Нельзя отрицать, что в этом веке были мыслители и практики, увлеченные достройкой России на востоке (пути через Северный морской путь и через Центральную Азию). Достройка шла, она могла вдохновлять политиков и поэтов на мечты об индийской торговле и т. п., но отойти в Евразию значило создать совсем новые системы связей, новые отношения, между тем как в Балто-Черноморье игра была напряжена и не закончена. Тема «Новой России» разыгрывается в степях, прежде всего черноморских, на южной окраине системы.
Итак, с разрушением автономного Балто-Черноморья выбор стоял между двумя сценариями: отбрасыванием в Евразию (или добровольным уходом, но тогда непременно с присоединением к Евразии выхода в Черное море и части Балкан) – либо борьбой, где один из центров Запада опирался бы на Россию, которая, в конце концов, становилась бы гарантом Европы (отсюда – «Завещание Петра Великого» и т. п.), боязнь остаться в «ауксилиарных» державах. Такие образования, как «Северный аккорд» и «греческий проект» в их конкретике порождены историческими перипетиями фазы, как бы паузой в истории европейского милитаризма. Таким образом, в этот период мы имеем действия России на входе в Европу с двумя мыслимыми развязками, из которых проистекал выбор: отойти в Евразию (отступление в национальную нишу) versus вхождение в европейскую игру в качестве опоры более слабого центра. В промежутке – попытки сконструировать на стыке Европы свое Большое Пространство, северное или южное.
Мог ли бы я повторить то, что написал три года назад насчет «похищения Европы» как подоплеке нашей геостратегии? Не однозначно. Несомненно, что голштинское сватовство Петра продиктовано стремлением в любом качестве «зацепиться» за европейский мир, так же как и его военные акции 1710–1716 гг. Все позднейшие игры – смешение прагматического и идеального компонентов. Несомненны попытки достроить Балто-Черноморье, предотвратить варианты, при которых запад этого давнего «мира России» был бы развернут против нее. А с другой стороны, сами средства – не перехлестывали ли за грань цели? Союз с Австрией против Франции, конструирование Северного аккорда как противоцентра европейскому униполю; наконец, «греческий проект» – можно ли было предотвратить странное склеивание систем в условиях деградации запада БЧС (игра в Восточную и Западную Империи в рамках «греческого проекта»)? Игры в противоцентр (Северный аккорд и т. п.). С другой стороны, мотив центра, вынесенного за пределы России, конструируемого и полагаемого ею, дополнительно к ней, опирающегося на нее, но с нею неслиянного («греческий проект»; планы России как «гаранта Европы»), – <игры>, объективно превращающие Россию в чье-то орудие против чьего-то самоутверждения.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































